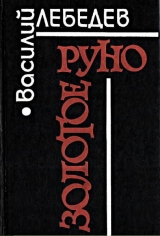
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
– Вот так, – прозвучал опять голос княгини. – С этим письмом вы обратитесь по указанному здесь адресу, и, я уверена, вам помогут. Человек, которому я пишу, близкий друг моего покойного мужа, генерал-губернатор финляндский, оказал некогда существенную помощь.
– Помощь?
– Да. Этот человек привлекался по серьезному делу отравления…
– Отравления?
– Не пугайтесь, я вас рекомендую не уголовнику, а вполне порядочному человеку. Отравление это было пищевое, покупатели отравились его пирожными.
– Так вы меня, к пирожнику?!
– Вы считаете, что я располагаю выбором? Или, может быть, вы им располагаете?
– Да, да… Благодарю вас, и простите меня… Я подумаю. Я подумаю.
– В такое трудное время не приходится много раздумывать. Да, кстати! Зачем вам этот денщик! Ради чего вы будете кормить такого дубину, когда сами бог знает на кого похожи? Гоните вы его! После того что случилось с нами в России, я терпеть их не могу!
«Ах буржуйка, мать-таканы! – встрепенулся Иван, и ему до слез стало обидно за то, что ошибся в этой барыне, что связывал с ней свои мечты о доме, – Буржуйка… Попалась бы ты мне в Питере той осенью!..»
Княгиня простилась с Ознобовым, а он шел за нею и все повторял упавшим голосом: «Я подумаю… Я подумаю…»
Иван слышал, как он вернулся в комнаты, как налил вина, а потом послышались звуки, напоминавшие тяжелый, захватывающий кашель, как от крепкого табака, все чаще и чаще…
За стенкой плакал ротмистр.
Иван решил, что служба его кончена, достал из-под кровати мешок, развязал его и ухмыльнулся. В мешке оказались серебряные царские рубли. Он еще постоял над деньгами, подумал, потом взял пригоршню, как семечек на дорогу, и ушел не простившись.
Было около десяти, но солнце все еще висело над крышами домов, огненно плавилось в куполе русского собора и нежно румянило серую массивную кирху. Город затихал, и хотя день еще не угас, но по редким звукам – по короткому, усталому грохоту колес на булыжной мостовой, по крику вечернего поезда на вокзале, даже по ленивому плачу ребенка из открытого окна – по всему чувствовалась вечерняя истома города, пережившего еще один трудный день.
Давно Иван не был в таком плохом настроении, давно не чувствовал себя таким обманутым, обиженным, опустошенным. Он и сам не понимал, что с ним, да и не мог понять. Ему впервые за эти месяцы на чужбине приоткрылась правда его собственного положения, его бессилие изменить что-либо. После крушения его наивной мечты возвратиться на родину осталась только одна суровая действительность, всей предстоящей сложности которой он еще не мог предугадать.
«Напиться, что ли, или зарыдать, как ротмистр?» – мелькнула нехорошая мысль, но Иван поборол ее.
* * *
По заводу поползли слухи, что кончаются запасы зерна, а это значило, что завод может остановиться и не будет работы. Зерно завозили небольшими партиями из разных стран Европы и частью – с внутреннего рынка. Иван слышал, что с тех пор как Россия начала войну с Германией, с самого четырнадцатого года, на пивном заводе не было бойкой работы – все перебои, увольнения.
Однажды – это было в конце лета – Иван пришел на работу, как обычно, одним из первых, сел на свое место под навесом, посторонился от ветра и принялся за дело. Он так увлекся и так привык не обращать внимания на окружающих, что не сразу понял, что в бригаде бондарей произошло нечто нехорошее. Мимо Ивана прошел пожилой финн, сгорбившись и понурив голову, в руках он нес свой инструмент, перевязанный бечевкой.
– Отработал, – пояснил Ивану один из русских. – Уволили.
– А почто его? – спросил Иван.
– На заработки жаловался, а это конторе не по носу.
Вот оно как…
Иван вспомнил сухощавое лицо хозяина завода, его добрую улыбку, золотые зубы, мягкую, лисью походку и почувствовал, что все в том человеке обманное, коварное.
– Буржуи, мать-таканы! – воскликнул он и бросил молоток.
– Ты потише, Иван! Бригадир смотрит. Чего ты тут мычишь, как теленок?
Иван на минуту задумался, но в глазах у него встал белобрысый малыш, сын уволенного. Мальчик прибегал частенько на завод, протискиваясь в щель забора, и смотрел, как работали бондари. Было у того финна и еще человек пять детей. Иван понимал, что их ждало, поскольку отец не имел своего хутора.
– Сам ты теленок! Да еще «потише»! Я такое видывал, чего тебе… Теленок! Да мы этих буржуев!
– Тише!..
– Что «потише»? А я не боюсь! – неожиданно для себя вскричал Иван, заметив, что рабочие прислушиваются. – Я видывал таких буржуев в Питере, мы их так трясли, что я те дам!
Финны с серьезным интересом перешептывались, а Иван продолжал:
– Взять их всех да и смахнуть, как у нас было, в Питере, и весь тут сказ! Мужик без куска хлеба остался, а им, буржуям, и трава не расти!
Иван, сидя на бочке, оглядел присмиревших рабочих и впервые ощутил себя в увлекательной и совсем не страшной роли оратора, только почему-то слегка захватывало дух, как на шлюпке в волну.
Кто-то из финнов с почтением приблизился к Ивану и поднес ему целую кружку пивных дрожжей. Иван выпил и успокоился. На следующее утро его вызвали в контору, а через час он уже собрал инструмент, связал его бечевкой и ушел, уволенный.
«Нам рефолюций не ната, тофарищ Ифан Красный!» – многозначительно заявили ему.
Это было ошеломляюще. Даже в самую бессмысленную пору своей жизни – во время службы на флоте – он видел и надобность, и некоторый смысл своего существования, когда драил палубу, чистил оружие или стоял на вахте. А что теперь? Неужели он, Иван Обручев, имеющий руки, ноги, голову, не должен работать, и по какому это закону? Он не нашел ответа и показался сам себе не здоровым мужчиной, а беспомощным ребенком, которому противостоит какая-то непонятная и грубая сила. Сразу захотелось увидеть Шалина, поговорить с ним всерьез о доме, о планах на возвращение.
Но Шалин не появлялся.
Теперь Иван уходил из дому поздно. Он бродил по городу в поисках работы, но ничего не мог найти, кроме случайных шабашек на срочных выгрузках мелких суденышек в порту. Домой приходил угрюмый, в свой угол старался пройти незаметно, однако это ему удавалось редко, поскольку ребятишки Ирьи замечали его и не как раньше – с криком радости, а молча провожали взглядом его коренастую, пахнущую рыбой и мазутом фигуру. В этих случаях Иван старался не оглядываться… Он не мог обмануть их чутья и тогда, когда он после долгих раздумий решался купить им дешевых конфет из своих тающих на глазах денег. Ребятишки принимали подарок, но еще серьезнее становились при этом. Да что удивительного? Дети Ирьи уже знали нужду.
Иван старался не падать духом, упрямо ходил в порт. Со временем примелькался. Его знали рабочие-финны, и кое-кто замечал из начальства, поэтому, когда в порт стал прибывать товар для отгрузки – строительный лес, Ивана взяли в бригаду грузчиков.
Но недолгим – всего несколько часов – было счастье Ивана: в первый же день его придавило бревном.
Со сломанной ногой его привезли в домик к Ирье на лошади. Ирья сбегала за доктором. Доктор прощупал ноту, показал один палец, что означало: сломана одна кость, наложил с двух сторон деревянные шины, забинтовал потуже, взял деньги и ушел.
Больше месяца вылежал Иван в постели, прежде чем начал двигаться. Немного погодя стал делать по дому мелкую работу – мел полы, мыл посуду. Из порта приходили один раз рабочие – на первой неделе – и больше не появлялись. Деньги Ивана подходили к концу, и он все чаще и чаше подсаживался по приглашению хозяйки к их бедному столу. Ребятишки не чувствовали в русском родного человека, понимали, что это нахлебник, и ожесточились против Ивана. Теперь он днями не выходил из своего угла, все ждал Шалина.
И наконец тот появился.
В сумерки распахнулась дверь, и вместе с осенним холодом прямо к кровати шагнул Шалин в жесткой рыбацкой робе.
– Здорово, земляк! А ну, хватит валяться – сбегай за водкой!
Иван не мог справиться с радостью, с волнением, с ненавистью и с теми словами, которые он сотни раз повторял воображаемому Шалнну, стыдя его за обман, за то, что забыл его, что не отдал деньги.
– Ты чего это уставился, аль кондрашка тебя хватила?
– Изувечило меня, Андрей Варфоломеич. Нога… Бревном… А деньги? Деньги-то, слышь?
– Какие там деньги! Тряхни мошной! Деньги! Улов был – ни к черту, а ты – деньги!
Иван не верил ему, он не мог верить. Нужны были деньги, и стремление вырвать у Шалина долг затмило все остальные желания и мысли, ранее теснившиеся в душе Ивана.
– Ирод! Ирод ты! – затрясся Иван, путаясь в одеяле и стараясь встать, чтобы дотянуться до Шалина. – Завел, ирод! Ограбил! Деньги, деньги давай! Деньги!
Шалин хотел оттолкнуть его, но лицо больного было полно злобы, отчаянной решимости и пылало такой ненавистью, что Шалин не осмелился ни ударить, ни толкнуть его обратно в постель.
– Сколько раз брал! Сколько пил-ел у меня – не в счет? А я теперь с голоду подыхай! Отдай деньги. Иуда! Отдай! Не будет тебе счастья ни на том, ни на этом свете! Отдай!
Шалин отскочил к двери и, сгорбившись, юркнул в нее, только шаркнула по косяку его рыбацкая роба.
* * *
Иван вернулся в порт после болезни и там узнал, что на его месте работает другой человек. Рабочие указали на статного белокурого шведа, угрюмого и оборванного. «Всем есть надо», – смиренно подумал он, но тоже попросился в бригаду. Однако рабочие только развели руками, а начальство, до которого он дошел, даже не посмотрело в его сторону. В конторе стоял гвалт, все что-то доказывали, подбегали к окошкам, кричали, а сам хозяин потрясал блокнотом, но в глазах таилась и сладко таяла услада хорошей наживы. Иван хотел обратиться к нему, но тот поморщился, и Ивана вытолкали на лестницу.
Все началось сначала.
Он опять бродил по городу и порту, перебивался случайными заработками, выходя в город, как на охоту, но чем ближе приближались морозы, тем труднее становилось найти место, потому что из хуторов в город возвращались сезонные рабочие. Иван чувствовал это по сутолоке в предрассветных сумерках у ворот заводишек и фабрик, у магазинов, у пилорам, в том же порту, но продолжал верить в удачу.
И удача пришла.
Однажды он возвращался на ночлег, и вдруг его потянуло в переулок. Сила этой тяги была так сильна, что Иван сам изумился. Остановившись, он сообразил, что его тянет на вкусный запах свежего печеного хлеба. И он пошел на этот запах. Его пропустили в ворота хлебопекарни. Кто-то из пекарей бросил ему обломок горячего батона. Иван за это поколол им дров. На следующий день повторилась эта сделка, а еще дня через два Ивана взяли на эту работу. Его делом было колоть и возить дрова на тележке прямо в горячий цех и топить печи. Там, в цехе, он полностью подчинялся пекарям, весело покрикивавшим на Ивана, чтобы не отпускал или еще наддал жару. Плата здесь была меньше, чем на пивном заводе, зато на пекарню можно было идти без завтрака и приходить с работы не голодным: булки да чай с пригоршней сахара, что давали пекаря, – еда, хотя и однообразная, но еда.
В первый же день на Ивана свалилась приятная неожиданность: на пекарне, у печки, он встретил ротмистра Ознобова. Его было не узнать. В белой куртке, в белой косынке вместо обычного колпака, в белом же, но сильно захватанном переднике, с грязным полотенцем-прихваткой в руке он был неузнаваем, а синие, очень короткие штаны, обнажавшие сухие ноги, обутые в растоптанные тапки, делали его немного смешным и даже жалким.
– Антей! – с радостью воскликнул Ознобов и сразу смутился, заметив удивленный взгляд Ивана. – Вот видишь, работаю. А это косынка, колпак-то я прожег, другого не дают, а тут такое дело, оказывается: голову, то есть волосы, закрывать надо.
– Ну вот, вы теперь и при деле, – сказал Иван и неторопливо, безбоязненно осмотрел ротмистра.
Бледное лицо этого бывшего офицера было сейчас нездорово-багровым, пот струился из-под косынки и мелкими струйками стекал по шее на голую грудь, открытую ниже первого ребра, по локоть открытые руки покрыты страшными ожогами от раскаленных листов. Свежие ожоги были багровы, вчерашние – синие, старые начинали желтеть и шелушиться. В лице опять проступила знакомая боль – в бровях, в морщинах по углам губ.
– Я это только так. Пока. По письму княгини устроился, а вот получу из Франции деньги и махну туда. Может, вместе, а?
– Куда уж мне! – отмахнулся Иван и подумал: «И чего ради врет?»
– Полковник! Горят! – по-русски крикнули из глубины пекарни.
– Бегу! – откликнулся Ознобов и бросился к печам, сверкая в полумраке голыми ногами.
– Ифана! Тафай трафа! Пальшой аконь ната!
– Дам большой огонь, дам! – откликнулся Иван и улыбнулся от того, что здесь так весело работать.
Ему здесь начинало нравиться, огорчало только одно – ругань и окрики старшего пекаря, злого жилистого финна, страшно матерившегося по-русски. Однажды Иван сидел на пустом ящике у входа в горячий цех и с наслажденьем ел горячие булки, целую дюжину которых высыпал ему ротмистр в дровяную тележку, чтобы скрыть подгоревший товар. И в тот момент, как назло, прошел старший пекарь, набросился на Ивана с руганью, потом побежал и сделал ревизию выпечки. У ротмистра Ознобова не хватило, и тот потом жаловался Ивану, что его бранили и пригрозили увольнением.
– Скорей бы в цех перейти, ей-богу! Там хоть не будет этой ужасной жары, этого чертова брака и ожогов, – сетовал ротмистр.
Но Ознобова перевели в цех только к весне. Но и после перевода в цех Иван заметил в своем знакомом новые сомнения. Тот опять жаловался на сложность работы, на усталость, на отсутствие аппетита.
– Ты зайди ко мне с утра, когда нет главного пекаря, я тебе покажу нашу работу, – сказал однажды ротмистр.
Иван зашел на следующий день. Перед входом в цех его почистили от опилок и древесной коры, накинули прожженный фартук и ввели в небольшое душное помещение с двумя узкими, высокими и зарешеченными окнами. На низких подставках, у стены, покоились тяжелые деревянные чаны с тестом, а напротив стояли длинные, запудренные мукой – уже готовые к работе – столы с низкими бортиками. В воздухе пахло киселью подошедшего теста и жженым маслом от прогоревших черных листов, сваленных на полу в большую кучу, которые мальчонка, лет четырнадцати, со страшным скрежетом скоблил ножом, смазывал черной промасленной тряпкой и ставил в стеллажи.
– Чертова работа! – сокрушался ротмистр. – А платят нам мало, тут большевики правы. Да-с!
Как-то ранним утром Иван растоплял печи. На пекарне, кроме дежурного пекаря, ставившего первую партию теста, никого не было, а дежурным был как раз ротмистр, очередь подошла. Иван любил этот ранний час, в это время можно было свободно ходить по пекарне, никто не крикнет и не прогонит. Ротмистр сидел с Иваном на ящике и ждал, когда согреется вода для теста. Иван заметил, что приятель навеселе и многовато.
– Скоро, брат Антей, во Францию я поеду. На пароходе, в первом классе. Да-с!
– Счастливый путь! – отозвался Иван.
– Во Франции – жизнь! А тут!.. – он махнул рукой и достал из кармана бутылку, потянул из горлышка и пошел ставить тесто.
Когда он замесил три чана теста, а Иван разогрел печи, они снова встретились на ящике у раскрытой на весенний двор двери.
Ротмистр измучился, сидел весь потный и тяжело дышал. Бутылка была у него в руках, а водки в ней – на донышке.
– Выпей, брат Антей!
– Да уж не стоит, а вам тоже хватит, Поликарп Алексеевич, ведь вы, сейчас при деле.
– Чепуха! Не было дела важнее, чем на германском фронте, а тут!.. Ха! Хозяин говорил, что будет ночную смену делать, чтобы булки были свежие и теплые с утра, как в Петербурге, то бишь – в Петрограде. Дуррак! Где ему до Питера, у него еще тараканов полно!
Часа через полтора, перед самым приходом пекарей, во двор, где Иван возился с дровами, выбежал ротмистр, разбрызгивая первые весенние лужи рваными тапками. Лицо его было расстроено, в глазах испуг, руки тряслись, в голос просились слезы.
– Антей! Иван! Что делать? Тесто не подымается! Посмотри, может ты чего…
Иван зашел к нему в цех прямо в своей испачканной одежде, сунул в каждый чан поочередно руку, потрогал плотное, как глина, тесто и безнадежно покачал головой.
– А дрожжи бросил туды?
– Бросал.
– Не мало?
– По норме, как всегда…
Иван не мог помочь и неловко вышел во двор, размышляя, что будет теперь несчастному ротмистру. Вскоре вышел и тот. Встал в раскрытых дверях, весь освещенный солнцем, ухмыльнулся, покривил свои губы и заплетающимся языком крикнул:
– Антей! А я знаю, что стряслось с этой самой баландой, то бишь – тестом. Знаю! – Он погрозил пальцем Ивану. – Дрожжи-то я зашпарил. О!
Он опустился на широкую березовую плаху, валявшуюся у порога, и безжизненно вытянул свои сухие руки со шрамами ожогов.
– Поликарп Алексеевич, окатились бы холодной водицей, полегчает, ведь сейчас начальство придет, – пытался увещевать Иван и вынул из его кармана пустую бутылку. – Слышите меня, Поликарп Алексеевич? Держаться надо, ведь тесто – одно дело, а пьян – другое. Слышь? Бедой пахнет, говорю.
– Что? Резедой? – встрепенулся ротмистр. – Шалишь! Я еще, брат Антей, поживу! Я еще…
Он осекся, увидев в дверях старшего пекаря, и встал, покачиваясь. Пекарь качнул головой: пойдем и, пропустив мимо себя ротмистра, некоторое время еще смотрел со злорадной улыбкой на Ивана, стоявшего с бутылкой в руке.
В тот день ротмистра не видно было. Утром – тоже, а в дровяном сарае Ивана работал с утра другой человек. Иван зашел прямо в булочный цех и так узнал, что его уволили.
– А где Ознобов? – спросил Иван.
– Полковник теперь в кондитерском цехе крем-шарлот крутит. Повышенье! А тебя – вон…
«Буржуи, мать-таканы! А я тут при чем? Разве я его спаивал да тесто портил? Буржуи!..»
Иван нахлобучил на глаза шапку, чтобы не видели слез, и выбежал во двор.
С горя или от обиды на весь белый свет, но Иван в тот вечер напился до беспамятства. Проснулся он от холода возле полицейского участка, на скамейке, где его никто не поднял, и обрадовался, что на улице была не зима.
* * *
Лес, заготовленный в зимние месяцы, был заранее вывезен торговцами в порт. Это был прекрасный, строевой лес, срубленный не в сок, а в зимнюю замреть, когда древесина не размякла от весеннего пробуждения и была плотной и звонкой. Такой лес дольше стоит, лучше обрабатывается под столярные изделия, и потому именно его отправляют за золото в Европу и дальше.
Иван знал, что началась массовая отгрузка леса, и пришел в порт, даже встретил знакомых, но места не нашлось. Каждая бригада стремилась сократить число рабочих, чтобы общий заработок делить на меньшее количество голов. Правда, это был тяжелый труд, но зарабатывали грузчики неплохо. После получки они дня два-три приезжали на работу на извозчиках: вот, мол, как – знай наших! Поэтому не случайно возле каждой бригады слонялось много завистников, кляузников и просто желающих заработать.
Иван по-прежнему жил у Ирьи, аккуратно платил ей за жилье, но питался плохо, экономя подработанные за зиму деньги. С конца мая он взялся за огород хозяйки и весь его вскопал. Вместе с ней они обработали кусты и посадили овощи. Потом недели три он проработал с рыбаками, что рыбачили в заливе, спрашивал у них про Шалина. Молчали. Один, правда, слышал о нем, но в ответ только почесал в затылке, махнул рукой в сторону открытого моря и плюнул, что должно было означать: не делом занимается человек.
А лето уже было в разгаре. Под окошком Ивана, у забора, поднялась высокая, сочная трава. «Сейчас в лугах травы цветут, к покосу дело идет. Не пойти ли по хуторам? – подумал он между прочим, и мысль эта крепко села у него в голове. Дня через два он посоветовался с Ирьей. Та с недовернем отнеслась к его затее: не хочет ли он просто уйти от нее? Ирья опасалась потерять этого русского парня, о котором ей разное думалось, по-житейски. Но она собрала и проводила его, может быть навсегда, зная одно: можно ему заработать на хуторах.
В тот последний вечер у Ирьи Иван слонялся по своей комнатушке, не зная куда деть себя. Вещи были собраны, спать ложиться – рано, а тяжесть на душе – оттого ли, что он видел расстройство Ирьи, оттого ли, что уезжает, не повидав Шалина, или от страха перед неизвестностью, в котором он еще не признавался себе, – только тяжесть эта давила его, и он как по камере ходил по комнате, повторяя одни и те же слова из матросской песни и негромко вытягивая мотив:
А берег, суровый и тесный,
Как вспомнишь – так сердце болит,
Наконец он уснул, и до самого утра его мучил нелепый сон, будто он ходит по маленькой комнате, без дверей, а за стенкой кричит ему ротмистр: «Антей! Антей! Иван, черт тебя…» – и зовет на пароход, но двери в комнате нет…
* * *
Рано утром Иван уехал из города со всеми вещами, связанными в два узла. В вагоне он несколько раз повторял проводнику название станции, до которой советовала ехать Ирья. Поезд часто останавливался на маленьких станциях и снова уходил сосновыми перелесками да редкими березняками в голубую июльскую даль. Через несколько часов проводник сделал знак выходить и прошел впереди Ивана.
На станции было несколько домов, стоявших в стороне от вокзала. С другой стороны железнодорожной линии раскинулось большое озеро, спокойное и синее в тот погожий день. На другом, далеком берегу его, чуть подернутом синевой, виднелись просторно стоявшие дома, среди них один большой, белый, должно быть, каменный. Там же виднелась квадратная серая колокольня кирхи.
Поезд скрылся за поворотом. Иван посмотрел вслед последнему вагону и с тоской понял, что в той стороне, на юге, где-то совсем близко, – русская граница.
Из вокзала – маленького деревянного здания – смотрел пожилой железнодорожник. Иван хотел расспросить его о местности, но он убрался и через минуту, уже без форменного сюртука, без фуражки и босой, вышел и направился в другую сторону с граблями. Иван поднялся в гору и вошел в один из домов. Хозяев не было, но дом оказался незакрытым. Иван походил по комнатам, позвал, напился воды и с чувством какого-то чисто русского неудобства торопливо вышел и зашагал дальше.
Было часа два пополудни. Стоял хороший сенокосный день с жарой и легким продувным ветерком; воздух подрагивал над песчаной дорогой, зудели кузнечики в сухом, но не пыльном придорожье, и лесная даль с ее редкими хуторами совсем по-русски тонула в синеве. Иван спустился в прохладную лощину, потом вновь поднялся на гору и увидел сверху километрах в трех перед собой раскиданный по низине поселок и кривые ручейки бело-желтых дорог, сбегавших к нему из окружающего леса. Он вновь стал спускаться вниз по дороге и вскоре услышал голоса и почувствовал запах сена.
Внезапно из-за поворота показался огромный, что гора, покосившийся воз сена – зеленого и душистого, как чай.
«Хорошие хозяева, – отметил про себя Иван, – вовремя косят: духмяное сено, а вот лошадь не берегут, звона нагрузили…»
У переднего колеса хлопотали двое, кряхтели и переругивались.
– Хювя-пяйвя! [3]3
Добрый день! (финск.)
[Закрыть]– приветствовал Иван.
– Тэрва! [4]4
Здорово! (финск.)
[Закрыть]– коротко бросил один из них.
У телеги свалилось колесо, – видимо, железной окантовкой втулки съело чеку или ее выдернуло где-нибудь в кустах.
Иван бросил вещи на траву и кинулся помогать. Он уперся спиной в сено, руками – в колени и, подождав, пока приноровятся финны, стал сам командовать.
– Раз-два – взя-аали! – натуживался Иван.
Завалившийся воз качнулся и медленно выпрямился.
Один из финнов, что был постарше, быстро накинул колесо на ось и, облегченно вздохнув, поблагодарил Ивана.
– Сейчас, – сказал Иван и стал развязывать мешок, откуда он вынул молоток, – сейчас загнем. Мы это быстренько…
Он взял из рук молодого финна сломанную чеку, примерил, не будет ли коротка, загнул и вставил в отверстие втулки.
– Вали, ребята, теперь хоть до Москвы!
– Хо! Москафа? – спросил молодой.
– Нет, – печально ответил Иван. – Гельсингфорс. Русский…
– Русскака! Русскака! – весело повторил молодой.
– Китош, русскака, китош! – еще раз угрюмо поблагодарил старший и тронул лошадь.
Воз заскрипел, скоркнул непритершимся шкворнем и медленно поплыл среди молодого сосняка.
Иван направился следом. К нему подошел младший, должно быть сын того, подравнял шаг и зашагал рядом. Изредка он осторожно посматривал на Ивана, видимо, желая спросить о чем-то, но понимал, что это бессмысленно, и всякий раз, когда Иван поворачивал к нему голову, финн опускал глаза или серьезно глядел в сторону.
Впереди послышались какие-то приветственные голоса. Воз остановился около хутора, напротив высокого сарая, который Иван заметил первым. Под окнами большого, обшитого вагонкой дома, на ошкуренных бревнах сидели люди. Спутники Ивана подошли к ним, а он остался стоять на дороге около воза, не зная, как лучше подойти и спросить о работе.
– Эйно! Эйно! – крикнул молодой финн.
Из дома вышел пожилой человек. Он растирал широкое лицо ладонью, сгоняя дрему. Видно, отдыхал, пережидая жару после нелегкой работы.
Вслед за ним появился молодой парень, лицом в отца, белокурый и голый по пояс. Мышцы на его здоровом теле крупно обозначались при каждом движении. Он спустился с крыльца на землю и потрогал рукой воз с сеном, словно проверяя его на устойчивость.
За этими двумя из дому вышел еще один парень, помоложе, тоже беленький, но еще хрупкий, а следом за ним показалась пожилая женщина, осторожно выглянувшая из-за косяка.
Потом выбежала девушка в легком голубом платье, с распущенными, хорошо ухоженными волосами. Она сразу подошла к пожилому финну, правившему возом, и тот стал ей что-то сдержанно, но строго выговаривать. Видно, это была его дочь.
Потом пожилой отвернулся от дочери и заговорил с Эйно, все время кивая на Ивана, словно он был дерево или лошадь. Наговорившись, он опять тронул воз и вслед за ним поднялись с бревен пожилая женщина, старик и пошли позади вместе с молодым финном и девушкой в голубом платье. Старший сын Эйно, хозяина дома, смотрел им вслед.
Иван понял, что то была семья из другого хутора, и может из поселка, и решил остаться здесь, попытать счастья.
Хозяин дома, которого назвали Эйно, подошел неторопливо к Ивану, не сводя с него глаз, и остановился в двух шагах. Его старший сын подошел тоже, но остановился подальше и виновато облокотился голым локтем о рябину.
– Фы русский? – негромко спросил Эйно и склонил голову немного набок в ожидании ответа.
– Да! – обрадовался Иван, услышав родной, хотя и не совсем чистый язык. – Я русский, из города, у меня есть документы… Я ищу людей, у которых можно покосить… Я деловой, я умею косить, бочки делать, корзины, лапти…
– О, лапти – нет, – улыбнулся Эйно, и его угрюмое лицо сразу преобразилось, сделавшись добрым.
Иван смутился от своей скороговорки и от того, что его так шутливо прервал этот спокойный финн. Он потупился, поправил ногой свои мешки.
Сын Эйно повернул к Ивану свое широкое и тоже, как у отца, доброе лицо с ямочками на щеках и с легким любопытством смотрел на неизвестного. Иван взглянул на него – и тот, переступив, стал смотреть в сторону и поглаживать ладонью волосы. Ивану это понравилось. По опыту он знал, что за такого рода смущением у молодых людей кроется порядочность, у пожилых – неспокойная совесть.
– А бочки – это хорошо, – продолжал финн, произнося слово «бочки», как «почки». – Фы будешь тут иметь покупатель многа. А косить немнога можна.
– Вот и ладно, – улыбнулся наконец Иван.
Эйно огляделся, жмурясь от солнца, и быстро спохватился:
– Та! А как фас зафут! Меня – Эйно, а фас?
– Иван, Обручев Иван я, вот документы…
– О, Ифан! Не ната такументы! – поморщился он и обернулся к сыну – Ифан…
– Ифана, – негромко сказал сын тем, что стояли у крыльца.
– Идем, Ифан, ф мой том. Там покафарим!
Подошел сын Эйно, поняв по жесту отца, что русского приглашают в дом, и взял у Ивана рюкзак и мешок с инструментом, чуть зардевшись от своей смелости.
* * *
Ивана накормили отдельно в дощатой кладовой, примыкавшей к крыльцу. Там же, на низком топчане, был постлан ему старый тощий постельник, пахнущий сенной трухой и потом. У маленького оконца, выходившего на засеянный рожью косогор, стоял шаткий столик, наспех сколоченный из досок, около него – скамейка. Когда хозяйка унесла посуду из-под молока и кусок пирога, который Иван не решился съесть, и шаги ее затихли за тонкой дверью, он огляделся и торопливо съел обломок хлеба из своего мешка. Затем встал со скамейки и, оглядываясь на дверь, стал ощупывать руками предметы, окружавшие его. Он потрогал стол, скамейку, под обоями его ладонь определила неструганые доски стены, постельник ему показался тонок, но он был доволен и этим. Отметил про себя грубо сделанную глухую раму в оконце, зато ему понравился плотно пригнанный пол и удивило отсутствие запора на двери.
«Смело живут, – решил он, – да воровства, видать, не заведено».
Ивану хотелось лечь и уснуть, но он опасался, что придет хозяин, однако тот не пришел, и потому, когда в доме все затихло, Иван торопливо, по-флотски, разделся и лег на постельник под лоскутное одеяло. Голова его покоилась на неожиданно мягкой и большой подушке. В оконце была видна зеленая стена заколосившейся ржи, а над ней – широкий закат светлой северной ночи. Было так светло, что Иван видел отдельные колосья ржи и ее гибкие, еще сочные стебли. Сегодня из окна поезда он дивился обилию вот таких же зеленых островков среди перелесков; рожь была посеяна даже в топких низинах и на каменистых взгорьях – там, где сеять ее рискованно, и он еще раз понял, как велика нынче у людей цена хлебу. Вспомнился нетронутый кусок хозяйского пирога, и легкое сожаление о нем уступило место первоначальному – когда он еще ужинал – чувству человеческой совестливости и исконно неписаному закону хлебопашца: сначала заработать, потом – есть. За время службы на флоте Иван утратил остроту такого мироощущения, только первое время он тайно дивился тому, что такую силищу народа, какая была на их броненосце, в том числе и его, Ивана, кормили три раза в день ни за что. Это сначала веселило его, потом он привык, стал принимать все как должное и даже ворчать вместе со всеми, если еда была плохой или ее было мало. Сейчас же, увидев заново землю и пахаря, он понял, что в мире ничего не изменилось и не изменится в том извечном порядке вещей, при котором каждый обязан сначала заработать, потом – есть…
«Сначала заработать, потом – есть», – подумал он и вспомнил: что-то похожее он слышал от грамотных матросов на судне или где-то на митинге. Да, пожалуй, на митинге в Петрограде…
Иван с большим недоверием относился ко всем, кто кричал перед народом с трибун, но был один случай, когда он однажды поверил. Разговор между оратором и народом шел именно об этом, о самом важном – о земле, о свободном труде и о праве есть, которое предстояло завоевать. И Иван воевал и шел туда, куда его посылали, помня, что он воюет за это право свободно трудиться и открыто есть хлеб. За это право он бежал по скользкой площади со столбом на царский дворец и, высадив раму прикладом, влетел внутрь и отодрал за волосы какую-то бабенку в шинели, которая в него выстрелила, и едва увернулся от юнкерского штыка.








