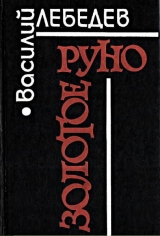
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц)
Однако неделей позже, когда Иван варил поутру уху из только что пойманной рыбы, ему показалось, что на том берегу озера мелькнуло чье-то светлое платье. Иван поспешно вышел, присмотрелся – она! Он вбежал в избу, схватил новую корзину, прыгнул в стоявшую на отмели лодку и погнал ее на тот берег, к камышу.
Он увидел ее среди молодых березок и осин, высоко взметнувшихся из низины в небо. Она ходила среди чистых, высоко оголенных стволов, изредка нагибалась и брала грибы. По временам она поправляла волосы, смахивая случайную паутину, и не видела, что рядом тихо остановился Иван, притулясь плечом к стволу дерева.
– Хювя пяйвя! – осторожно окликнул он наконец.
Она вздрогнула и посмотрела на него выжидающе.
– Это я, – пробормотал он и подошел к ней близко.
Она стояла молча, опустив голову и чуть поскрипывая ручкой старой корзины.
– Каунис ты, каунис, – снова проговорил Иван, но она посмотрела на его лицо, на горящие глаза и отступила назад.
Иван взял у нее корзину, высыпал грибы в свою новую и снова протянул ей.
– Ах, Ифана, Ифана… – сокрушенно покачала она головой.
Девушка уже не подымала на него глаз и стояла, слегка зардевшись…
– Ракастан [9]9
Люблю (финск.)
[Закрыть],– прошептал он тихо твердо заученное слово.
В ответ она поправила волосы уже знакомым ему жестом, чаше задышала и прикусила нижнюю губу. Наконец умоляюще глянула ему в глаза, полные грусти и ожидания.
– Ах. Ифана, Ифана…
Он повернулся и медленно пошел к камышовому берегу.
* * *
Осень в тот год стояла теплая, тихая – не осень, а сплошное бабье лето. Порой перепадали легкие дожди, насквозь пронизанные солнышком. Видимо, от этой удивительной одновременности противоположного в природе – солнца и дождя – такая осень и зовется бабьим летом. Она как добрая слабая женщина, которая способна от теплоты душевной одновременно и радоваться всему, и обогревать, и плакать от счастья; все это в ней лежит рядом и так близко, как эти легкие осенние дожди и солнце.
Тонкие светлые березки на том берегу озера и чистые осины уже поредели и багряно-желтой осыпью напестрили вокруг; их листья нападали в озеро, и по временам, когда в эту заповедную тишь срывался с горы обессиленный ветер, они дрожали вместе с водной гладью, топорщились и шевелились, словно продолжали жить.
Иван возвращался из лесу с двумя полными корзинами грибов. Белые уже иссякли, но соляников было еще много. Он решил насолить большую бочку, чтобы весной продать по сходной цене. Он спустился с горы по крутому откосу прямо к своему жилью, но, прежде чем увидеть замшелую крышу, почувствовал запах дыма. Тревога закралась в душу.
Дверь была растворена настежь, и в коридорчик нанесло рябиновых листьев, длинных, бледно-желтых. Иван оттопал песок с сапог и прямо с корзинами через плечо вошел в избу.
На постели полулежал Шалин.
Обутые ноги его свесились на скамью, рукава рубашки высоко закатаны, ворот расстегнут: печь протапливалась, и в избе было жарко. На столе – немытая посуда, кастрюля с остатками супа, чугун с картошкой и недоеденный кусок черного хлеба. Шалин обедал.
Иван молча, долго смотрел на знакомое клинообразное лицо с бровями вразлет. Потом, не торопясь, поставил корзины у входа – все это время Шалнн следил за ним с легкой самодовольной улыбкой, не произнося ни слова и не двигаясь, – снял шапку, пиджак, кашлянул без надобности и протянул наконец руку.
– Та-ак… Гость значит. Как это вы нашли меня, Андрей Варфоломеич? Городская хозяйка подсказала, что ли?
Иван держался не заискивающе, как раньше, а с хозяйским достоинством.
– Да вот нашел, – отвечал гость все с той же прицеливающейся улыбкой, – захочешь найти – найдешь.
– Хорошо… Нашел, значит…
Беседа не клеилась.
Иван сполоснул посуду и, не приглашая гостя, стал есть остывший суп и картошку. Потом оставил стол в том же беспорядке и устроился к окошку чистить грибы.
– Что-то ты вроде и не рад старому приятелю, – заметил Шалин и сел на постели.
Иван ничего не ответил.
– А я к тебе по большому делу, – опять сказал Шалин после продолжительной паузы, – поедешь со мной?
– Куды?
– Скажу. Пойдешь?
Иван заволновался, но ничем старался себя не выдавать, однако руки быстро и бестолково стали резать грибы.
– Домой, что ли? – не выдержав томительного молчания, спросил Иван и с надеждой повернулся к Шалину.
– Какой там дом! Дом, брат, там – говорят американцы, – где дела идут хорошо.
У Ивана загорелись уши.
– Ну, так как?
– Никуда я не тронусь! Мне и тут хорошо – и слава богу.
– Да я тебе настоящее дело предлагаю! – вскочил Шалин.
– Говорю, не пойду – и весь сказ!
Шалин нервно прошелся по избе, от окна до печки, посвистел, успокаиваясь, потом сел на корточки перед Иваном и со смешком заметил:
– А изменился ты, Обручев, измени-ился. Хозяином стал, что ли? Смотрю сегодня – участок разработал, все честь по чести… Только не это нам, эмигрантам, нужно. Мы с тобой должны большие дела делать!
– Эвона что! Большие, значит…
– Большие, чтобы большими людьми стать на чужбине. Понял?
– Понял.
– Так надо не сидеть да грибы чистить, а делать эти дела!
– Делай, а я пока посмотрю. Глядишь – опосля и мне пондравится! – покосился Иван, впервые называя Шалина иа «ты».
– Слушай, Иван, в каждом деле нужен риск, а ты..
– Рискуй.
– Я уже рискнул, – ответил Шалин, сдерживая раздражение, – я уже многое сделал без тебя и опять, как тогда в Кронштадте, пришел звать тебя на готовое, а ты мне такие слова говоришь. Нехорошо так, Иван, нехорошо.
Иван разрезал большой красноголовый подосиновик, посопел, высматривая червей, и стал неторопливо, по-деловому, как ломоть хлеба, разрезать: ножку – вдоль, шляпку – на кусочки.
– Так ты хочешь знать, в чем дело мое?
– Ну?
– А дело вот в чем… – Шалин запнулся, поскреб в затылке и начал – Купил я рыболовную шхуну. Она, правда, не новая, но еще такая, что я те дам! На ней, если с головой работать, можно целое состояние сколотить. Рыба сейчас в хорошей цене на всех рынках, да и консервные заводы берут – только дай. Теперь ты понимаешь что-нибудь?
– Нет.
– Мне нужен надежный, работящий экипаж, человек из трех. Понял теперь? Сначала, конечно, можем поработать и вдвоем, пока оперимся, а потом – ты за капитана, я – на берегу. Ты в море рыбку берешь, я деньги делаю на берегу да с тобой делюсь. Ну, теперь-то понял?
Иван молчал.
Шалин нервно закурил.
Иван тоже достал с подоконника вчерашний чинарик и докуривал его, держа в зубах за самый кончик.
– Ну, так как, Иван? Дело надежное. Мы с тобой моряки, все нам знакомо, дела пойдут бойко. Ты представь: высадимся на берегу, загоним рыбку, сосчитаем деньги (а их до черта!), а сами – в кабак. Вот уж покуражимся, вот уж попируем да девок помнем, а? Тебе сколько лет-то сейчас?
– Скоро тридцать семь, – ответил Иван и посмотрел в окно. Ему показалось, что накрапывал дождь.
– Вот видишь, тридцать семь, а без бабы, брат, нельзя, – с ума сойдешь.
Иван встал, стряхнул в опустевшую корзину ненужные грибные обрезки, отнес корзину в коридор и постоял там, в притворенной двери, послушал.
– Накрапывает, – сказал он не оборачиваясь, как будто подумал вслух.
– Да, уже осень… Скука… Ну, Иван, соглашайся, дорогой! А впрочем, подумай еще, я не тороплю. Я поживу у тебя денька три-четыре. Не выгонишь?
– Живи.
Дождь усилился. Он, видимо, был с ветром: по стеклу оконца стекали раздробленные капли. Шалин опустился на постель и забарабанил пальцами но столу, высматривая где-то под потолком занывшую муху. Иван снова сел к окну и принялся чистить вторую корзину грибов.
В коридоре стукнуло, и тотчас отворилась дверь. В дверях остановилась пожилая женщина, а за ее спиной кто-то шевелился, отряхивая мокрую одежду.
Иван шагнул навстречу, закивал гостям, но не удержался и протянул руку той, что была еще за порогом.
Это была она.
– Эйла! – позвала женщина.
– Эйла… – повторил Иван и, чуть касаясь ее локтя, провел к скамейке.
Обе, мать и дочь, мокрые и похожие друг на друга, радостно улыбались и оглядывали жилище Ивана. Мать ахала и качала головой, глядя на бочки с замоченными грибами и на груду наплетенных корзин, сваленных в угол.
Шалин приосанился и заговорил с ними по-фински, стараясь обращаться больше к дочери, но за ту отвечала мать.
Эйла, застенчиво улыбаясь, дула в посиневший кулачок да осторожно – опять, как тогда в лесу, – тыльной стороной ладони касалась своих мокрых светлых волос. Она старалась смотреть в окно на дождь, а Иван, растерянно слоняясь перед ней, уже не чувствовал гнетущего ненастья, он смотрел украдкой в ее глаза и видел там погожее голубое утро.
Шалин подсказал ему, что надо бы гостям сварить кофе.
Иван метнулся к печке, быстро растопил ее на неостывших углях, потом схватил большой коричневый чайник и бросился прямо под дождем к источнику за свежей водой.
Но короткий дождь кончился, и гостьи ушли, отказавшись от кофе. В коридорчике они взяли свои неполные корзины с грибами и пошли по тропе мимо Большого камня, в сторону своего хутора.
Иван вышел их проводить.
Кругом с сосен падали тяжелые и еще частые капли, и по лесу разносился от этого ровный шорох, похожий на приближающийся дождь. Капли падали и на Эйлу. Она подымалась вслед за матерью по тропе и куталась в непромокаемую накидку. Раза два она украдкой оглядывалась назад, на Ивана, стоявшего внизу, а когда они отошли подальше – осмелилась и махнула ему рукой.
– До свиданья! Хювястэ! – тоже осмелел и крикнул Иван.
Едкий дым из трубы темным клубом свалился на землю и обдал его гарью.
«Погода испортилась надолго: дым падает», – подумал он почему-то с радостью и повернулся к дому.
У входной двери стоял Шалин и тоже смотрел на тропу, сладко прищурясь.
– А ничего, а? – спросил он. – Как ты думаешь, она податливая на грешок, а? Ха-ха-ха!..
Иван хотел в тон ему, по-флотски, ухмыльнуться, но у него это вышло так беспомощно, как хихиканье больного ребенка. Он сам это заметил и потупился под испытующим взглядом Шалина.
– Что, забрало? Не она ли тебя держит? Брось – ничего в ней хорошего нет, это тебе кажется тут, в лесу, с голодухи. Вот поедешь со мной – не таких полапаешь.
– Пойти перемет подновить, что ли? – совсем без надобности промолвил Иван вместо ответа и побрел к лодке.
* * *
Через три дня, когда рано утром Иван собирался проверять перемет и осторожно, чтобы не разбудить Шалина и чтобы тот не начинал с утра неприятного разговора, бродил по избе, – тот все же свесил голову с полатей и неожиданно бодрым голосом спросил:
– Ну как, надумал?
Иван вздрогнул и продолжал молча слоняться по избе, не подымая головы и норовя без ответа улизнуть на волю, но Шалин заскрипел полатями и повторил вопрос:
– Скажи – да или нет?
– Какой-то ты, право… прямо с утра, не успел глаз продрать.
– Ладно. За обедом скажешь! Последний срок. Я до обеда по грибки схожу, а ты на свободе подумай, поразмысли над своим никудышным житьем. Я тоже пойду мысли в порядок приводить да грибками побалуюсь, давно не брал их. Давно…
Иван облегченно вздохнул и отправился проверять перемет.
Еще издали, только садясь в лодку и нащупав береговой конец, Иван почувствовал, что попалась крупная рыба: леска дергалась тугими затяжными толчками. Не торопясь, начиная с первого крючка, он стал проверять.
Лодка двигалась вдоль перемета. Через каждые полтора метра – крючок. На самом первом сидел маленький окунь, он так сильно заглотил вьюна, что пришлось вырвать с крючком часть внутренностей и оставить их вместе с вьюном для приманки налима. Несколько следующих крючков были объедены ершами, а один поводок был оторван, должно быть, большой рыбой, ушедшей вместе с крючком. Иван почмокал губами и повел лодку дальше. Леску опять сильно дернуло и туго натянуло в сторону.
– Ага, попалась, матушка! Попа-алась! – шептал Иван горячо, сразу забыв все на свете, и всматривался в воду, где на глубине метра металось черно-белое гибкое тело крупной щуки.
– Попа-алась!
Он повел под нее сачок с головы, вскинул его вверх – и вот уже рыба в лодке. Она не затрепыхалась сумбурно и дробно, подобно мальку, а требовательно и величественно заколотила хвостом и головой по гулкой долбленой лодке, извиваясь и бросаясь на борта и на ноги Ивана.
Иногда она в предельной злобе замирала ненадолго, уставясь прямо в лицо рыбака хищными остекленевшими глазами из-под выпуклых костяных кромок, словно старалась загипнотизировать или подавить его презрением. Потом вновь, еще более энергично, делала «мост», вставая на голову и хвост, и начинала еще сильней, как молотком, стучать по крутым бортам и днищу лодки.
– Эва! Эва! Попа-алась, ха-ха-ха! – повторял Иван, стараясь наступить на щуку. – Эка ддура! Стой!
Наконец ему удалось ударить ее черенком ножа по голове, прямо между глаз. Щука дернулась, несколько раз глотнула воздух прозрачной зернистой пастью и вытянулась в судорогах.
Иван взял ее, слизистую и уже обмякшую, в руки, вынул у нее из желудка крючок вместе с заглоченным окунем и бросил в нос лодки.
Когда он дошел до конца перемета, в лодке лежало около шести килограммов рыбы.
«Счастливый день», – подумал Иван.
Он облегченно вздохнул, разогнул спину, опустив руки меж колен, и посмотрел вокруг себя.
Его избушка на берегу, за камышом, показалась ему уютной и даже красивой, а берега, поднимавшиеся вокруг озера, и лес на них, и обрыв за домом, и зардевшаяся рябина, к которой он тоже, как никогда раньше, вдруг проникся душевной теплотой, показались ему такими близкими и манящими к себе чем-то хорошим, необманным, что Иван, не понимая сам почему, с благодарностью подумал: «Боже мой, как хорошо-то тут у меня! Рай-то какой!»
Он посидел еще немного, наслаждаясь пробуждающимся днем, потом, вспомнив боцмана, сразу понял сегодняшнее необычное расположение к обжитому им мирку и решительно сказал сам себе: «А ну его к свиньям с этим рыболовством! Никуды я с ним не поеду, и весь сказ!»
Он еще немного посидел в лодке, раздумывая над заманчивым предложением Шалина, но, вспомнив, как минувшей ночью тот намекнул, что для начала дела потребуются деньги, Иван понял весь замысел и цель приезда незваного гостя. Теперь он опять узнал того боцмана, который никогда не раскрывает своих корыстных планов, и окончательно разуверился в чистоте предложенного ему дела на паях.
Дома Шалина уже не было. На столе, как всегда, было не убрано. По объедкам было видно, что гость позавтракал холодной жареной рыбой, и напился чаю с медом, целое ведро которого Иван выменял недавно на бочки, и, как обещал, ушел в лес за грибами, даже не крикнув Ивану с берега.
«Ну вот и хорошо! – подумал Иван, – И я тоже подамся в лес, да до вечера не вернусь, пусть-ка зубам-то поскоркат. Пусть! Ответ ему подавай к обеду, ишь его… Вот вернусь вечером и дам ответ. Чего я ему скажу? Не поеду никуды, скажу, и весь сказ!»
Иван положил в одну из двух корзин еду и не спеша пошел в лес, взяв направление к Большому камню.
…Еще было совсем светло, когда Иван с полными корзинами грибов, измученный, возвращался домой. Шел он не спеша, как и утром, только неохотно, понимая, что с Шалиным состоится неприятный разговор. Спускаясь с обрыва, по привычке отметил еще издали темно-зеленый мох на сырой крыше, черную трубу и яркое пятно рябины. У самой избы он съехал с обрыва почти на боку, касаясь рукой земли, и спугнул с рябины плотную стайку дроздов.
«Эва, окаянные, повадились! Надо будет на зиму наломать рябинки-то», – подумал он между прочим и подошел к избе.
Дверь, обычно припиравшаяся палкой, была раскрыта настежь. Вторая – тоже, а из помещения потянуло нежилым холодом зашедшей туда озерной сырости. Нехорошая тишина царила внутри. Он переступил порог и; снимая с плеч связанные кушаком корзины, осмотрелся.
В полумраке он увидел сдвинутый к окну стол, упавшую на пол посуду. Около печки валялась скамейка. Постель была разворочена, постельник съехал на сторону и висел, одеяло забито в угол, а на полу валялась затоптанная подушка.
Не двигаясь, стоял Иван у порога, соображая, что бы это могло значить. Потом прошел по избе, нечаянно щелкнув кружку ногой, и заглянул за печку, на вешалку. Одежды Шалина там не было. Иван подошел к постели, присел на корточки и выдвинул самодельный деревянный сундучок. Он был открыт, а денег в конфетной коробке не оказалось. Там лежала одна записка.
Иван взял ее, поднялся и подошел к оконцу. Прислонился головой к верхнему косяку, стараясь вникнуть в смысл неразборчивых слов.
«Я понял, что ты не годишься для дела, – читал медленно, – деньги взял. Не ной – вышлю, если…»
На дворе торопливо и глухо простучали шаги. Дверь распахнулась с грохотом, так что на голову посыпалась потолочная засыпка, и в комнату влетели двое. Иван успел только заметить, что один был Урко, с неузнаваемо страшным лицом, а второго, с веревкой в руках, он не успел различить.
Сильный удар свалил Ивана с ног. Потом второй, кованым сапогом по лицу, – резкий, мертвящий, от которого мелко задергалось его согнутое на полу тело, – успокоил его.
Некоторое время он чувствовал, как пахнет грибами пол, потом были удары еще, еще – и все то, что только сейчас волновало Ивана – сомнения, злоба, недоумение, Шалин, деньги, эти двое и сам страх, – все побледнело отодвинулось, стало ненужным…
* * *
Где-то выл ветер, должно быть в трубе, и был еще какой-то непонятный звук, настойчивый, чистый.
Вот уже несколько суток, как на столе стоял будильник, принесенный Эйно, а Иван всякий раз, когда приходил в себя, забывал об этом и неизменно удивлялся новому в его жилище звуку. Он много лет прожил без часов, вставая и ложась, как птица, – по солнышку, но сейчас понял, что с часами веселее. Он приподнял голову, чтобы взглянуть на них и узнать, сколько же времени.
– Леши, леши, Ифан! – встрепенулся Эйно и, встав со скамьи, отложил книгу. – Что тебе? Пить?
Он налил в кружку из маленького бочонка брусничного соку с сахаром и подал Ивану.
– Пей, это от всех полезней, так и ляккяри гофорил.
Иван выпил весь сок, целую кружку, потом, к удивлению Эйно, сам повернулся на бок и попросил есть.
– Ха! Ифан! Жить пудем! Кушать тут нет, я принесу, леши!
Эйно надел шапку с козырем, пальто и заторопился домой. Иван видел, как прокачался за оконцем его белый затылок. И вот уже затихли шаги Эйно, остался только вой ветра в трубе – тонкий, жалобный – да сухой стук будильника. За прокопченным косяком качалась ветка рябины, еще не оклеванная дроздами, а за ней был виден край озера – серая вздрагивающая вода. Разнепогодилось, как и предполагал Иван. Да и пора: октябрь… «Сейчас на горе такой ветер, что деревья валятся, не иначе, раз здесь, в низине, труба воет. А ведь должно было прийти ненастье – недаром дым падал…»
Он старался не думать о том, что с ним случилось, но Эйно по-своему немногословно объяснил все, извинялся и вздыхал. А для Ивана уже с первых его слон было ясно, что он опять пострадал из-за Шалина.
…Утром того самого дня, когда Иван ушел от Шалина в лес, боцман забрал из сундучка все деньги и скрылся. Пошел «пробиваться в жизнь». Денег было немного, и по пути Шалин забрался в дом Эйно, выследив, когда там никого не оказалось. Деньги Эйно он нашел и спальне за распятием, но уйти не успел: в дом зашла дочь Густава – Хильма, нареченная невеста Урко. Шалин ударил ее кулаком в лицо, оглушил табуреткой и бросил в подвал. Бежал он из дома через окно в сад и по следам было видно, что он скрылся в лесу, в стороне станции, и, судя по времени, успел на вечерний поезд.
Все остальное произошло под вечер, когда домой вернулась семья Эйно. Сначала никто не заметил ничего подозрительного, пока не застонала Хильма. Ее подняли из подвала, Урко убежал за родными. Когда Хильма очнулась, она произнесла одно слово: «русскака».
Урко и брат Хильмы бросились к Ифана-ярви, поскольку другого русского они в округе не знали, и в тот момент, когда эти парни уже могли убить Ивана, подоспели их отцы и объяснили, что Хильма показывает на другого русского.
Иван оторвался от этих мыслей, уловив шаги за стеной своей избы. Вошли Эйно и его жена, они принесли еду. Иван ел медленно и только то, что можно было не жевать; ударом сапога Урко повредил ему лицевую кость и, видимо, перебил мышцы, рот увело в сторону. Иван ел, а Эйно неторопливо, но взволнованно рассказывал новости. Жена его сидела у печки, не раздеваясь и не понимая по-русски, лишь тяжело вздыхала и причитала про себя. Вскоре она ушла, прибрав немного в избе и оставив еду на печке.
– Урко дафал тебе изфинить себя, – неторопливо говорил Эйно и морщил смуглый лоб, – он уходит из дома и не говорит куда. А Густав совсем с ума сошел: фыпил много и ф магазине троих поресал. Фечерамн тела были. Атин чуть не умер та смерти, а другие дфа – сафсем жифы. Густава судить будут. Фот, что наделал твои друг, Ифан. А на станции абфарафали начальника, денег не стала, тоже на русскафа…
Иван угрюмо молчал, трогая завязанную щеку.
В тот вечер Эйно ушел поздно, ночевать не остался, как в минувшие ночи, – это означало, что здоровье Ивана в безопасности.
– Эйно, темно ведь. Того гляди – волк. Останься.
– Фолк, гляди, – нестрашная.
– Ну, рысь там, мало ли…
– Нет, пойду, а то жена другофа прифедет, – пошутил он и ушел в непроглядную осеннюю ночь.
Сухой стук будильника наполнил избу, словно хотел пробиться сквозь стальные звуки – шум леса и стон ветра в трубе.
Иван посмотрел в черное окно, и ему показалось, что на горе качнулся огонек. Он подумал, что это Урко пришел встречать отца, но зайти сюда не посмел.
Огонек еще несколько раз мелькнул на горе и исчез.
Иван почувствовал себя очень одиноким, а шум леса, как водопад, обрушивался с горы на прижавшуюся к обрыву избу, подвывал в трубе и еще больше нагонял тоску. Он потушил лампу, но еще долго не мог уснуть. Когда же начинал впадать в дремоту, его что-нибудь будило – или треск сучьев в лесу, за стеной, или скрипучий крик совы.
А под утро ему приснился долгий и сладкий сон – родная деревня. Словно стоит он, еще совсем маленький, на покатом крыльце родного дома самой что ни на есть ранней весной. Кругом еще снег, а на снегу уже вытаяли мелкие березовые сучья, нападавшие за зиму. Ветер широко шумит, по-весеннему. Терпко пахнет большой тополь во дворе. Дед Алексей идет по прогону в распахнутом полушубке. За сараями видно речку, берега ее в снегу, а на льду уже зачернела вода и обступила кусты; низкое небо над лесом обложили тяжелые синие тучи, обещая скоро первые весенние дожди. Еще пройдет немного времени, и побегут ручьи. Уже слышно, как, перекликая грачей, кричат на деревне ребятишки, а Иван спускается с крыльца по отсыревшим ступеням и идет к товарищам прямо по осевшим сугробам в дырявых валенках: теперь уже все равно, теперь уже скоро весна. Ветер, тугой и гладкий… Пахнет талым снегом…
Иван проснулся – и пожалел об этом. Он закрыл глаза и силился вернуть то, что ему виделось. Потом он до полудня лежал, погруженный в сладкие воспоминания, и улыбался чему-то, и моргал припухшими веками, и грустил. Нет, никогда бы раньше он не подумал, что его нищая деревня, кривое отцовское крыльцо и даже корявый тополь, который давно грозился спилить дед Алексей, станут для него так дороги и единственно необходимы.
С этого дня в душе еще крепче поселилась тоска. Иван уже не чувствовал себя счастливым в своем заповедном раю, и прежнее стремление увидеть родную землю вспыхнуло в нем с новой силой. В полдень, когда пришел Эйно, Иван поделился с ним своей тоской. Тот выслушал внимательно, подумал. Потом спросил, не хочет ли он обратиться к властям. По мнению Эйно, это был тот разумный путь, которым следует возвращаться на родину. Он вызвался даже помочь Ивану, когда будет в столице. Иван так разволновался, что ему стало хуже.
Месяца через полтора, когда Иван уже был на ногах, Эйно ездил в столицу и там отправил от имени Ивана письмо. Корешок квитанции на отосланное письмо Иван хранил, как талисман. Но проходили месяцы, а ответа не было. Было послано еще несколько писем – ничего.
Однако Иван не терял надежды и деятельно готовился к тому дню, когда надо будет собираться домой. Больше всего досаждало лицо. Кость еще ныла, но самым мучительным было сознавать свое уродство. Он попросил Эйно узнать, сколько ляккяри возьмет за лечение и за операцию, чтобы вернуть рот на прежнее место. Тот узнал. Сумма, которую ляккяри написал для Ивана на белом листе бумаги, была так велика, что даже Эйно, выйдя из дома ляккяри, шел как ударенный и полдороги не надевал шапку – забыл.
– Ой, Ифана! Плоха, сафсем плоха! – воскликнул он и сел на лавку. – Денег столько тебе никогда не нателать, та-а! Деньги, деньги… Фсе фезде деньги, без них из леса не фыйдешь, а ты – к ляккяри… Педа, когда деньги, и пез них – педа. Тфой Шалин сфорафал, значит, ему тоже пыла педа пез денег. Там, ф горотах, труг труга ест за деньги, здесь – тоже…
– Да, Эйно, без денег везде худенек, – подтвердил Иван и вдруг встрепенулся – А за что ляккяри, мать-таканы, так много берет? Может, он думает, что русский, так…
– Нет, с фсех.
– Невыгодно болеть, – заметил Иван, вздохнув, – самое лучшее – это сразу умереть.
Эйно молча покачал головой.
Ивана еще долго лечила жена Эйно какими-то примочками из трав и настоями корней. Боль постепенно исчезла, но рот так и остался стянутым набок.
– Ничефо! – успокаивал Эйно глубокомысленно. – Рот набок – ничефо, худо, когда мозг набок, а рот – ничефо.
Иван постепенно и сам привык к этой мысли. На ощупь ему уже не казался рот таким уродливым, и только бритье перед длинным осколком зеркала доставляло ему страдание.
Жители поселка и окружающих хуторов относились теперь к Ивану холодно, с недоверием, граничащим со злобой. Мальчишки бросали в него грязью, снегом, палками и даже камнями: они дразнили его на виду у взрослых. При виде его они с притворным ужасом хватались за карманы и бежали в сторону, что означало: берегись, идет вор. Словом, за все проделки Шалина остался расплачиваться Иван. У него не хотели покупать рыбу, корзины, бочки, и Эйно помогал ему сбывать все это на дальних хуторах, а грибы и ягоды, которыми в основном жил теперь Иван, – сдавать оптовикам.
Однажды Эйно принес ему щенка, и это скрасило жизнь Ивана. Он зажил веселей и вновь стал ждать ответа. Он уже меньше жалел украденные Шалиным деньги, не огорчался, что придется ехать домой без подарков, теперь у него была одна мысль: как-нибудь пробраться домой, на родину. И все ему казалось, что вот-вот придет вызов, и тогда все он бросит, все как есть – и бочки, и корзины, и наготовленные не на один год дрова, и грибы, и картошку под полом, даже инструмент – и в чем есть направится в родные края. Он верил, что родная земля примет его и в обносках.
Как-то в начале апреля, поутру, Иван вышел из избы попытать счастья на подледном лове.
Стоял легкий утренник. Снег на озере, подтаявший днем, за ночь прихватило коркой, и он шуршал под ногами ядреным настом. Иван сделал несколько шагов и остановился.
На горе, где-то совсем близко, пели тетерева. Их токовиная песня, чуть задумчивая и чистая, как бульканье родника, разносилась по сосновому лесу, и хотя это пение, и прозрачный, глубокий лес с его прямыми соснами, и эта широкая заря, от которой нежно розовел снег, и бодрящая утренняя свежесть были Ивану не в новинку, он все же остановился, поднял у шапки уши и прислушался.
– Слышь, Мазай, тетерев поет! – сказал он насторожившейся собаке и невпопад добавил, кривя рот. – А ответа все нет, видать, уж здесь умирать нам, вместе…
Собака закрутилась, беспокойно завиляла хвостов, зовя хозяина в лес, но, видя, что тот не двигается, насторожилась и замерла, навострив уши. Иван еще постоял немного, опираясь на пешню, послушал, потом вздохнул, будто всхлипнул, и с грустью добавил:
– Пое-ет. Весна, брат, идет. Весна…
3
«…Перво-наперво – пусть покрепче заснет», – повторил про себя Иван, остановившись под полатями.
Он вспомнил все, что вытерпел от Шалина за долгие годы, и крепко сжал топорище.
Холод от топора проходил через рубаху. Ему показалось, что он слышит глубокое и ровное дыхание Шалина. Иван, не помнил, сколько времени он стоит в этом напряженном оцепенении, только чувствовал, будто солью жжет его уставшую руку с топором.
– Ну, чего же? Давай! – Голос с полатей прозвучал бодро и обиженно.
Иван вздрогнул.
– Давай руби! Не бойся: я без оружия… Ну?.. Что же ты тянешь!.. Ну!..
Ивану вдруг показалось, что нет никакой ночи, что стены избы раздвинулись и он, Иван Обручев, никого не убивавший даже на войне, стоит с топором у головы безоружного в ярком свете дня, а откуда-то взявшиеся люди в молчаливом презрении смотрят на него.
– Ну, Иван? Вот моя голова, потрогай сперва… – Голос оборвался, как на икоте, и Ивану показалось, что Шалин плачет.
Старый будильник громыхал на столе, как железная банка с гвоздями. Собака опять лежала на лавке и лязгала зубами, слюнявя и растирая блох. Все было по-прежнему, только гудело в голове да и по всему телу растекалась какая-то непонятная слабость.
Иван приотворил дверь и выбросил топор в коридорчик. Потом неверным шагом пересек избу по скрипучим половицам. В лунной полосе света полыхнули подштанники, и он тихо, виновато лег на постель.
Будильник монотонно долбил тишину. Ни один не шевелился, но каждый знал, что другой не спит.
Первым заговорил Шалин.
– Та-ак, Иван… За что же это ты меня, хотел, а? За то, что девять лет назад деньги у тебя взял да пока не вернул? – Голос Шалина дрожал, словно его трясла лихорадка. – За то, что я опять к тебе приехал в твое болото и хочу вытащить тебя отсюда?
– Никуды я не поеду! – ответил Иван и лег наконец удобнее.
– Не веришь?
Иван молчал.
– Ну, не верь. А я ведь пришел сюда как за искуплением. Думал, оправдаюсь перед тобой за все плохое. Думал, подадимся мы с тобой вместе отсюда…
– Никуды я не поеду, и весь сказ! Нашему брату где ни летать – все дерьмо клевать. Везде надо горб ломать – тогда и жить будет. А ветродуям нигде не место, не местище. Вот вам мой последний сказ, Андрей Варфоломеич!
– Та-ак… Это я, значит, ветродуй. Э-эх, Иван! А ты знаешь, какое у меня дело было! Я ведь шхуну-то тогда купил.
– Знамо дело!..
– У меня, брат, такое дело развернулось – я те дам! Деньги пошли. Я уж хотел тебе выслать, а потом, думаю, сам привезу. Тут еще надо было в одном месте рассчитаться…
– С железнодорожником?
– Да, – ответил, помолчав, Шалин. – И с железнодорожником. Не хотелось, понимаешь, с камнем на душе жить, когда жизнь так красиво пошла.
– С камнем не житье, знамо дело, – смягчился Иван.
– У меня команда была – несколько парней. Сам-то я в море не ходил: хозяином стал, да и на берегу работки хватало, поскольку мои ребята в море контрабандой обменивались.








