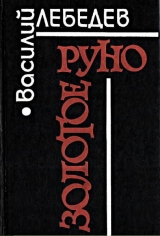
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 25 страниц)
– Я заставил вас волноваться в Нафпактосе, поверьте, это произошло…
Жестом руки и энергичным кивком она дала понять, что все понимает, но в то же время ей как-то не до меня, отсутствующий и рассеянный взгляд. Я отошел на несколько шагов и вдруг увидел, как она торопливо открыла сумочку, достала платок и прижала его к лицу. Нет, она не была артисткой, но лицо ее переменилось и стало вновь мягким и приветливым. Я приблизился к борту, чтобы не стоять среди палубы, как истукан. Тут же подошла она и, оглянувшись, тихо проговорила:
– Что бы вы сказали, если бы вам стало известно, что через несколько дней в Афинах вас будет ждать один человек?
Я молчал в недоумении.
– Вы меня поняли?
– Да, мадам Каллерой…
Что она затеяла? С каким еще человеком намерена свести меня? Может, это Илья напряг свои полторы извилины и надумал отблагодарить за бутылку русской водки, посланной отцу? Если так, то почему между ними такая молниеносная связь? Тут, кажется, я стал размышлять как контрразведчики в плохих фильмах, осточертевших даже невзыскательным зрителям… Однако что день афинский мне готовит?
– Так что же вы скажете на это?
– Я не против, мадам Каллерой.
– Вот и отлично!
Лицо ее просветлело, было в нем что-то очень хорошее, искреннее.
– Вы опасались, что я откажусь? – этак непринужденно спросил я и если бы имел пагубную привычку курить, то небрежно закурил бы и бросил спичку в море.
– Я не сомневалась в вас.
– Иного ответа и быть не могло: писатель должен встречаться с разными людьми, изучать жизнь. В этом его работа, его обязанность, – изрек я. – Однако… могу ли я знать, кто меня…
– Подробности – в Афинах!
Она почему-то заволновалась и перешла к другому борту. «Охо-хо-хо-хо-о-о!.. Что же мне делать, маэстро? Не собрать ли на палубе колхозное собранье? А может быть, благоразумнее все-таки отказаться? Можно же найти какую-нибудь причину и отказаться под предлогом острого сердечного приступа. Приступ можно вызвать, если я узнаю, что в Афинах ждет меня та богиня с аэродрома, – увы! – едва ли!»
– Какого дьявола так медленно тащится паром! – воскликнул я.
Однажды Горький встретился в поезде с Сергеевым-Ценским и спросил того:
– Ты видел, Ценский, Военно-Грузинскую дорогу?
– Нет, не видел.
– Плохо! Вот умрешь, заявишься на тот свет с надеждой на хорошее местечко, а тебя и спросят: а видел ты, Ценский, Военно-Грузинскую дорогу? А ты им – нет! Ну и погонят тебя тамошние благодетели в самый мрак и правы будут: раз на земле красотой пренебрег, там ее уже не вымолишь. Торопись!
Этот диалог двух писателей, читанный мной где-то, вспомнился в тот самый час, когда на горизонте затемнели деревья Олимпии – самого зеленого места из всех, которые мне довелось видеть в Греции. Олимпия… И это тоже не сон. Но к радости предстоящей встречи со Священной рощей, древним стадионом, развалинами храмов примешивалось светлое чувство запоздалого опасения, что можно было прожить свои быстротечные десятилетия, прошататься по миру, глазея на дымную Темзу, реветь на мадридской корриде вместе с людским стадом современных питекантропов или ротозеить на углу сто-какой-нибудь авеню в бездушном Нью-Йорке и никогда – подобно миллионам других людей – не увидеть этой земли, не услышать тишины Священной рощи…
Олимпия… За восемь веков до новой эры здесь пасли скот и собирали виноград. Точно так же текли реки Кладос и маленькая – Алфей, а под холмом, что назван Священной горой Кронной, бил прохладный ключ. В нем можно было искупаться после работы на виноградинках, и, взбодрившись прохладой, а порой и молодым вином, что уже забраживало к осени, древний грек мог пробежать наперегонки до реки или тут же, у источника, помериться силой в честной борьбе со своим соседом по деревенской хижине… Так вот, просто, без высокого божественного вмешательства, зародился интерес древних к состязаньям, со временем переросший в традиционные игры. Греческая земля – не исключение, она тоже полнится слухами, и для состязаний в Олимпию стали съезжаться с разных сторон, из других селений, а затем и полисов – городов. Чем дальше, тем шире росла популярность состязаний, и, наконец, они получили благословение дельфийского оракула в 776 году до нашей эры. Победители соревнований стали возвеличиваться, подобно олимпийским богам, их стали звать олимпийцами, да и сами игры получили божественное название Олимпийских. Вот он, гениально прямой путь – к божественному через совершенство тела и духа!
Олимпия… Крохотная деревушка. Что случилось с тобой, что произошло за эти века, за эти тысячелетия?
Любой человек, мой современник, естественно предположит, что за тысячи лет это всемирно известное место должно было бы плотно заселиться греками, а вездесущий капитализм должен был взломать священные традиции и бурной крапивой поднять над античными развалинами свои фабрики, гигантские отели, кемпинги, мотели, рестораны мирового класса, нагромоздить заводы с современными поточными линиями, производящие с божественной маркой и клеймом «Олимпия» машины и зубной порошок, хирургические инструменты и самосвалы, ночные горшки и губную помаду – короче, из греческой мухи, по слову поэта, сделать африканского слона и тут же торговать слоновой костью. Но нет! Под кущами средиземноморских кедров, пахнущих медом, как русский клевер в июле, разместились лишь несколько небольших гостиниц, улица крохотных магазинов, но самым неожиданным была она, деревня Олимпия. Она не разрослась, оставаясь и поныне не больше нашего украинского села, и потому не погубила своего обаяния, не дала возможности заслонить толпами своих жителей, их ежедневной житейской суетой то главное, что давным-давно кажется нерукотворным, за что благодарен грекам весь нынешний мир. Благодарен даже за развалины, освобожденные от земли.
Автобус остановился около небольшого отеля, близ святая святых Олимпии – Священной рощи и стадиона. Деревья этой рощи совсем рядом, они видны из окон автобуса, заглядывают на солярий отеля. Выходим в торжественном молчании: нам довелось ступить на эту землю!
Двери отеля блеснули стеклом, и к нашим чемоданам высыпало около десятка размолоденьких гречанок в синих платьишках. Они пролепетали какие-то приветствия и кинулись к нашим чемоданам, вцепились в них цепкими ручонками юных гимнасток, поволокли. Такого еще не было, чтобы девчата носили багаж в гостиницу. Это, вероятно, отсутствие туристов осенью заставило хозяев рассчитать мужчин до весны, а их функции в качестве дополнительной нагрузки стали выполнять девочки-горничные. Экономика… Одна шустрая уже успела отнести чей-то чемодан и схватила мой. Тяжелый. Но всему же есть предел! Догоняю у лестницы, беру амазонку на руки и несу ее в отель. Она держит чемодан, я – ее. Ногами не брыкает, но кричит подругам, те смеются. Все правильно: мы из России и к братству не привыкли.
Наша маленькая группа – единственные гости отеля. Из обеденного времени мы давно выбились, но обед, приготовленный для нас, бережно подогревали, поэтому сразу из номеров прошли в маленький уютный зал ресторана. Вместо официанток – те же наши милые горничные, лишь передники забелели у них поверх платьев. Вот несет неумело тарелку, и я вижу на округло-плотных юных ладонях едва приметные темные трещины, – видать, с утра работала на винограднике… Послушные нимфы-труженицы! Кажется, с одинаковой легкостью они готовы исполнить все приказы хозяина – носить воду из Кладоса, убирать мусор, готовить обед, рыть землю или петь перед гостями. С легкостью ли?
Ах, девчонки! Они уже второе несут…
Но разве усидишь долго за столом, когда сейчас ждет тебя стадион номер один из всех, что были и есть под солнцем.
Автобус ушел – и ладно: до Священной рощи – четыре минуты ходьбы. Налево остается музей, в котором самое почетное место занимает мраморная статуя величайшего скульптора древности Праксителя – Гермес с Дионисом. Репродукции этого уникального произведения искусства обошли весь мир, а завтра мы увидим трехметровую статую обнаженного Гермеса, свободно облокотившегося на колонну левым локтем руки, на которой он держит маленького Диониса. Будущий пьянчужка, божок вина, тянется ручонкой к виноградной лозе, которую держит, дразня малыша и как бы раздумывая – давать ли, – в правой руке Гермес. Правда, нет у Гермеса правой руки почти по локоть. Вот уже полторы тысячи лет он инвалид, но потрясающей силы скульптура не теряет прелести, а, подобно безрукой Венере Милосской, вызывает щемящее чувство любви и боли. – Этой работе, говорит мадам Каллерой, отдан отдельный зал со стеклянной крышей. Учтено возможное землетрясение: если случится это бедствие – стены, согласно конструкции, упадут в разные стороны и утянут за собой части крыши. Если упадет статуя, она упадет в песок, насыпанный толстой подушкой вокруг и ограниченный крашеными досками. Вот и пример заботы греков о будущем…
Легко идти в Священную рощу Олимпии – дорога под гору, но нелегко представить, впитать в себя и осознать все то, о чем красноречиво рассказывают древние развалины, пролежавшие под слоем песка пятнадцать веков. Здесь, рядом с площадкой стадиона, были возведены храмы, многометровые статуи, какой была статуя богини Ники, алтари, сокровищницы, призванные прославлять различные государства, города, царей, жертвовавших на это средства. Не приезжали без жертвоприношений и многотысячные толпы простых греков-зрителей, а также спортсменов. От несметных богатств нашли крохи и для мастерский выдающегося скульптора Фидия. Место отведено было за храмами, почти у самой реки Кладеос. Отсюда, из маленькой мастерской, был призван Фидий в Афины, где суждено было ему создать свои великие творения на Акропольском холме и вскоре умереть в тюрьме. Судьба позвала его из этого маленького каменного жилища в Афины, в бессмертие.
Кажется, еще бьет тот древний источник, в воде которого купались пастухи и виноградари, предшественники олимпийских спортсменов. Еще сохранились развалины храма Геры, богатейшего храма, расположенного ближе всех – метрах в ста – от стадиона, и жив алтарь, его плоский жертвенный камень, на котором зажигали от солнца олимпийский факел. Здесь и ныне красивейшая из женщин Греции зажигает и передает горящий олимпийский факел в руки спортсмена.
Почти тысячу двести лет продолжались в древности Олимпийские игры – до конца четвертого века нашей эры, и почти полторы тысячи лет их не было. Лишь в 1896 году они возродились. И – удивительное дело! – этим великим свершением нашего времени человечество обязано одному человеку! Учитель из Франции Кубертен целью своей жизни сделал возрождение Олимпийских игр.
Арки, сложенная из больших камней, почти циклопической кладки, за ней трехметровые стены с обеих сторон указывают сорокаметровый путь вдоль горы Кронион, а там, в конце этого выхода, – ровное поле чуть больше школьного стадиона, но не следует огорчаться этой неожиданности, ведь поле не простое – великое. Вдали, за полем, подымаются, как и тысячи лет назад, вечнозеленые холмы. Справа белеет полуразрушенная каменная трибуна главного судейства – в самой середине исчезнувших трибун. Слева специальных мест для сиденья, очевидно, не было совсем, их заменяла подошва горы, плавно подымающаяся вверх.
Спортсмены Древней Греции, чтобы иметь успех в соревнованиях, не ели жирной пищи. Им особенно рекомендовали грецкие орехи, – убеждает нас мадам Каллерой.
Ее информация на редкость интересна. Вот она уже рассказывает о том единственном случае на этом стадионе, когда среди зрителей оказалась женщина. Не полагалось женщинам видеть состязания олимпийцев, и не только потому что выступали здесь исключительно одни мужчины в обнаженном виде, но и по запрету дельфийского оракула, а стало быть, и самих богов. Смертная казнь грозила женщине, пришедшей на стадион во время состязаний. И вот одна пришла, одевшись в мужскую одежду. В какой-то миг напряженной борьбы ее сердце не выдержало: она вскрикнула, и все узнали в ней женщину. Когда ее вывели на казнь, сорвали платок – судьи и зрители отменили приговор: женщина оказалась женой одного олимпийского чемпиона и матерью – другого. За сына и мужа пришла она переживать, пренебрегая страхом смерти…
Олимпия… Не она ли давала Фидию, Праксителю и многим другим греческим скульпторам превосходный материал для создания совершенных статуй богов? Случайно ли, что из-под обломков древних храмов, из-под толщи песка извлекли именно здесь статую Гермеса и статую Аполлона – две разные, две совершенные формы мужского тела?
Когда стоишь на краю Олимпийского стадиона в Олимпии, видишь, какой размах получили ныне традиции этого кусочка Земли. Когда-то здесь культивировались лишь несколько видов спорта, которые можно перечесть по пальцам одной руки, теперь же многие десятки самых разнообразных видов спорта входят в программу Олимпийских игр. Каждый раз прибавляется что-нибудь новое. Открыты Зимние Олимпиады – все прекрасно! Но как могут современники самых опустошительных войн пропагандировать стрельбу из пистолетов и винтовок по разного рода мишеням? Когда-то были неподвижные круги статической мишени. Затем полетели тарелки – огонь по ним! Выдумали «бегущего кабана» – бей его! Что на очереди? Зачем же стрельба на Олимпийских играх – играх мира и дружбы?
Уже ноябрь, а вокруг стадиона: на полях, у подножия горы и на развалинах храмов – всюду цветы и отцветшие травы, все еще сильно пахнущие медом. С чистой совестью могу сказать, что в Греции не совершал традиционного святотатства – не набивал карманы мраморными осколками древних храмов ни в Афинах, ни в Коринфе, ни на мысе Сунион, ни в Микенах, ни в Олимпии, но тут не удержался и сорвал несколько стеблей пахучей травы. Особенно хороша она была около мастерской Фидия, около маленького каменного жилища, в стороне от храмов. Сейчас стебель той травы лежит у меня, засушенный, в книге вместе с кленовым листом с могилы Пушкина и напоминает о вечной истине: настоящие боги в храмах не живут.
От себя никуда не деться. Делаю небольшой прощальный круг по стадиону, иду в гостиницу позади всех. Воображение пытается представить далекое прошлое этого оазиса человеческой культуры, а память снова возвращает к прошлому своей жизни.
…И вспомнился вдруг далекий ныне 1952 год в Ленинграде. Нелегкая работа, учеба в вечерней школе, тренировки… Жизнь уплотнена, как бетон под вибрацией, но в розовой дымке юности, ставшей со временем еще дороже «пленительней, нет места для огорчений и хулы. Сколько рвенья, сколько выхлестано силы по пустякам и по делу и сколько радости приносил каждый новый трудовой день! Восемнадцать лет… Каждое утро – недосып, и каждое утро душа пробуждалась с надеждой и улыбкой. Каждый день сулил встречи с друзьями на работе, в школе, на тренировках, и любые огорченья, любые раны больно жгли, да скоро заживали. Юность – мятежные души, безоблачное небо!
И вот вызывают, помнится, в трест. В кабинете директора треста сидит сам «хозяин», а рядом – неизвестный чиновник из главка. Перебираю в памяти огрехи, но по причине экзаменационного отпуска свежих грехов на работе набрать не успел вроде, да и по лицам вижу, что дело хотя и серьезное, однако не громобойное. Переживем…
– Чего грудь-то выпятил? Садись! А на щеке чего – кровь, что ли?
Я отцарапываю что-то около уха.
– Ну да, кровь! Свекла это!
– Все дерешься, говорят? – спрашивает директор.
При этом вопросе второй начальник отрывает голову от бумаг. Там, оказалось, мое «личное дело».
– Ну да, дерусь! На меня всю жизнь клевещут!
– «Клевещут!» А кто кладовщика побил под Первый май?
– Это я его с праздником поздравил.
– Ты мне это брось! Работаешь ты хорошо, тебя вон автоматом зовут, а почтенья ни к кому у тебя нет. Директор столовой жалуется…
– Он пьяница и взяточник! Да любит еще…
– Но, но! Не твоего ума дело! В вечернюю школу ходишь?
– Нет.
– Почему?
– Потому что каникулы начались. Девятый окончил.
– Девятый… Грамоты набрал больше моего, а ума нет.
– Наберу еще!
– Откуда?
– По коробу поскребу да по сусекам помету.
– Во-во! Язык-то у тебя… правильно говорят… – он вдруг набычился и неожиданно спросил – Родственники за границей есть?
Еще не легче! К чему это он? И второй – уши топориком…
– Чего молчишь? Есть или нету?
– Есть!
– Как это – есть? У нас по бумагам – нету!
– Значит – нету.
– Э, не-ет, соколик! Раз проговорился, выкладывай: сколько их и где? – Он оглянулся на начальника из главка и, как бы извиняясь, развел руками. – Так сколько и где, спрашиваю!
– Да пустяки, товарищ директор! Кровные-то у меня все в России, а вот двоюродные да троюродные…
– Тоже родня! Так где они? – жестко спросил директор.
– Всех и не упомню… Знаю, что есть в Германии и вроде еще – в Румынии…
– Та-ак… И чем они занимаются там? Не пишут?
– Не пишут.
– Так что они там делают?
– А лежат.
– Как это – лежат?
– Кто как, товарищ директор. Кто, значит, как положен, но больше всего – в братских… в могилах.
Переглянулись.
– Ты мне Швейка не разыгрывай! А коль спрашивают о деле, так по делу и отвечай, а то полетишь у меня, не посмотрю, что работник хороший! Ишь он…
Второй вмешался спокойней:
– Скажите, вы читаете газеты?
– И книги.
– Хорошо. Что же сейчас ожидается в мире?
– Ну, этого не перескажешь.
– Вы же увлекаетесь спортом…
– Ну, ожидаются Олимпийские игры.
– Вот! – включился в разговор директор. – Мы тебя рекомендуем туда…
– Да что вы! – махнул я рукой. – Я так задавлен работой и учебой, что нынче даже на городских соревнованиях срезался!
– При чем тут твои соревнования? Ты поедешь туда на более серьезное дело, чем руками махать. Работать едешь, и работать за троих, поскольку многих туда посылать – накладно.
– Так я туда – поваром?
– А ты думал, министром иностранных дел? Ты наработаешь!
– Ничего не понимаю…
– Наша спортивная делегация выезжает со своим обслуживанием, и на хорошем уровне. Едут хорошие специалисты, но сразу скажу: гулять действительно будет некогда, – так же спокойно закончил представитель главка и мягко закрыл папку моего «личного дела».
– Сейчас же иди оформляться в главк. Там уже сидят, соколики, анкеты оформляют, – поторопил меня директор. – Да смотри там, за границей-то, работай как надо, чтобы мне не стыдно было потом!
– До сих пор на мою работу никто вроде не жаловался.
– Знаю. Молодец, потому и посылаем. А если там по зубам кому захочешь дать, так хоть оглянись сначала!
– Так и сделаю! До свиданья!
…Восемнадцать лет. Даже в том бесшабашном возрасте я, кажется, понимал, что меня ожидает не только напряженная работа – ее ли мне было бояться! – но и редкое, не каждому выпадающее счастье видеть целый мир в одной точке Земли. Никогда не изгладится из памяти трепетное чудо разнофлажья на высоких трибунах Олимпийского стадиона в Хельсинки – этот разноцветный и мощный ореол всечеловеческого единства.
Там же, в Финляндии, я встретил пожилого, подавленного человека, полубезработного грузчика. Из недолгого разговора с ним мне стало известно, что это русский эмигрант, бывший матрос. Как-то вечером я сидел на краю тренировочного стадиона в студенческом городке Отаниеми, под Хельсинки, отдыхал после работы и ко мне подсел покурить этот человек, тоже закончивший работу. Десять минут – и открылась мне чужая жизнь, непростая судьба.
Полтора десятилетия жила во мне память о том разговоре, стояло передо мной лицо этого человека. Непролитой тучей томило душу, пока однажды она не выплеснулась в повести и не получила того самого «очищения» или разрядки, которую еще Аристотель подметил и назвал катарсисом…
Перед ужином я уединился на просторном балконе-солярии, куда вышел через стеклянные двери большого холла на втором этаже. Вечер был теплым, он продолжал разрушать наше северное представление о ноябре как о месяце капризного, а порой сурового предзимья. Вокруг темнели величественные кроны деревьев. С деревенской центральной улицы слабо доносились голоса, а направо, под кущами Священной рощи, стояла тишина. Я не знаю, ходят ли туда по вечерам местные жители, но наши парни потащились куда-то через рощу, в сторону реки Алфей, Это хорошо. Я сам люблю побродить вечерами в чужом городе, даже люблю заблудиться и решать географические кроссворды, и будь сегодня другое настроенье, сейчас бы шел с ними на эту потухающую за рощей зарю.
Впрочем, мои братья-разбойники пошли не за зарей, не за вечерним туманом, а за самым настоящим виноградом. Кто-то успел во время экскурсии уклониться метров на четыреста за мастерскую Фидия и притащил совсем неплохого черного винограда. Налетчик утверждал, что там целая плантация и – ни души. В руках у меня была полузабытая кисть этого винограда.
В холле заработал телевизор, я пошел на эти проклятые звуки, поигрывая полуобъеденной веткой.
– Хотите, я буду вам переводить? – послышался знакомый голос.
Налево, у высокого окна, наполненного фиолетовыми сумерками, сидела в кресле мадам Каллерой. Сумерки за стеклами казались гуще, от того что на стене было зажжено бра. Люстру не зажигали, потому что все амазонки в синих платьях плотной стайкой торчали сейчас у телевизора, занятые каким-то американским фильмом. Лишь одна полыхнула улыбкой в мою сторону – та, которую я внес и отель вместе с чемоданом.
Я приблизился к мадам Каллерой и, повинуясь ее жесту, сел на свободное кресло по другую сторону крохотного столика.
– Я буду вам переводить! Хотите? – повторила она.
– Спасибо, мадам Каллерой, не надо переводить. Вы и без того много тратите сил.
– Я устаю больше от уличных экскурсий: на воздухе голосовые связки устают сильней, чем в помещении.
– Да, естественно… Однако на экране какие-то страсти-мордасти начинаются.
– Страсти-мордасти? – удивилась она, видимо, эта незначительная тонкость языка была для нее в новинку. – А! понимаю! Это страхи, похожие на отвратительные морды?
– Совершенно верно!
Все-таки язык она знала хорошо. Меня давно подмывало спросить ее, где удалось гречанке одолеть один из труднейших языков мира. Однако у меня был к ней вопрос и посерьезнее, возникший еще на пароме, но как тут спросишь, если она твердо ответила: подробности в Афинах! Зачем загадки? На разговор она была не настроена, и я позавидовал приятелям, что крадутся сейчас, как школьники, по виноградинку, испытывая дьявольски приятное ощущенье озорного детства. Возможно, даже ползут по-пластунски, забыв свои писательские званья… Не попались бы, паразиты!
– О! Что я вижу!
– Да, мадам Каллерой? – Я учтиво повернулся к ней, поигрывая ворованной веткой винограда.
– Вы едите этот виноград?
– Да… Нет, впрочем… Так, попробовал только…
Я стремительно сорвался с кресла и бросил ветку в красивую урну, что стояла у дверей на балкон.
– Вы очень верно поступили, – удовлетворенно закивала она, когда я сел снова в кресло, и на мой вопросительный взгляд пояснила – Разве можно есть этот ужасный виноград? Это дурной сорт, одичавший. В этом году его будут вырывать и заменять.
– Благодарю вас, мадам Каллерой… – И, предупреждая ее вопросы, я беспечно пояснил – Виноградом угостил меня какой-то мальчик-грек!
– У него стыда нет! Угощать русских гостей таким виноградом! Ну были бы вы перс или турок, а то ведь мы одной веры… Если завтра увидите, покажите мне его!
– Не беспокойтесь, это мелочь, право же, мадам Каллерой!
В холле раздался дружный смех – что-то комическое произошло на экране. Засмеялась и моя соседка. Это было очень кстати: я тоже засмеялся, представив, как мои друзья-храбрецы крадутся по заброшенному винограднику и падают ниц при каждом подозрительном шорохе…
– И все же я хотела бы вам перевести кое-что из этого глупого фильма, – утирая глаза платком, вновь предложила мадам Каллерой.
– Ради бога, не беспокоитесь! Я лучше пройдусь перед ужином. – Я уже сделал движенье встать, но приостановился и решительно спросил – Но прежде чем я уйду, мне бы хотелось услышать от вас…
– Да. Я слушаю, – она повернула ко мне голову.
– Насколько серьезно то, что было сказано вами на пароме?
– Уверяю вас: все серьезно.
– Тогда позвольте последний вопрос: что это за человек, интересующийся мной?
– Это важно? – наивно спросила она и, видимо поняв эту наивность свою, замигала, отчего слегка задергались припухшие под глазами мешки полукружья.
– Поймите, мой интерес легко объясним…
Она отвела глаза, глянув на вошедших в холл моих товарищей, вернувшихся с прогулки, – моего московского друга с женой и ленинградского писателя с дочерью, и коротко ответила:
– Одна дама…
Я помню час глухой бессонной ночи,
Прошли года, а память все сильна.
Царила тьма, но не смежались очи,
И мыслил ум, и сердцу – не до сна.
Не помню, как обстояли дела с сердцем, но Блок не покидал меня в ту ночь довольно долго. Возможно, подействовал продолжительный разговор о поэте с нашим блоковедом, состоявшийся как-то утром в Афинах, – разговор, дошедший до чтения стихов, но сбрасывать со счетов ту аэродромную встречу было выше сил. Не приведи бог раздумывать по ночам на эти огненные темы! Так и стояла в глазах та молодая женщина в черном платье, и все плыла передо мной ее рука, зовущая в машину.
Вчера вечером оперативно-виноградная группа опоздала на ужин, и потому мы не сошлись за одним столом: их накормили отдельно. Перед сном тоже поговорить не пришлось, и только утром встретились снова за завтраком. Их физиономии, ставшие за эти дни дорогими для меня, сияли довольством: как же – побезобразили за границей и не попались! Но лучше бы они не улыбались: их зубы, губы и пальцы чернели от винограда, – очевидно, не только вечером, ночью, но и утром эти эпикурейцы жили по теории: пусть брюхо лопнет, чем добру пропадать.
– Вы не смейте улыбаться моей официантке! – заявил я.
– Это почему же? – осклабился черной пастью прозаик из Москвы. – И почему она твоя?
– А потому. Во-первых, я раньше вас пришел на завтрак. Во-вторых, в день приезда не вы, а я не разрешил именно ей нести мой чемодан – не корчил буржуя, как некоторые присутствующие за этим столом, даже сам внес ее в отель…
– Но мы будем все же улыбаться, радуясь за тебя! – коварничал Николай.
– Нет. Вы и этого сейчас не станете делать, особенно после того, что я вам сообщу.
У меня легко получилась озабоченность на невыспавшемся лице. Они это заметили и, похоже, насторожились.
– Итак, вы видели, надеюсь, невдалеке от мастерской Фидия некие странные ящики? – начал я свое сочинение. – Ах, вы не видели! Хорошенькое дело! Так вот, в те ящики собирают урожай с того самого виноградника…
– Потише ты! – остановил Николай.
– Хорошо… Но главное, что каждую осень там срезают черенки, каждый обертывают в целлофан, укладывают в особые ящики и отправляют те черенки за океан. Почему так делают, я думаю, вы догадываетесь: редчайший, может быть, и единственный в мире сорт винограда растет в этом месте, вот только созревает поздно, но зато…
– Откуда ты это знаешь? – поставил вопрос прозаик-реалист.
– Справедливый вопрос! Отвечаю: сегодня, пока вы дрыхли после своей преступной акции, приходил в отель какой-то грек в сопровождении… Понимаете кого… И была вызвана – поднята с постели – мадам Каллерой, которую долго расспрашивали, не отлучался ли кто из нашей группы на виноградник. Это я узнал от нее самой. Коль сомневается кто – спросите ее, пожалуйста. Вон она – семь шагов до ее столика, только не отверзайте пасти свои!
Никто к столику нашего гида не пошел. Их глаза сверлили меня, но я смиренно опустил свои лживые очи в тарелку и сердито раздувал щеки, чтобы, часом, не рассмеяться.
Когда амазонка принесла нам кофе, ни один из поверженных моей ложью не поднял головы, зато я улыбнулся ей прямо в лицо и за каждого из поникших друзей говорил ей спасибо, да еще по-гречески.
Только в обед, когда мои разбойники вычистили – подозреваю, что только этим они и занимались, – свои рты и руки, я открыл им свою коварную шутку.
Обошлось без убийства.
И вот уже снова чемоданы у подъезда.
Притихшие амазонки в синеньких платьишках стоят, скрестив смиренно руки на груди. О чем думают они? Что останется в их памяти от нашего пребыванья здесь, в Олимпии?
Своенравная лошадь – Пегас! Раньше всех убедились в этом коринфяне. Однажды житель Коринфа взобрался на Пегаса и ожег могучую лошадь (она ела только мясо!) плеткой. Оскорбленный Пегас ударил копытом оземь, и в этом месте образовался Коринфский залив…
Греция – благодатная почва, где тысячелетиями уживаются легенды и действительность. Но сколько действительности в легендах! Достаточно лишь слегка отвести от античных страниц легкую занавесь божественных хитонов – и обнажится реальная жизнь людей далекого прошлого: любовь и страданья, походы и пиры, возвеличенье государств и паденье городов… Доверчивее ребенка и проницательнее филолога оказался при чтении «Илиады» Генрих Шлиман. Через три тысячелетия великий Гомер протянул ему руку и преобразил удачливого торгаша в величайшего археолога-энтузиаста лишь только потому, что тот поверил в страницы, считавшиеся до той поры чистым вымыслом. Шлиман поверил Гомеру, и тот не оставил его: торговец, над усилиями которого потешалась научная Европа, дорылся до эгейской культуры, открыл древнюю Трою – посрамил дипломированных скептиков! У этого «великого крота» были две точки опоры в неравной борьбе с историей и историками-современниками. Первая опора – его верный друг и жена, юная гречанка Софья, не убоявшаяся лысины и одержимости раскопками безумца. Вторая опора – старик Гомер. Так с его «Илиадой» и кармане и работал Шлиман. Когда были сняты наслоения эпох и обнажилась Большая башня Трои, Шлиман работал с «Илиадой» как с подробной картой, указывая туркам-рабочим, где надо отрывать двустворчатые ворота, где храм Афины, где мостовую… И обнажалось без ошибки!
Все это вспомнилось мне, когда наша группа уже побывала в Триполисе, Нафплионе, Эпидавре, в Микенах и прибыла наконец в Коринф.
Вещественны величественные развалины храма Аполлона – семь колонн дорического стиля – как руки из-под земли, рвутся они в современность из прошлого. Далекого прошлого… А кругом на большом пространстве торчат остатки стен, лежат обломки колонн и – камни, камни, камни… Здесь был город, один из самых оживленных и Греции. Вон там, у воды Коринфского залива, шумел многоязыкий базар и мерно покачивали мачтами суда, наполненные товарами. Нескончаемым потоком стекались люди сюда, на северо-восток Пелопоннеса, пешком, на лодках, на ослах, на лошадях. И где-то здесь, у самого рынка, стояла знаменитая бочка Диогена, искусно сделанная из глины. Мудрый старик – не жарко в ней днем. Вот тут, на этом пятачке, он унизил великого завоевателя Александра Македонского, отказавшись от всех его услуг, кроме одной: пусть он отойдет и не заслоняет солнца. А по ночам голодный старец бродил по рынку и собирал объедки. Величием духа высоко подымался он над бренностью обыденной жизни, возвеличивался нищетой своей над золотой рекой богатого рынка и совсем не случайно среди бела дня зажигал свой знаменитый фонарь, приподымался из бочки и всматривался в базарную толпу – искал Человека. Нелегкий труд, даже днем с огнем…








