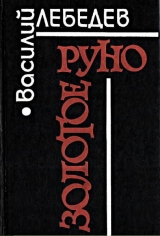
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– А толку-то! Вон за рекой еще один совхоз есть – худой, говорят, совхоз, а наши мужики поехали как-то недавно туда, разговорились да и узнали, что там зарабатывают так же, как и у нас. В хорошем-то совхозе побольше платить надо. Нет, не любят его люди, Николай Иванович, и я не люблю, хоть передавай ему, хоть не передавай…
Дмитриев промолчал, а Орлов вскоре объявил весело:
– Подъезжаем!
В ветровом стекле расступилась просека, открыла деревню.
У дома Анны Поликарповны Дмитриев тоже вышел. Простился, тронув рукой шапку. Орлов ловко развернулся, изготовился к обратной дороге и высунул на прощанье руку.
– Бывай здоров, комиссар! Чеши на ферму – достраивай в Буграх социализм, а с меня на сегодня хватит!
– Рули, рули, болтун! Сестре привет передай!
Однако Орлов попятил машину, спросил:
– А знаешь, почему Бобриков зоотехника Семенова выжил?
– Слухами, Андрей, не живу.
– И все же этот дымок от огонька…
– Ну?
– Семенова, поговаривали, к ордену хотели представить.
– И что же?
– Бобрикову могло не достаться: двум работникам руководящего звена в одном совхозе могли и не…
– Это не главное. Андрюша, главное… – Дмитриев вздохнул, махнул рукой и зашагал по деревенской улице.
– Как назад доберешься? – послышался из машины голос приятеля. – Может, ты недолго, так я подожду!
– Спасибо, как-нибудь доберусь!
10
Он не пошел даже в контору отделения «Бугры» – сегодня было не до общих вопросов – и направился прямо на стрекот колесных тракторов у скотного. Там – было слышно издали – взревывал от натуги тяжелый гусеничный с подвесным погрузчиком, а вокруг, лишь стоило прислушаться, копошились, потархивали легкие колесники, на одном из которых должен был возить навоз или торф тракторист Костин.
До скотного было с полкилометра, и, чтобы напрасно не проколыхаться по дорожным колдобинам – обычным весенним ранам русских дорог, он решил завернуть к магазину и спросить, где сегодня работает Костин. Спросить было у кого: за магазином пристроились человека три-четыре – издали трудно различить, но явственно выблеснула в руках у кого-то аспидно-черная бутылка портвейна. По мере того как Дмитриев приближался, он узнавал рыжие лохмы молодого плотника Крюкова, его сотоварища, что приходился племянником Анне Поликарповне, широкое лицо электрика Кротина.
– Здравствуйте, труженики!
– Привет властям! – развязно отозвался Крюков. Он оттягивал в натужной улыбке нижнюю губу вбок, прижимал зачем-то подбородок к груди, будто целился откусить пуговицу на фуфайке.
– Это во время-то работы? – строго спросил Дмитриев.
– Наша пятилетка… фьють!
– Что?
– Закончилась!
– Не выламывайся, Крюков! Почему не на работе?
– Я же сказал, Николай Иваныч, что уже отработал. Совсем: две последние недели – и ша!
– И ты расчет берешь?
– А я что – рыжий?
– А я – тоже, – не дожидаясь вопроса, заявил племянник Анны Поликарповны.
Дмитриев посмотрел на этих молодых, только-только отслуживших ребят, и ему стало не по себе.
– Кротин, а ты что пьешь с молодыми? У них хоть молодость дурит в мозгах, а ты…
– А у меня рабочий день не нормирован. Сегодня с полночи над мотором торчал, к дойке уладил его. Ко мне не придерешься! Кротин всегда как часики..
Дмитриев махнул на него рукой и к ребятам:
– Перестаньте дурить, парни. Заберите назад заявления и давайте тут жизнь устраивать. Что бегать-то?
– А чего мы не видели в вашем совхозе?
– Да совхоз-то не мой. Наш совхоз-то!
– Нет, он ваш с Державой, вот вы и работайте, а мы в город подадимся. Не пропадем! – самодовольно улыбнулся Крюков. Было заметно, что он – идейная сила, а не второй.
– За что обиделись-то? – спросил Дмитриев.
– Гм! За что! За все!
– Так не бывает.
– За то, что Бобриков – сволочь! – вырвалось у племянника Анны Поликарповны, и Дмитриев увидел зеленые, сощуренные злобой глаза.
– Это слишком общее да и, признаться, тяжелое обвинение. Так, наверно, нельзя…
– А ему можно? – встрял Крюков. – Мы два месяца, считай, без выходных работали в летнем лагере. Платил нам по самым низким расценкам, будто мы ученики. Ладно. Стерпели. А пошли к нему выходные просить – не дал.
– Выгнал! – вставил второй.
– Этот выгонит! – заметил Кротин, разглядывая бутылку на свет – сколько осталось? – Этот такой, у него не заржавеет!
– За что выгнал? – спросил Дмитриев.
– Гм! За что… Сними, кричит, салага, шапку, раз в кабинет к директору ввалился! А я ему: это у меня не шапка, это, говорю, волосы такие отрастил. Смотреть, говорю, товарищ директор, надо лучше, а уж потом кричать на меня. Этот захохотал, – указал Крюков на приятеля, – а Держава, известное дело, не любит, когда над ним смеются, ну и выгнал.
– Дети. Вы же по делу пришли!
– По делу. Только он нас не принимал и по делу, а нам невмочь стало без выходных, ну, мы взяли сами да и отгуляли два дня подряд.
– Ко мне бы зашли.
– Мы в партком не ходоки! Да у нас в совхозе это не повелось – в партком-то ходить: раньше, случалось, хаживали, да только все без толку. Слово Бобрикова – закон для всех.
– И все же напрасно самовольно отгуляли, ребята.
– Ничего не зря! Мы законы тоже знаем!
– Уж очень вы грамотные… Ну, чем же дело кончилось?
– Так чем! Приходим потом за получкой – видим, на стенке выговор, это за то, что вместо семи дней отгуляли только два дня своих, положенных.
– Это за самовольство.
– Пусть так. А подходим к кассе – нам недоплатили за работу. Потом глядим – премию за предыдущий месяц назад высчитали! Мы к бухгалтеру: чего творишь, косая? А она: идите к директору – его приказ.
– И что директор?
– Что директор! Директор в день получки сматывается подальше, известное дело.
– И все-таки вы, ребята, по молодости горячи. Не надо было нарушать порядок самовольством.
– А как же еще? – искренне спросил Крюков.
– А как поступил Степанов, на пилораме который работает, помните?
– Как?
– Директор уволил его, он – ко мне. Я поговорил с директором – тот на своем стоит. Степанов подал в суд. Степанова восстановили и заплатили за две недели вынужденного прогула.
– Это хорошо-о… – удовлетворенно произнес Крюков, – Только надо было заставить платить из кармана Бобрикова, а не из государственного кармана.
– Верно! – вставил Кротин, нетерпеливо топтавшийся у водосточной бочки, ожидая, когда уйдет Дмитриев. – Разиков бы пять – десять высчитали из его получки – узнал бы, как людей увольнять! Выпей с нами, парторг! Все равно, чего мы тут ни говори, а директор крепко сидит, никто его не шевельнет, у него до самой Москвы блат расставлен. Он, гад, что провод под напряжением: схватишь его, чтобы откинуть, а он тебе ка-ак дербалызнет! Искры из глаз. Не пробовал?
– Нет.
– И не надо, секретарь. И не надо. Ты хороший мужик, молодой, и жена у тебя молодая, тебе еще жить да жить, а он тебе всю малину испортит. И ребятам уходить надо, потому что Держава им мстить будет. Он не только слово – всякий взгляд косой помнит, я-то уж знаю, Насмотрелся. Выпьем, что ли?
– Спасибо, Кротин. Я обязательно с вами выпью в другом месте и по другому случаю… Скажите, а где сегодня Костин работает?
– Костин-то? Дома! – сказал Крюков.
– Не, на рыбалке он, – возразил Кротин.
– На какой рыбалке? С рыбалки он давно пришел. До рыбалки ему сейчас! Брата надо отправлять, сам уезжать собирается. Правильно, он ходил на озеро нынче, проститься, должно быть… Дома Костин, где ему еще быть? Недавно баба кричала за кустами, – дома, ясное дело!
Не отошел Дмитриев и десяти шагов, как заметил бригадиршу отделения «Бугры». Сухощавая, желчная, она шла нервным шагом, резко отмахивая левой рукой. Дмитриев не увидел в ее облике ничего нового и все же решил спросить, не случилось ли чего.
– Ничего не случилось! – ответила она сухо, не остановившись.
– Одну минуту! – Дмитриев сделал несколько шагов ей вослед. – Скажите, Тамара Владимировна, как вы собираетесь проводить весеннюю посевную, когда уходят сразу два механизатора?
Она поджала губы. Молчала, разглядывая парторга в упор, будто раздумывая, говорить ли с ним.
– Вы отпускаете сразу двоих братьев Костиных. Я уж не говорю, что уезжают и их жены, телятницы нашей фермы.
– Ну и что? Не они одни! Да и свет на них клином не сошелся!
– Это хорошие специалисты.
– Уходит мусор, хорошие остаются!
– Вы уверены в этом? – спросил Дмитриев, понимая уже всю нелепость своего вопроса, поскольку ни в чем она не была уверена, никаких своих мыслей на этот счет не имела, слово в слово повторяя выражение директора.
– А если и не уверена, так что? Вон у нас еще каменный дом построен – еще приедут, только квартиру дай! Делов-то палата!
Дмитриев молча покачал головой и, не простившись, направился к Костиным.
За молодой ольховой порослью показалась темная драночная крыша бывшей начальной школы, где жили сейчас две семьи. Небольшой подъем в горку. Ленивый лай собаки за сараем. Кругом порядок: от стен отброшен снег, покрашен ящик для газовых баллонов. «Как-то сложится разговор?..» – подумалось Дмитриеву. Он тщательно обколотил ботинки о порог и решительно отворил дверь.
– Добрый вечер!
– Здравствуйте! – услышал Дмитриев, не сразу различая людей и предметы, попав из солнечного света в полумрак.
– Здравствуйте! – послышался еще один голос из темного простенка меж двух полузавешенных окон.
Дома были оба брата Костины. Брат хозяина дома, Валентин, только одно лето проработал в совхозе на комбайне. Он дотянул до весенних школьных каникул, взял расчет, но уехать сразу не смог, а потом не рискнул ползти через всю страну на старое место, в Казахстан, во время учебного года. Директор потребовал освободить квартиру. Валентин поупирался, попросил разрешения пожить до конца учебного года, но директор настаивал, даже звонил в милицию, что человек рассчитался и не работает нигде. Валентин устроился временно и перебрался к брату вместе с женой и дочерью, пятиклассницей. Из-за нее-то он и не снялся с места, а в каникулы застопорило дело с переездом. «А хороший был комбайнер…» – подумал Дмитриев, слегка прислоняясь к стенке от усталости, но не физической, а нервной. – Однако при нем начать или не стоит?»
– Костин, вы знаете, зачем я пришел?
– Знаю, Николай Иванович… – Он вышел к свету, хорошего роста, сухощав в меру, сел на табурет напротив и чуть набычил упрямый, закинутый к маковке лоб в белой опушке волос.
– Говорить будем начистоту? – Дмитриев посмотрел на Валентина.
– Давайте начистоту, – с трудом выговорил Костин, – а при нем можно, он все знает.
Дмитриев, опасавшийся, что Костин не станет говорить, немного растерялся. Собираясь с мыслями, он окинул кухню и часть комнаты нарочито внимательным взглядом. Заметил много сваленных на пол вещей (должно быть, Валентина), увидел аккуратно приделанные полки, искусно выпиленные рукой хозяина или его сына, заметил хорошее зеркало в углу, телевизор в простенке – по всему было видно, что люди намеревались жить тут оседло, но вот сидят на чемоданах.
– Собираешься уезжать тоже?
Костин кивнул.
– Что же… Твое дело. Ты – глава семьи, тебе вожжи в руки, как раньше говаривали. Ну, а… что скажешь по нашему делу? Что же ты молчишь?
– Легко ли сказать? – Костин выдохнул, как простонал.
– Значит, сгоряча сказал, не решив окончательно, не подумав, а теперь стыдно слово менять. Так, что ли?
– Нет, Николай Иванович, не подумав, такое не говорят. Я не одну ночь провертелся без сна, думал, кто же я? Почему с меня требуют только работу, работу, работу и никто не поинтересуется, чего у меня есть и чего мне надо окромя работы? Или я бездушный трактор? Вы, говорю раз директору, поговорите со мной по-людски, может, я чего-нибудь стою как человек, а не как лошадь? Да разве он… – Костин махнул рукой. – Вон брат мой, Валентин, сразу в нем разобрался, а я все думал, что человек в заводе нервном. Отойдет. Нет, не из того теста! Не с той душой, видать, родился – не с человечьей.
– Не-е! – возразил Валентин. Он сидел на корточках, курил, – Тут смолоду, видать, поработано! Приучен!
Дмитриев пришел не за этим. Разговор у него был к Костину-хозяину, но разговор короче, предметнее, серьезнее.
– Павел, – обратился Дмитриев к нему. – Ты знаешь, зачем я пришел… Ты готов?
Павел повернул голову к окошку, придвинулся к свету, и стало видно его лицо, еще совсем молодое, энергичное. Молчал.
– Я тебя не тороплю. Хочу только одного: подумай, прежде чем ответить.
Павел тяжело передохнул, честно глянул прямо в глаза Дмитриеву и убежденно сказал:
– Не зря, Николай Иванович, придуман кандидатский… За это время к человеку присматриваются и человек примеряется к своему будущему, да и к самому себе тоже, только на себя по-иному глядишь… Я по-всякому себя крутил, с тем, с другим в мыслях рядом стоял, а рядом с директором – душа не велит…
– Директор совхоза – это не партия.
– Понимаю. Не маленький. Директор для меня – часть партии, вот я и примеряюсь к ней, подвожу себя к мерке, как на призывном пункте. Гляну на партию – маловат. На директора – великоват… – Он потупился, но тут же вскинул голову, дернул вверх белые кочки бровей: – Я так скажу, напрямую: какой прок партии от меня, если я здесь ничего не могу поделать, если не могу ни себя, ни людей оборонить от самодурства директорского? Прок-то какой от меня? Ну, выступлю – он меня подъедать начнет – сколько было так-то! А и не начнет, так вера все равно ему будет!
– Ты конкретно смотришь на вещи – это неплохо, только партбилет – не оружие против Бобрикова, это право и обязанность бороться, если надо, и с бобриковыми не одному за себя или даже за всех, а вместе со всеми за всех. Понял меня?
– С кем вместе-то? С кем? Все боятся его, а делать с ним надо что-то. Это же настоящий вражина, ей-богу! Только и знает: «давай, давай!» Да по всякому пустяку – приказ, штраф, выговор, лишение премии, увольнение не по закону. Сколько людей восстановилось через суд? Много! В суде знают его, хама, а там люди, наверно, не дураки. Он и Маркушева допек. Суд восстановил мужика на работу, так он воспользовался тем, что тот треснул Сорокину, а теперь судить будут человека, посадят от троих-то детей. Директор руки потирает – как же! Отомстил!
– Решение суда будет зависеть от показаний самой пострадавшей. Если она человек честный, то возьмет на себя часть вины за весь конфликт, как оно и было. Все от пострадавшей…
– Пострадавшей! Да, Николай Иванович, кто пострадавший-то? Маркушев и есть пострадавший-то! Он ли не натерпелся от директора – и обзывал, и копейкой пригнетал, и переселял из квартиры в квартиру. Казенная квартира – это теперь его главный козырь: народ можно не беречь. Он думает, настроил домов и проживет на приезжих? Верно, много приезжают, кому квартира нужна, а кого Бобриков заманит, только где они, приезжие-то? Кто сразу плюнул и уехал, а кто еще на чемоданах сидит, а кто на сторону смотрит – места ищет, где бы его человеком считали.
Дмитриев не рассчитывал на такую словоохотливость Костина, на собраниях тот неоднократно брал слово, говорил дельно, весомо, коротко, а тут никак не мог остановиться, видно, немало нагорело в душе. Брат его молча сидел у плиты, курил и улыбался, он смирился, очевидно, с тем, что в жизни его произошел заезд в эти несчастные Бугры, в этот совхоз, где его не оценили, где он не услышал доброго слова. Лицо его, навек загорелое в целинных степях, куда он уехал в те первые годы прямо из армии добывать хлеб стране, казалось не примиренным, но просто спокойным – лицо человека, знающего, в каком мире он живет. Дмитриев не опасался его присутствия, он понимал, что у братьев одна сейчас думка уехать.
– Расчет взял? – спросил он Костина.
– На днях пойдем вместе с женой: у той срок заявления кончается.
– Та-ак… – Дмитриев сцепил пальцы, вытянул руки поперек стола по новой, цветастой клеенке. – Значит, испугались Бобрикова? Да? Значит, бежать проще, чем тут…
– Что тут? – скосился Костин.
– Чем тут стоять за себя! – выкрикнул Дмитриев и уже не мог остановить в себе этот копившийся в разговоре порыв. – Бежите, как тараканы! Один погрозил – и все врассыпную от стука… Ждете, когда кто-нибудь за вас одернет этого… Очистить вам место – вы приедете, так сказать, на готовенькое!..
Под левым локтем, почти у самой стены, стоял стакан. Дмитриев со свету не заметил его поначалу, а тут, в этом неожиданном для себя порыве (нервы подвели), столкнул стакан на пол. Раздался звон стекла. Он не смутился, напротив – двинул осколки ногой к порогу мимо Валентина.
– На готовенькое? – поднялся тот.
– А как же? – принял вызов Дмитриев.
Валентин откинул окурок к ведру – не попал, не торопясь подошел, поднял и бросил в ведро. Сам хозяин настороженно поглядывал за братом, но тревожного ничего не уловил в его движениях. Валентин прошел мимо Дмитриева в другую комнату, хрупнул застежками чемодана, пошуршал и вновь появился, остановившись перед столом.
– Вот тут мои грамоты, – не хвастливо, а как-то скорей устало сказал он и положил на стол толстую пачку добротной, кое-где с краев потрепанной бумаги.
Дмитриев прочел одну, потом другую, затем еще несколько. Это были грамоты Валентина, выданные ему сначала как трактористу, потом как комбайнеру. Грамоты были разных рангов – и районные, и Кустанайского обкома, и выше…
– Может, я и впрямь паразит, тогда зачем же мне, паразиту, эти грамоты люди давали? А люди те – я скажу – не чета вашему директору. Он меня прошлой осенью упрашивал, как жених невесту: попробуй, скоси рожь за перекрестком – ничего тебе не пожалею! Как же, говорю, ее косить, когда она вся полегла? А он: скоси, да и только! Скошу, отвечаю, как же не скосить, ведь это рожь! Только, говорю, не знаю, как с потерями, да и комбайн у вас старый… Скоси, говорит, – сто пятьдесят рублей премии дам! Так и сказал в конторе. При людях сказал!
Валентин немного заволновался. Отошел и снова сел уже на табурет у плиты, похватал карманы – закурил.
– Валька, кинь спички! – сказал ему Костин и попросил, как потребовал. – Расскажи парторгу, как ты косил.
– Все видели, как косил. Обыкновенно… Целый день вокруг комбайна выходил, ножи так настроил, что он брал у меня – как овцу стриг – у самого корешка. Колосья, что к земле приткнулись, подымал и в барабан отправлял. Сидел и только за рельефом следил да скорости менял – нельзя было иначе: все зерно осталось бы на поле. Может, вру?
– Нет. Я видел, – не отводя глаз, сказал Дмитриев, только скулы у него омертвели.
– А кто не верит – пусть посмотрит скирды, что у перекрестка за леском стоят. Ворохни их – зерно не посыплется. В моих скирдах мышам делать нечего, зерна не найти. А вы мне: паразит…
– Скажи, как отблагодарил тебя директор, – попросил брат.
– Секретарь знает, поди, как… Вместо ста пятидесяти обещанных рублей выдал мне только тридцать. Ну что же, думаю, может, денег нет. Только смотрю, а шоферу своему – семьдесят премию выписал! Я спросил: почему так? Ошибка? Наорал… Не-ет… Не привык я так, товарищ секретарь, работать, да и к обращению я вроде как к другому привык. В работе, в оплате всякое бывает, но чтобы на рабочего человека орать, обзывать за то, что он работал, – такого ни один порядочный человек терпеть не будет. Перевоспитывать его бесполезно, это глупость – перевоспитывать в таком возрасте, да и кто будет заниматься этим делом? Не-ет, лучше уехать…
– А дальше говори! – повернулся к нему Костин.
– Ну, что дальше? Я ему сказал, что он нечестный человек, и ушел, а в следующую получку прихожу – получать нечего. Что такое? Оказывается, у меня высчитали премию назад.
Валентин рассказывал неторопливо, и было странно видеть, как он задумчиво улыбается, рассказывая свою эпопею спокойно, будто это было давно.
– …Так не за это ли мы с братом никудышными стали? – с выжидающей улыбкой спросил Валентин.
– Нет, не за это, – с трудом разжал челюсти Дмитриев.
– А за что? – спросил Павел.
– За то, что много о себе думаете: вас обругали, вас обсчитали, вам не улыбаются! А главное – за то, что все, что здесь, в совхозе, есть плохого, вы оставляете другим!
– С собой брать, что ли? – пошутил было Валентин, но сник под взглядом Дмитриева.
– Плохи шутки, когда работать здесь действительно трудно, когда люди волками на сторону смотрят – куда бы сбежать.
– Что же делать? – спросил Павел.
– Прежде всего – не бежать, а там посмотрим…
– Посмотрим! И так видно, что ждать хорошего нечего, Николай Иванович, – покачал головой Павел.
Дмитриев подавил тяжелый вздох, выложил сокровенное:
– Есть что ждать. Есть! Большинство партбюро – из тех, кого Бобрикову так и не удалось запугать. Есть среди рабочих крепкие люди, тебе, Павел, под стать. Не могу же я один. Что я один?
– Да, один в поле не воин, – согласился Павел.
– Мы давайте так договоримся: если и теперь, за ближайшие недели, не добьемся изменений – ну хоть каких-то – в производственном климате, тогда я вместе с вами скажу: работать нормально тут нельзя. Тогда уезжайте, но пока не торопитесь! Поймите: жалко же вас терять, ведь работать-то вы умеете, да еще как, уж я-то понимаю в этом: сам тракторист…
– Разве? – удивился Валентин.
Дмитриев не ответил. Он поднялся, постоял у стола, потрогал стопку грамот и направился к дверям. У самого порога повернулся и устало сказал:
– Павел, вручение партбилета через два дня в райкоме, – подумал и добавил – И вообще… я рассчитываю на вас, братья.
11
«Так ли я им все сказал? Нет, вроде не все так, как хотелось…» – размышлял Дмитриев, как только вышел от Костиных. У него вошло в привычку оглядываться на свои слова, не потому, чтобы их поймать и вернуть, – нет, но исключительно для анализа, годного на будущее. Он забывал о неловкостях своего поведения, но тем сильней мучился от неудачно вырвавшегося слова и был потаенно горд каждым своим дельным выступлением.
А Бугры между тем уже терялись во мраке. У магазина рокотали мужички – те, что позабулдыжней; у невзрачной клубной клетухи посвистывали недоростки, светя краденными у батек сигаретами. Потархивал у скотного дежурный трактор, стоявший, должно быть, под транспортером, – вот, пожалуй, и все звуки. Света не было нигде. Дмитриев знал, чьи это выходки. Нет, это не мальчишки побили лампочки. Это директор совхоза отказался от услуг районной электросети – зачем ненужные отчисления! – и решил обслуживание внешней осветительной сети проводить силами своих электриков, но электрики будто вняли его экономическим выкладкам – не полезли на столбы менять перегоревшие лампочки. А директору что? Меньше нагорит – меньше платить. Что касается Бугров, то в этом углу и вовсе все заглохло. Кротина даже перед большими праздниками не загнать на столб, с собаками не загнать, так откуда же будет на улице свет? А за озером во весь размах светило село отстающего в районе совхоза. Частый пунктир лампочек золотым роем напоминал Дмитриеву, что то село не сегодня-завтра выйдет в люди, справившись с трудностями. По слухам, там дело было в плохой земле, но мелиорация вернула соседям сотни гектаров великолепной торфянистой земли, и теперь дела там должны пойти. Живут соседи, не пряча своих трудностей, борясь с ними в меру сил, не прячутся по вечерам в темные норы, не месят грязь в кромешной тьме. У них есть надежда, они живут ею, и неизвестно, не в тот ли совхоз поплывет от Державы знамя передовика?
Дмитриев вышел за Бугры, держась сухого места – середины дороги, – выровнял шаг и, по-солдатски, наотмашь выбрасывая руки, заспешил к дому. Перебрав в памяти события минувшего дня, он пришел к выводу, что все идет хотя и не лучшим образом, но главное – сдвинулось с места. Развязки в районе он ждал более-менее спокойно.
Впереди в проеме просеки светился еще край неба – скорей, последнее, должно быть, облако, высвеченное уже не здешним, а потусторонним, завтрашним солнцем. С востока все шире заваливалась ночь. Для Дмитриева не было ничего трудного в этой знакомой ему дороге, он не досадовал на темноту и неровности, более того – испытывал некоторое душевное облегчение от ходьбы: кровь на первом же километре разбудила придремнувшие мышцы, отхлынула от головы, обновилась, будто отринула тяжелые думы. Впрочем, он не был доволен разговором с братьями Костиными, считал, что можно было говорить с ними спокойнее, убедительнее, но не на все, видать, хватает человека. Мысли его постепенно отрывались от Бугров, и новые заботы – о доме, о здоровье сына, об институте – постепенно выклинивали события минувшего дня. Он прислушивался к своим шагам, отдаваясь тишине наступающей ночи, погожему белозвездному простору над лесной дорогой, и с радостью заметил, что наконец-то нет заморозков даже в звездную ночь. Значит, снег погонит и ночью. Вот уже побулькивает в канавах. Пахнет почкой. Скорей бы трава!..
Как мимо кладбища, прошел мимо сгоревшего хутора, миновал скирды теперь уже орловской соломы, проплывшие темными скалами правее дороги, и опять пошел слева и справа лес до самого перекрестка. Еще издали он услышал движение машин на большой дороге. Вскоре стали помелькивать фары за сосняком, и Дмитриев вышел к перекрестку. Сельповская машина все еще лежала под откосом, она лишь угадывалась там, внизу, темнея бесформенной грудой. Он прошел мимо, и где-то, кажется под самой аркой призрачных во мраке совхозных ворот, ему вспомнилась реплика начальника сельхозуправления Фролова – «Дон Кихот!». Он едва не приостановился, будто от оклика, и мысленно заспорил: «А если и донкихот? Кому-то надо быть…» Однако новый голос весомо напомнил: «Ты не один…»
Он это почувствовал и теперь, когда увидел освещенное окошко своего жилья. По лестнице взбежал единым духом, вложив последние, оставшиеся после ходьбы силы, и не загромыхал в дверь кулаком (опасался разбудить больного сына), а достал ключ и открыл дверь сам.
– А вот и папу-уля наш! – обрадовалась Ольга.
Все двери – на кухню и в комнату – были растворены. В той, что налево, была видна детская кровать, а над подушками светилась белесая головенка Володьки. Исхудавшее лицо мальчишки слегка посвежело. Он сосредоточенно выводил зеленый грузовичок из «ущелья» одеяльной складки.
– А вот и папу-уля, гуляка! – снова пропела жена, светясь непонятной радостью.
– Поправляется? – крикнул он, стряхивая куртку, но мех в рукавах, как губка, прилипал к пиджаку, и Дмитриев запрыгал по старой, еще детской привычке.
– Попляши, попляши! – прихлопнула Ольга в ладоши.
Лицо ее неузнаваемо похорошело, не осталось и следа от утренней измятости. В глазах, в их ореховой темени, высвечивалась какая-то радость. Дмитриев не удержался от нетерпеливого вопроса:
– Что произошло?
– Хорошие новости…
– Ну, говори, раз хорошие, – пригладил хохолок на макушке, но только сильней вздыбил его ладонью.
– Ты разве не видишь? – Она указала в другую комнату, где у нее был вытащен чемодан, наполовину заполненный аккуратно сложенным бельем.
– Что? Развод? – улыбнулся он.
– У тебя только одно на уме…
– Почему у меня? Ты ведь чемодан собираешь… – И, уже устав от затянувшейся игры, серьезно спросил. – Что?
– Завтра, а хочешь – сегодня, переберемся в новую квартиру! Ванная! Туалет! Я как вошла…
– Какую еще квартиру? – насупился он, но догадка обогнала эти его слова, он понял: директор задабривает, однако ни злорадства, ни гордости не испытал Дмитриев при этом, ему просто стало легче оттого, что он, потративший столько сил, чтобы сдвинуть со стержня этот тяжелый жернов – Бобрикова, уже чего-то достиг.
– Квартиру в новом доме! Директор прислал людей…
– Людей!
– Да, людей! – еще с прежней радостью ответила она, но, тотчас почувствовав неладное, вдруг сжала рот, упрямо вырубив морщины в углах губ, что сразу состарило ее вдвое.
– Да я твоих людей!.. – Он запнулся, оглянувшись на сына, осторожно притворил дверь, но эта пауза не остудила его, напротив – накатила волну гнева, и та, стремительно поднявшись, развалила уже подточенный заслон. – Твоих людей!..
– Они не мои!
– Этого директорствующего кретина! Тебя!..
Он рванулся в ту комнату, где стоял чемодан, сильно двинул его ногой к порогу. Чемодан прямоугольной шайбой цокнул по косяку двери и вошел в кухонные «ворота».
– Ты мне в эти дни… в эти дни… Ведь любой дурак ткнет пальцем и скажет: вот за что цапался Дмитриев с директором – квартирка ему нужна была! Ты меня выставляешь шкурником! Ванная ей понадобилась! Тебя что – вши заели? Дождь льет на твою голову? Что? Что ты мне хочешь сказать? Дай мне работать! Хоть ты то пойми и не мешай мне в такие дни.
Он смягчил тон – выплеснулся немного, а когда жена умолкла под его напором и отвернулась, понял, что наговорил лишнего, и на смену злобе пришла обыкновенная человеческая жалость к ней. Он вспомнил, что все совместные годы он только обещал. С переводами, переездами, со сменой работы складывалось все так, что горизонты – вполне реальные и обоим видимые – отодвигались от них. «Ничего, – думали они, – переедем в настоящую квартиру, поднакопим на мебель и…» И вот она, квартира, в первом совхозном доме со всеми нынешними удобствами – бери ее, радуйся, живи, но брать нельзя, надо еще потерпеть. Еще немного…
Он хотел сказать жене что-нибудь утешительное, но после крика своего не мог найти нужных слов и тона, поэтому подошел и тронул за плечо. Она резко повернулась – и в глазах ее он увидел холодную отчужденность. На Ольгу нашла, видать, та угарная туча и разметала все еще не окрепший, хрупкий мосток между ними. Она хлопнула дверью. Забаррикадировалась самым надежным укрытием – детской кроваткой.
«Черт с тобой!» – стиснул он зубы.
Спать он устроился в другой комнатушке, но уснуть не удалось. Нервы не обманешь: эта последняя встряска взбудоражила его. Проворочавшись около часа, он поднялся с дивана, служившего им со дня свадьбы, оделся кое-как, на ноги насунул старые мягкие валенки и, чтобы успокоиться, устроился на кухне с «Деталями машин» – через неделю надо ехать сдавать…
Наука в голову не шла. Хотелось пройти в комнату и взять томик рассказов Шукшина, но опасение, что жена расценит это как поиск примирения, остановило его. Кроме того, по опыту заочной учебы он знал, что даже если садишься за книгу усталый, надо преодолеть первые десятки минут, усидеть, войти в нее – и пробудится интерес, придет деловое успокоение. Однако успокоение что-то не приходило. Сквозь утомленное внимание дошел легкий стук в дверь. Он поднялся. Открыл.
– Это я, Николай Иванович…
– Вижу. Проходи. – Глянул на часы – скоро одиннадцать.
Он пропустил Маркушеву, указал ей рукой на дверь в кухню, прошел за ней следом, выловил под столом табурет, усадил.
Запахло резко силосом от старой зеленоватой солдатской тужурки, но в Дмитриеве лишь на секунду шевельнулся упрек, что пришла не переодевшись, он понимал, что она с работы и дело ее – нелегкое дело… Вот сидит она, молодая, моложе, пожалуй, его, Дмитриева, красивая, недаром заглядываются на нее мужчины, а женщины грозят ей, пока взглядами да языками режут, и за дело порой… А вот завтра могут посадить ее мужа. Что говорить – жалко и ее, и Сашку, и особенно детишек, ведь крошечные совсем. Трое их. Один сейчас в специнтернате, больной. Второй и третий – при них. Старший отца считает родным и ходит в школу в батькиной шапке…








