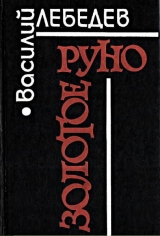
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
У конторы стояли два грузовика с закинутыми на кабины брезентами.
– Минуту! – крикнул он Орлову, сидевшему в машине, а сам поспешил к грузовикам.
Машины шли в город за комбикормами. Он решил ехать в кабине с тем самым шофером, которого Бобриков снял два дня назад с «Волги».
Дмитриев вернулся к Орлову и подал руку через опушенное стекло.
– Держись там, раз начал, – сказал Орлов и поехал впереди.
Когда грузовик с Дмитриевым разворачивался на перекрестке, стало видно, что Орлов остановил машину за асфальтом и помахал ручищей.
17
Небольшое волнение нахлынуло на Дмитриева только у самого здания райкома. Он пытался отогнать это дрянное, обессиливающее и унижающее человека ощущение душевной невесомости, скрытой дрожи, сделал над собой усилие, но все же ничего не добился. Не прошло. Вспомнил свою службу, строительство этого здания, вспомнил даже сослуживцев и солдата Аверина, о котором сегодня говорил Орлову. Нет, не помогло. Уже около самого входа, когда он мельком окинул стайку машин у райкома и заметил бобриковскую «Волгу», что-то ворохнулось в нем, сердце ударило гулко, отбросило куда-то расслабляющую дрожь, и хотя рядом с «Волгой» стояла «Волга-пикап» начальника сельхозуправления, Дмитриеву уже не стало хуже. Он понял, что беспокойство его идет не от вздорного страха перед начальством, а от того понятного неудобства, возникающего при непорядках на своей работе, – все это он понял тотчас, как только из дверей неожиданно вышел Костин.
– Ты уже здесь? – спросил Дмитриев. – Надевай шапку-то.
– Здесь, – твердо и спокойно ответил Костин. Он надел шапку – и тотчас скрылся его закинутый к маковке лоб, но еще резче засветилась прядка волос из-под черной шапки.
– Когда назначили получать билет?
– Велели прибыть во вторник. Едемте вместе? Погуляю пока… Мясо куплю, да… так чего-нибудь.
Он хотел спросить о чем-то Дмитриева, но тот всеми думами был уже там, на втором этаже.
– Ладно, Костин. Возможно, еще вместе поедем…
Секретарша, как только увидела Дмитриева, сразу встрепенулась, отложила какую-то папку и скрылась за дверью кабинета первого секретаря. Скрылась и сравнительно долго оставалась там. Но Дмитриев теперь был спокоен. Он работал, как ему подсказывала партийная совесть, а в положении человека, исполняющего свой прямой долг, умеющего трудиться, ничего не следовало опасаться, хотя… Он оглядел приемную комнату, стол, вешалку для небольшого числа посетителей и стал прохаживаться, успокаивая себя. Появилась секретарша и вежливо попросила подождать. «Там люди», – с присущей всем секретарям таинственностью пояснила она.
Теперь Дмитриев понял, что там, за дверью, куда он раньше заходил с надеждой на полное понимание, теперь особым образом готовятся к его приходу, но то обстоятельство, что там все еще не готовы к его приему, внушало некоторую уверенность и в то же время действовало на нервы. Он понимал: если бы не тот «номер» с разорванной характеристикой, было бы проще… «А, скорей бы!» – торопил он судьбу, опасаясь перегореть в ожидании.
Дверь робко приотворилась, и из нее выжался Бобриков. Облегченно передохнул и не поздоровался с Дмитриевым. Он его просто не заметил. Более того, он повернулся к нему спиной, остановившись всего в полутора шагах, и начал совершенно необязательный разговор с секретаршей.
Раздался несильный сигнал на столе секретарши.
– Заходите! – суховато сказала она Дмитриеву.
– Скажите товарищу Фролову, что я жду его в библиотеке, внизу! – услышал Дмитриев голос Бобрикова, необычайно угодливый и потому еще более отвратительный.
Дмитриев был готов. Он пригладил хохолок на макушке, покидал плечами и вошел.
Несколько раз он бывал в этом кабинете. Первый раз – когда его послали в «Светлановский». Сколько было добрых напутственных слов… Здесь все было по-прежнему: большой стол секретаря Горшкова, впритык к нему – длинный стол под темно-зеленым сукном с двумя рядами стульев – ровно по шести с каждой стороны. По трем стенам, кроме той, что была за спиной Горшкова, также стояли стулья. Занавеси на трех окнах были подняты, и свет нового дня весело заполнял этот просторный кабинет, где ничего, как казалось Дмитриеву, не было лишнего. За длинным столом сидели только трое – инструктор Беляев, начальник сельхозуправления Фролов и второй секретарь райкома Звягинцева. Все трое сидели по одну сторону, лицом к двери, и это красноречивее всего определяло фронтальное положение двух сторон, не совсем уместное здесь, правда, но Дмитриев понимал, что рассчитывать на исключительно дружеский разговор после того, как порвал характеристику Бобрикова, было бы наивно. Сейчас его утешало только положение секретаря Горшкова, сидевшего посередине, – положение полноправного арбитра. Дмитриев заметил напротив сидевших отодвинутый стул, на нем, вероятно, только что сидел Бобриков. Он подошел к стулу, как по протоптанной тропинке, но это сиденье вызвало в нем некоторую брезгливость, и он сел на соседний стул. На приветствие Дмитриева все молча ответили кивками. Дмитриев незаметно махнул ладонью по макушке и плотнее придвинулся к столу.
– Ну, что скажешь, партизан? – угрюмо спросил Горшков, однако за его полуотеческим тоном еще ничего нельзя было разобрать. Что намололи ему Фролов и Бобриков? А Беляев?
– То, что прошлый раз хотел сказать вам лично, но… вы меня не приняли.
– Тогда что можешь добавить к своему выступлению в среду?
– Я не считаю это выступлением. Я просто выразил свое мнение о кандидатуре директора Бобрикова. Мое отношение к нему сказалось и в случае с характеристикой, выданной бывшим партийным бюро совхоза на предмет награждения директора. Если есть в связи с этим какие вопросы – я готов отвечать.
– Вопросов, к сожалению, для тебя, Дмитриев, осталось немного, – жестко сказал Горшков, и Дмитриев понял, что первый не на его стороне. – Отвечать же тебе придется.
Дмитриев не удержался и легонько передернул плечами.
– И не пожимай плечами, не делан вид, что тебе тут на все наплевать! Сказал бы спасибо, что не вызвали на бюро райкома!
– Извините, но я предпочел бы бюро.
– Это мы решать будем! Не уйдешь и от бюро…
Горшков подержал на Дмитриеве взгляд, медленно перевел его на Звягинцеву и кивнул ей одними бровями – веди сама!
– Товарищ Дмитриев, обрисуйте нам в общих хотя бы чертах мотивы вашего выпада против директора Бобрикова, – начала она сыпать сдержанно, но споро. – И, пожалуйста, по возможности, полней. Личные мотивы тоже не забудьте.
– Личных мотивов никаких нет.
Беляев будто очнулся – уронил руки от лица на стол приподнял подбородок, лежавший на галстуке. Фролов с какой-то затаенной надеждой придвинулся со стулом – интересно, мол, как же он станет выкручиваться? Звягинцева, казалось, искренне заинтересовалась ответом. Ждал объяснений и Горшков, покатывая карандаш пальцем на столе.
– Вы полгода работали с Бобриковым бок о бок, – заметила Звягинцева, – и, вероятнее всего, смогли заметить какие-то слабости его, какие-то нарушения или злоупотребления, о которых своевременно не поставили в известность райком. А это было бы проще, чем собирать мусор в корзину, а потом вывалить все в один прекрасный день…
– Я сигнализировал в райком бывшему инструктору, но серьезных мер не было принято. Я ставил вопрос на партийном собрании о текучести рабочей силы в совхозе. Полгода были заняты текущей работой, работой с людьми в полном смысле этого слова.
– Ну, хорошо, а что же директор? Что же вы конкретно ему инкриминируете, если так можно выразиться? Правда, мы уже знаем кое-что, он сейчас признал целый ряд своих ошибок.
– Хотел меня опередить? Рецидивисты говорят: сам признался скидка будет, так, кажется? – усмехнулся Дмитриев. – Вы скажите, в чем он повинился, чтобы мне не повторяться.
За столом наступила некоторая заминка. Звягинцева и Беляев смотрели в листки исписанной бумаги.
– Перескажи коротко, – кивнул Горшков.
– Пожалуйста… – Звягинцева нахмурилась и с неудовольствием, то и дело заглядывая в листок, заговорила: – Он сам отметил неудовлетворительное состояние ветеринарной службы в совхозе, признал нерентабельность пасеки, идущей вразрез с общим, мясомолочным уклоном хозяйства. Бобриков признал также за собой вину за плохой контроль при отпуске продуктов в совхозную столовую, а также при списании продуктов на пищеблок непосредственно из совхозной кладовой, где имели место злоупотребления и были случаи хищения. Он даже признал, что лично брал цветы из совхозной оранжереи и возил их в город в качестве подарков. Надеюсь, вы не станете уточнять, кому возил? – слегка усмехнулась она.
– Нет, не стану, Зинаида Ивановна. Я просто знаю, но говорить об этом действительно не стоит.
– Если вы считаете, что можно что-то добавить, можете добавить. Это ваше право.
– Право защиты, – добавил Фролов.
– Я не собирал против Бобрикова подобных сведений, тем более в качестве защиты себя, но убежден, что подобные факты можно перечислять и дальше, не все они попадают под статью уголовного кодекса.
– Так что же вы имеете против Бобрикова? – с некоторым удивлением спросила Звягинцева.
– Он не должен работать директором совхоза, как, впрочем, и любого другого предприятия. Именно поэтому…
– Погоди! – Фролов прихлопнул папкой. – Разрешите мне! Погоди, Дмитриев! Ты подписывал акт комиссии?
– Акт обследования? Подписывал, – кивнул Дмитриев.
– Комиссия со всей ответственностью утверждает, – продолжал Фролов, – что состояние хозяйства в совхозе «Светлановский» хорошее. Экономическая база прочная. Удои… Только в последние месяцы удои стали немного хуже, чем в «Больших Полянах». По мясу план так же выполнен, как и в минувшие годы, а себестоимость литра молока на полкопейки ниже, чем в совхозе Орлова! Это что – шуточки? Это, скажешь, твоя заслуга? Нет, брат! Это его, Бобрикова, заслуга, нашего передового директора. Он прочно удерживает знамя передового совхоза, и я первый проголосую за то, чтобы товарищ Бобриков был награжден орденом за свои труды!
Страницы акта еще дрожали в руке Фролова, это видел Дмитриев, но странная вещь: чем дольше и горячей кипятился Фролов, тем спокойнее становилось на душе Дмитриева, да и те минуты, что уже прошли в этом кабинете, придали ему уверенности.
– Так что же у вас остается против Бобрикова? – уже с участием, как бы жалея Дмитриева, спросила Звягинцева.
– Прежде всего я должен сказать, что признания Бобрикова в своих делишках делают его не самокритичным, а просто жалким. Я еще раз убедился в том, что руководитель он безнадежный.
– Это голословно. Почему? – спросил Горшков, приглядываясь к Дмитриеву все внимательнее, он даже слегка повернулся к нему.
– Потому что он не свое занимает место, – ответил Дмитриев.
– Неубедительно. Пока нам кажется, что ты не свое занимаешь место!
– А вот это уже не разговор, товарищ Горшков. Так можно сказать и кое о ком из присутствующих.
После этих слов Дмитриев вспыхнул и снова натопорщился. Звягинцева заволновалась. Она похлопала ладонью по столу, умоляюще глянув на Горшкова, быстро заговорила:
– Мы уклонились от темы! Говорите дальше!
– Можно и дальше… – Дмитриев подергал плечами, уже не стесняясь и не досадуя на свою давнишнюю привычку. – Рассказ о деятельности Бобрикова я мог бы дополнить еще и не такими фактами, в каких он повинился перед вами, но считаю, что это не главное, эти факты лишь дополняют, а точнее – обрамляют главное, то есть суть этого человека. Нет, у меня к нему более серьезные претензии…
В кабинете стало совсем тихо. Успокоился даже карандаш под пальцем Горшкова. Дмитриев с трудом облизал вмиг пересохшие губы, Беляев тотчас налил и пододвинул ему стакан воды.
– У меня к Бобрикову самая серьезная претензия, какая только может быть к руководителю советского учреждения, – Дмитриев сделал большую паузу, оглядел всех подряд и, остановившись взглядом на Горшкове, отхлебнул воды.
– Какая претензия? – тихо спросил Горшков.
– Бобриков – плохой человек.
После этих слов установилось молчание, в котором ясно означилось ожидание чего-то еще, но Дмитриев больше не говорил. Тогда послышалось пофыркиванье – Фролов усмехался. Звягинцева сидела с озадаченным видом. Сам Горшков хмурился все сильней, а Фролов подергивался уже в откровенном смешке.
– Смешного ничего не вижу! – резко заметил Беляев. Выждал, когда уймется Фролов, и обратился к Дмитриеву: – Разъясните спокойно, пожалуйста.
– Я рассчитывал, что здесь, в райкоме, я буду откровенно делиться мыслями среди своих и меня спокойно выслушают, а быть может, и поймут… Я сказал: Бобриков – плохой человек, это значит, что не только плохой руководитель, он никакой не руководитель, как это ни удивительно. Руководитель руководит людьми. Людьми. Плохой человек не может правильно строить свои взаимоотношения с ними, а следовательно, и руководить – это мое глубокое убеждение.
– Интересно… – промолвила Звягинцева с улыбкой. – У нас еще не было, кажется, теоретиков.
– Теория сильна практикой, ее плотью, – заговорил Горшков. – У тебя есть практические доказательства, что, во-первых, Бобриков – плохой человек, во-вторых, что это качество мешает ему руководить?
– Эти два качества неразделимы, как две стороны одной медали. Я достаточно наблюдал со стороны и вблизи Бобрикова, и вот вывод: он не руководитель. Он понимает принцип нашего единоначалия по-своему, по-бобриковски. Он не терпит никаких возражений. С ним невозможно советоваться, не только подсказывать что-либо дельное, поскольку дельное, по его убеждению, может придумать только он сам. «Все, что вы тут говорили, – чепуха!» – вот его стиль. С людьми груб. Не считается ни с каким специалистом, если тот ему чем-то не приглянулся. Гонит! Окружил себя подхалимами, доносчиками, с напряженной болезненностью выспрашивает, кто о нем что говорит. За доносы – личная опека, премии. Он разлагает людей. Кадры подобраны самым примитивным образом. Бывшего секретаря партийного бюро ценил за то, что не мешала ему работать, а по существу – самоуправничать.
– Не мешать работать – это немало, – заметила Звягинцева.
– Для секретаря партийной организации – мало! Простите, что мне приходится это вам говорить! Бобриков культивирует религию крепкой руки, а по существу, это элементарное хамство. Он запугивает одних, ожесточает других, но никого не располагает к нормальной, дающей радость работе. Только вчера он приложил все силы, чтобы отправить в тюрьму некоего Маркушева. От троих детей! И это человек?
– За что? – спросил Беляев.
– Ударил женщину. Она оскорбила его жену. Возможно, дело будет пересмотрено в областном суде, но подлинная причина директорского ожесточения в другом – в том, что этот Маркушев во всеуслышание обвинил директора в гибели ста тонн картофеля. Надеюсь, вам это известно, товарищ Фролов?
Фролов насупился. Выкатил желваки на скулах. Молчал.
– По вине директора на досмотре за буртами менялись люди, один безответственнее другого. Одним находил работенку повыгодней, других, верный своей кадровой политике, выпроваживал из совхоза не так, так эдак. До дикости грубый человек, и заметьте: это не воспитание, это стиль работы.
– В чем вы видите причину, а точнее – природу такого явления? – спросил Беляев серьезно.
Дмитриев помолчал, собираясь с мыслями.
– Природу? Природа одна – несостоятельность человека, а несостоятельность руководителя, как мне кажется, складывается из невежества, попустительства и других факторов. Бобриков необразован ни специально, ни вообще. Его рекомендации специалистам примитивны, они разговаривают на разных языках. Эта отчужденность естественна. Директору остается только одно – требовать, но ведь и требовать надо квалифицированно, он же не в состоянии. Вот тут-то и возникает почва для грубости, хамства и самодурства. Так я понимаю природу этого явления, товарищ Беляев. Но и Бобрикова понимаю: без грубости, окриков ему не прожить – это его форма зашиты. В результате мы имеем разрушение человеческой личности самого директора и разложение коллектива вокруг. Это – болезнь. Это – гангрена, она растекается по совхозу, все живое, устав бороться, уходит.
– Вот как? – подал голос Горшков. – Значит, с зараженным коллективом Бобриков ведет совхоз впереди других?
– Нет, товарищ Горшков! Бобриков уже не ведет, а тянет совхоз и тянет за счет прочности хозяйства, сложившегося раньше, когда рядом с Бобриковым работали такие специалисты, как зоотехник Семенов и ему подобные.
– Ладно! А что там у вас, действительно, с кадрами? – угрюмо, все больше и больше расстраиваясь, спросил Горшков.
– Кадры в «Светлановском» сыпучие. Мы живем, как купцы на нижегородской пристани: нанимаем чуть не каждый день новых рабочих. Это необходимо, поскольку люди бегут. Приходится развешивать объявления, приглашать новых, а те идут, привлеченные жилплощадью. Новые дома в руках директора стали инструментом шантажа против старых рабочих. «Уходите, – кричит, – на ваше место другие придут!» И приходят, но тоже ненадолго: грубость, несправедливость в оплате скоро раскрывают им глаза на наш светлановский рай. Порой горько слышать, как радуются рабочие, когда директор уходит в отпуск или уезжает на курорт. Это ли не показатель их отношения? А что Бобриков? Он даже на текучести рабочей силы умудряется делать выгоду. Он попросту недоплачивает подавшим на расчет, знает, что те не станут спорить из-за пятерки. Как вы считаете, что думают рабочие о директоре, которому положено быть бок о бок с людьми, тем более в таком небольшом коллективе, а он отгородил себе отдельный кабинет-трапезную? Даже сделал отдельный вход. Что скажете, товарищ Фролов? Не там ли вы вчера писали акт, который сейчас держите в руках?
Фролов замер. Желваки на скулах побелели. Он молчал, сдавив ладонями папку с актом обследования, но понимал, что молчать тут нельзя.
– Все это эмоции человека, мало понимающего в хозяйстве!
– Возможно, товарищ Фролов, я меньше вас понимаю в хозяйстве, я не такой экономист, как вы с Бобриковым, но знаю, что главное в хозяйстве – люди, а не цифры.
– Для кого как! Для экономики важна цифра! Она пряма и не допускает слюнтяйства!
– Ах, вон как вы заговорили! Так знайте: экономика без людей, обеспечивающих ее цифру, – больная экономика! Знаете ли вы, сколько рублей сэкономил Бобриков на недоплате уволенным? Знаете ли вы, сколько он недоплачивает рабочим по сознательно заниженным расценкам? Он ни разу не заплатил, скажем, на покосе по норме. Сдают люди сено высшего качества, не тронутое ни дождем, ни сильной, многоночной росой, – зеленое, как чай, а получают по третьей категории, как за самое плохое. Поднимите бумаги и посмотрите! Я пришел сюда без актов и кляузных записок, но говорю, отвечая за каждое слово! Я могу перечислить почти половину обсчитанных таким образом рабочих. Надо это сделать?
– Сейчас не стоит, вероятно, – заметила Звягинцева.
– Все идет на благо совхоза, а не Бобрикову! – ядовито огрызнулся Фролов, полагая, что на это нечем будет ответить разошедшемуся парторгу.
– Нет, уважаемый начальник сельхозуправления! Ошибаетесь! Совхоз терпит на этом колоссальные убытки! Я вижу вопрос в ваших глазах, товарищи. Разъясняю. Первая потеря – моральная. Людская. Люди недовольны, уходят. Вторая потеря – материальная. Вы слышите, товарищ Фролов? Материальная. Я поручил одному коммунисту, он ведет расчет, сколько потерял совхоз на технике от случайных, временных трактористов и шоферов, безбожно губивших машины. Он высчитает, сколько потеряно на порче молочных аппаратов и потере молока от частой смены доярок только за последний год. Не сомневаюсь, цифра будет внушительной. Так что… вот она, экономика Бобрикова! Он экономист! Он даже высчитывает назад полученные премии! Нет, он не преступник-хапуга, он не берет себе прямо. Он получает косвенно.
– Как это? – поднял голову Горшков.
– Просто. Он держит удои, себестоимость продукции всеми дозволенными и недозволенными способами, а взамен получает крупные премии, рукопожатия начальства – ваши рукопожатия, – получает славу районного и областного масштаба, мечтает о большем. Теперь рассчитывал получить орден – читал я характеристику, написанную, очевидно, под его диктовку, – и потом выйти на пенсию по статусу персонального пенсионера. Расчет верен! А то, что рабочие обсчитаны, обижены, унижено и украдено их человеческое достоинство, – это не в счет! А ведь он совершает невидимое, казалось бы, преступление и не только против нравственности…
– Не сгущайте краски, товарищ Дмитриев, – заметила Звягинцева.
– Более, чем сгустил их сам Бобриков, сгустить невозможно. Если бы здесь был Бобриков, я спросил бы его, как можно было продавать рабочим мясо подохшей коровы и выдавать его в детсад? Он утверждает, что корова была еще жива, когда ее прирезали, а больные дети? Есть больные и среди взрослых. Это – тоже бобриковская экономика: жалко терять, лучше прикрыться справкой своего ветврача… Только долго ли он так наработает, ваш Бобриков, товарищ Фролов? Такие люди, как мой директор, лишь на словах заботятся о благосостояния государства, потому что забывают святая святых его – человека. Сам он, как я сказал, плохой человек, и люди бегут от него. Лучшие кадры, некогда обеспечившие экономическую базу хозяйства, уволены, и вы знаете, о ком я говорю. Это не единицы, к сожалению. Совхоз, как тяжелый самосвал, медленно заваливается в кювет. Катастрофа неминуема. Эта мысль не давала мне покоя. Я не знал, как сопоставить хозяйскую рачительность Бобрикова и его антагонизм с рабочими. Но все было просто: Бобриков работал и продолжает работать с узко-местническими понятиями. Он не видит самого главного – человека не видит. В первое время я просто ждал изменений, но вскоре понял, что имею дело с серьезной болезнью. Я пробовал с ним говорить – натыкался на грубость. Я вызвал его на партбюро – он не явился под благовидным предлогом необычайной занятости. Пришлось обратиться в райком. Говорил с инструктором, но очевидной помощи не последовало.
– Однажды он был лишен премии за большую текучесть кадров, – сказал Фролов.
– И тут же получил премию за производственные показатели, не так ли? Не-ет… Бобрикова сейчас рублем не покачнешь, хоть он и прижимист. В «Светлановском», товарищи, нужна серьезная операция. Я понимаю, трудно решиться на столь ответственный шаг.
– Да, нелегко, – сказал Беляев. – Операция предусматривает предварительные анализы.
Молчание наступило длительное. Тяжелое. Беляев задумчиво рисовал что-то на листе. Фролов сидел, наклонив голову набок, будто прислушивался к чему-то внутри себя. Звягинцева о чем-то напряженно думала и в забывчивости поцапывала ногтем о ноготь. Горшков был угрюмее всех, он чувствовал силу убеждения, исходящую от этого молодого еще человека, студента-заочника, как он помнил. Слова этого парня несли какую-то свежую, очистительную силу, знакомую Горшкову по дням своей молодости.
– Каково состояние партийной организации? Все благополучно? – строго спросил Горшков.
– Была одна накладка с приемом… Тоже, заметьте, из-за директора Бобрикова вышла заминка с получением партбилета… Да и вообще, товарищ Горшков, все неприятности с Бобриковым еще впереди.
– То есть?
– Я все о том же: совхоз дал крен. Если не принять мер – закатится звезда «Светлановского», и очень скоро, даже скорей, чем мы можем предположить.
– Ты нарисовал очень мрачную картину на хорошем холсте. Думаю, опасность сильно преувеличена, однако мы будем следить за вашим совхозом. Слишком велик кусочек, чтобы им кидаться… Работать вам с Бобриковым трудно – это факт. Мы еще посмотрим. Подумаем. Примем решение. До свидания!
Через какую-то минуту, когда Дмитриев, чувствуя не ожидаемое облегчение, а глубокую усталость, медленно одевался, в приемную вышел Фролов.
– Товарищ Бобриков ждет вас внизу, в библиотеке! – напомнила секретарша.
Фролов кивнул. Он снял с вешалки пальто, накинул его на плечи и остановился было с шапкой в руке перед Дмитриевым. Хотел, видимо, что-то сказать, но, вспомнив язык парторга, торопливо зашагал прочь.
– Разрешите позвонить в «Большие Поляны»? – попросил Дмитриев у секретарши.
Несколько минут добивался совхоза, а когда дозвонился, Орлова на месте не оказалось. Он с сожалением опустил трубку, так хотелось услышать знакомый голос и сказать другу, что он еще живой, черт возьми! Дмитриев подхватил свою куртку под мышку, нахлобучил шапку и уже попрощался, но из кабинета первого выглянула Звягинцева.
– Николай Иванович, если у вас есть время, зайдите ко мне.
Она не дождалась ответа, скрылась снова за дверью.
Дмитриев сразу решил сегодня к ней не ходить. Он сказал бы это ей самой и двинулся было к двери, но она вновь отворилась – вышел инструктор Беляев.
– О! Хорошо, что не ушел! – улыбнулся он и отвел Дмитриева к двери на лестницу.
Непонятно было, что значило его «хорошо». Дмитриев смотрел в лицо этого нового в райкоме человека – молодое, но спокойное и сосредоточенное. Ждал.
– Мы можем на «ты»?
Дмитриев кивнул.
– Все, что здесь произошло, – очень и очень серьезно. Естественно, что вас с директором будут заслушивать на бюро райкома, а до этого… До этого надо работать и быть готовым… Каковы планы в организации?
– Собрание назначено через две недели.
– Люди-то хоть выступят?
– Должны. Полгода расшевеливал, вроде начинают понемногу пробуждаться. Расходятся. Спячка-то была глубокая, тут за полгода трудно было.
– А остались крепкие-то? Не все сбежали?
– Есть люди. И хорошие. С такими работать да работать! На собрание, если сам уцелею, буду ждать.
Беляев хотел что-то сказать, но стрельнул глазом на секретаршу и молча подал Дмитриеву руку.
– Всего доброго. Работай. Жди. Все очень серьезно…
– До свидания. Я спокоен. Скажите второй, что не зайду.
Дмитриев вышел и остановился на площадке лестницы меж вторым и первым этажами, рассеянно рылся в рукавах – искал шарф. Внизу стукнула дверь, но не входная, а где-то сбоку. В библиотеке. Послышались шаги и затихли – кто-то остановился, и вот уже в глухом кубе полутемного фойе, справа от лестницы, послышались голоса. Из того самого угла, где когда-то Дмитриев любил устраивать с друзьями перекур, забасил Фролов:
– Моли бога, говорю тебе по-приятельски, что хоть так обошлось. Теперь смотри, пропустишь вперед «Поляны» – не видать тебе не только наград, но и вовсе несдобровать! Понял?
– Ни в жизнь не пропущу «Поляны», – ответил хрипло Бобриков.
Дмитриев пошел вниз, заправляя шарф под куртку.
Не торопясь, нащупал пуговицу. Запел негромко привязавшийся романс:
Утро туманное, утро седое…
Он увидел – оба стояли около лестницы. Фролов первый встретился взглядом с Дмитриевым и отвернулся.
– Еще поет, понимаешь, сволочь! – астматически хрюкнул Бобриков.
– Рано пташечка запела – как бы кошечка не съела! – успел бросить Фролов под самый дверной прихлоп.
«Может быть, и рано…» – невесело подумал Дмитриев, и снова ожидание чего-то тревожного – уже в который раз за последние дни! – закрадывалось в душу, вливалось в нее холодной массой, тяжелой, как ртуть.
18
Весь вечер Дмитриев просидел у Орловых. Погода радовала. Небо снова было чистым, звездным. Серп луны надумал показаться нынче над самым лесом и нацелился ползти выше, но самой большой отрадой было тепло. Несильный ветерок шумел в подступившем к старой школе перелеске, широко, истомно прокатывался по вершинам и, слабый, надолго опадал, будто набирался сил для ново го набега. Совхозный поселок за оврагом замирал За перелеском затихали последние голоса ребят после киносеанса, последние всплески девичьего хохота.
– Машину? Да стоит ли канителиться? Проводи лучше немного, надо размяться, – сказал Дмитриев.
Орлов, уже избалованный машиной, подумал немного, но согласился. Они договорились вместе пройти полдороги, дальше Дмитриев пойдет четыре километра до «Светлановского», а Орлов четыре – обратно. Дорогу разломили честно. Разговор почему-то не клеился. Дмитриев неохотно досказал о том, что было сегодня в райкоме, а сам все безнадежнее думал о прошедшем дне. Думы покрутились вокруг углубившегося скандала в районе, поднятого им, потом, по мере того как они уходили в лес, по скользкой дороге, ему все тяжелей и неотвратимей представлялась квартира, пустая от постели до кухонного стола.
Утро туманное, утро седое…
Орлов загорланил на весь лес, но осекся, увидел, что этим не расшевелить приятеля.
«Во что же все это выльется? Должно же хоть что-то сдвинуться с места…» – думал тем временем Дмитриев.
– …тут я с тобой согласен. Совершенно согласен! – дошел до него голос Орлова.
– В чем?
– Да в определении: развитие – это спор по большому счету. Все правильно. Все по диалектике.
– Все по диалектике… Только у меня такое впечатление: погонят меня в три шеи по всем правилам диалектики! Очень уж не хочется Фролову лишаться такого надежного директора.
– А что высокое начальство?
– Они не ожидали столь необычного, что ли, вывода от меня. Ведь все претензии к Бобрикову лежат в плоскости, так сказать, нравственной, что ли… Тот же начальник управления, наш милый Фролов, не привык иметь дело с такой деликатной вещью, как человечность, психология и прочее, что делает человека человеком и руководителем. Потом, когда совхоз опустится, поймут, что дела плохи, начнут операцию. Директора уволят и многие годы станут создавать работоспособный, здоровый коллектив.
– На кой те черт понадобилось ругаться со всеми? Попросил бы переводку. Ну, не ужился – все знают его характер – и пошел бы в другой совхоз, хотя бы ко мне. Может, еще не поздно?
– Да уж куда лучше, Андрей, чем к тебе!
– Ну так и давай, бери прицел на меня. Хочешь, завтра позвоню первому? Скажу, так и так…
– Нет, Андрей! У тебя я уж не работник.
– Да почему?
– Потому что приду к тебе с перебитым крылом. Подранок – не борец.
– А тебе поза нужна: смотрите – я борец!
– Да иди ты к черту! Поза! – Дмитриев помолчал. Успокоился. – Недавно мать спрашивает у меня: «Делом ли занимаешься, сынок?» О как ставит вопрос!
– Ну, а ты?
– Не ответил я ей толком. Сказал только: будет людям от меня помощь – делом, не будет – не делом.
– Людям?.. – в раздумье переспросил Орлов. – А производству?
– Тьфу ты! И этот! Да неужели тебе не ясно, ведь ты же не Бобриков! Производство – это прежде всего люди! Лю-ди! Бестолковый твой кочан! И чем дальше производство будет усложняться, тем важнее будет значение человека! – прокричал Дмитриев на весь лес и едва не сорвал голос. Прокашлялся, спокойней закончил свою мысль: – Я же сегодня, сейчас только говорил у вас дома, как четыре оператора обслуживают в смену одиннадцать тысяч голов скота. Одиннадцать тысяч! А ну-ка, скажи мне честно: есть у тебя хоть пяток таких людей, которым бы сегодня ты мог доверить такое богатство? А?..








