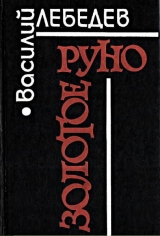
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Ну, что скажешь?
– Что же будет-то, Николай Иванович? – Она уставила на него тревожные глаза, охваченные слезами, – точь-в-точь две зеленые изумрудины под водой.
– Посадят, и только, – он сердито откашлялся, потом мягче добавил, как бы оправдываясь за прямоту – Я пытался объясниться и с пострадавшей, и с директором, но… сама знаешь, как говорить с Бобриковым. А Сорокина почувствовала защиту в нем, да и перечить ему тоже побаивается.
– Ведь она, сорока проклятая, сама напросилась, сама сунулась моему дураку под горячую руку. Эва чего вспомнила – Сашку моего, первенького, пригульного, а ей какое дело?
– Никакого.
– Так вот и получила по роже!
– Дичь какая-то, черт вас знает! Твой хоть помнит, где и когда живет? А? – Дмитриев заметно раздражался. – Кто просил его распускать руки? О чем он думает? Конца света ждет, глупец, и сам тому не верит.
Маркушева молчала, потупясь. Вот она опустила платок с головы на шею, ослабила узел под подбородком.
Дмитриев смотрел на ее красивую голову в туговолосом закруте. Действительно, на такую можно и заглядеться. Ей и вовсе не было бы цены – работящая, хозяйка не из плохих, слово может порой сказать людское, да поослабела в ней старинная бабья жилка: не может мимо мужиков пройти без визгу. Сашка, по слухам, бивал ее, жалея, со слезой. Да-а, плотная это штука – жизнь, все в ней касается человека, ни от чего в ней не посторонишься.
– Ты о детях сейчас подумай, – сказал Дмитриев наставительно, будто был ей отцом, а не ровесником. – Что бы с Александром ни случилось – должна выстоять: дети у тебя. Ты им – все.
– Да это понятно…
– Понятно, а водку зачем пьешь?
– Так ведь это редко со мной. По праздникам…
– Если бы только по праздникам! Да и по праздникам надо уметь пить, головушка садовая! А куришь зачем?
– Курю не всегда…
Она вновь опустила голову, прикусила нижнюю губу – белый серпик зубов лег поверх алой кожи.
– Ты извини меня, Мария, но… – поискал подходящего слова, не нашел. – Вот мать моя осудила бы тебя, если бы…
Короткая пауза, и Маркушева медленно подняла голову, щурясь.
– Если бы – что? – спросила она со всем греховным окаянством, какой только был в этой чуть припепеленной углине.
– Если бы у нее была такая дочка.
– Какая? – взгляд оледенел.
– Которая курит.
– Невелика беда – куренье-то!
– Для мужчины – невелика, может быть.
– Какая разница? Сейчас все…
– А ты знаешь народную примету? Если кура закричит петухом – это нехорошо, к беде. Куре отрубали голову…
Маркушева не обиделась. Потягивала концы платка, будто доила.
На кухне было тепло. Тишина во всем доме заставляла приглушать разговор, и от этого их беседа становилась еще доверительнее. В раздерге занавески весело дробился на сыром стекле отсвет окошек соседнего дома, в котором жил Бобриков. Дом был полускрыт в сосняке, но Дмитриев приблизился к стеклу и с трудом заметил, как распахивалась в темноту высвеченная снаружи узкая щель входной двери – одной ее половины, поскольку вторая была заделана намертво. Там ходили люди. Он понял, что это Бобриков собирает верных себе людей.
Из комнаты вышла жена. На кухню не зашла, лишь прошлепала мимо двери, не поздоровалась, а на обратном пути, когда возвращалась с пальто в руках, чтобы накрыть – сына, ехидно бросила:
– Чем на кухне-то шушукаться, лучше бы на улицу шли: там темно!
Дмитриев стиснул зубы, подергал плечами, но смолчал, лишь глянул на Маркушеву. Не смутилась она, сидела с улыбкой и даже громко сказала, покалывая острой зеленью сощуренных глаз:
– Придется идти на улицу, надо слушать жену!
«Ох, ведьма!» – подумал он, с трудом отворачиваясь от ее глаз, как от пригоршни бутылочных осколков, брошенных в него.
– Ладно… Хватит разговоров. Поздно уж.
– Спокойной ночи! – вздохнула Маркушева. Она помрачнела, вернувшись, видимо, сознанием к заботам своим.
– Поговорили бы, Николай Иванович, с директором-то. Не зверь же он, должен понять…
– Попробую поговорить завтра. Еще раз попробую…
12
Утром по совхозу прокатился слух, что ждут большую комиссию, да и как не пойти такому слуху, если директор до полуночи держал у себя ветврача, бухгалтера, прораба, завгара, бригадира центрального отделения. Он даже посылал за кассиршей, перепугавшейся насмерть.
В половине шестого на ферме появился сам Бобриков. Давно, с тех пор, когда он, еще молодящийся, сдержанный, преисполненный самых счастливых надежд и смелых замыслов на новом поприще, подымался по утрам – с тех, ныне уже давних пор не появлялся директор так рано на ферме. Для знания дел на местах ему достаточно было докладов или беглого дневного смотра. И вот – на тебе! – он на ферме, на утренней дойке. Такое в совхозе помнила, пожалуй, только доярка Дерюгина, бывалая, кадровая, смолоду работавшая, около коров.
Он пришел злой, невыспавшийся. После совета со своим штабом – совета, на котором говорил только сам Бобриков, – настроение его еще более ухудшилось. Он увидел, что никто из его подчиненных, даже самых ретивых и преданных, не мог дать дельного совета ни как лучше наладить работу в группах, где появились новые доярки, ни по вопросу ускорения ремонта сельхозмашин, ни – тем более – по самому главному вопросу, по которому он так срочно собрал их, – чего хочет Дмитриев и что он готовит против директора? Когда он чувствовал натянутость своих отношений с секретарем партбюро в прежние времена, это его мало волновало, теперь же он увидел, что партийный секретарь будоражит людские головы. Видать, немало у него единомышленников – и не только тех, что стали подавать голоса на собраниях, – есть и такие, что советовали вызвать на партбюро его, директора! Он чувствовал, что растет над его головой туча, но если раньше тучи были набежные, временные, вроде жалоб и комиссий по ним, с которыми легко было разговаривать, имея в руках знамя передовика, то сейчас он чувствовал тучу иную – грозовую, широкую, обложную. Перед вечером звонил сам Горшков, требовал Дмитриева, когда тот был в Буграх зачем-то, и загадочно спросил, не произошло ли чего-нибудь в совхозе. И ничего больше не объяснил! Как тут было не собрать на совет своих подчиненных? Но совет только расстроил его: все привыкли лишь слушать и кивать своему директору Надежда на них была плоха, и в нем шевельнулось тревожное чувство неуверенности, какое порой он испытывал на фронте, когда незаметно, без дела таяла его рота под минометным огнем. Однако если там была проклятая неизбежность, то тут был виновен он сам, не доглядел чего-то, в чем никак не мог признаться себе даже сегодня ночью..
– Кто так работает?! – глянул он с самого порога на Дерюгину, чья группа как раз начиналась от входа.
Доярка, приостановившаяся с ведром, хотела, очевидно, поздороваться, но, увидев лицо директора, искаженное в крике, повернулась и отошла к бидонам. Ничего похожего не было у него в конторе, там не отворачивались. Раздражал гул мотора, и он, перекрывая его, крикнул:
– Поди сюда! – и сам пошел на Дерюгину. – Почему грязь?!
– Транспортеры остановились! Инженер говорил…
– Мне наплевать, что он говорил! – кричал он в лицо женщине. Увидел, что волокут бидон с молоком, снова крикнул. – Разбиваете покрытие – высчитаю!
– Научите, как лучше? – резонно ответила Дерюгина.
За такие слова он решил ее отчитать, но было шумно.
– Выключить! – махнул рукой на щиток с рубильником.
На его крик и жест подбежала другая доярка – думала, зовет ее. Это еще больше раздражило Бобрикова.
Он сам кинулся к рубильнику. Рванул ручку вниз – стало тихо, но заревел скот, закричали доярки, возмущенные, что остановлен привычный процесс электродойки.
– Матвей Степаныч! Коров попортим! – воскликнула Дерюгина и решительно пошла к рубильнику.
– Стой! Не твое дело! – остановил ее директор.
– Как это – не мое дело? А чье же дело – коровы?
– Молчать!
Дерюгина несколько мгновений смотрела в лицо грозного директора, и неизвестно, как бы она поступила, но увидела в тот момент в дверях фермы Дмитриева. Что-то вмиг изменилось в ней – глаза, осанка, гордо вскинулся подбородок, – и она решительно отодвинула тучную фигуру Бобрикова плечом, дотянулась до рубильника.
– Вон! Снимаю с работы! – побагровев, закричал директор, но его голос снова потонул в ровном гуле электромоторов.
Дерюгина не отступила. Она стояла перед ним, твердая, неистовая, плотно сжав губы, не мигая глядела в лицо Бобрикова и заслоняла подход к рубильнику.
– Вон! Приказ сегодня! Вон!.. – все слабее и слабее прорывался его сорванный голос сквозь шум двора.
Доярки стояли, ошарашенные происшедшим: ничего подобного никогда не бывало в их совхозе. Они растерянно смотрели вслед директору. «Что-то теперь будет?» – был написан на их лицах вопрос, неожиданно смешанный с каким-то непонятным восторгом.
Бобриков столкнулся с Дмитриевым на полпути от дверей до середины скотного двора.
– Поди-ка разберись с этим хулиганством, раз ты парторг!
– Что случилось?
– Настроил, а теперь в дурачка играет! Хитер, понимаешь, только и я не дурак: ответишь и за это!
Дмитриев махнул рукой и пошел через весь двор, в противоположном конце его вышел на волю. В моечном отсеке поговорил с механиком, спросил, зачем приходил директор, но тот лишь развел руками. После дойки Дмитриев собрал доярок в том самом отсеке.
– Что у вас за бунт? – спросил он, обращаясь к Дерюгиной.
– А надоело, Николай Иванович, смотреть на его выходки! – Дерюгина решительно перевязала платок. – Что мы ему, подневольные, что ли?
– Я спросил: что произошло?
– Оттолкнула я его от рубильника – вот и все. Шумно, видать, ему показалось, а то, что коровы попортятся, – на это ему наплевать.
– Кончайте партизанить. На собраниях вашей смелости не докричишься. Нет бы, встала какая-нибудь да и сказала ему прямо, с фактами в руках, чем не устраивает ее директор.
– А вот возьмем да и скажем! Скажем, верно, бабы? Собирай собрание, скажем, не век же нам молчать?
– Вот это разговор. Будет собрание. Подождите…
Дверь в кабинет отворилась – и все тотчас поднялись со стульев, хотя директор еще не показался. Догромыхивал его голос:
– …и никаких прощений! Прощают в церкви, а у меня – совхоз! Придет – не пускай: без ее слез сырости хватает!
Голос секретарши был не слышен, и собравшиеся считали, что разговор окончен, но в притворе показался локоть директора, однако тут же исчез, послышалось:
– Машину? Обязательно! К десяти часам!
В кабинете нависло неловкое молчание. Нескладно получилось: взрослые люди поднялись со своих мест, как это утвердил командир производства Бобриков при своем появлении, а сам сейчас задержался. И снова его голос:
– …Закон есть закон! Провинюсь – и меня судить будут! Ну и что, что трое детей? Совершит преступление – и ее посадят, а детей государство воспитает! Что она думает – пропадут? Я сказал: совхоз слезам не верит!
Дверь блеснула белой краской, положенной под Новый год, и вдруг вовсе затворилась.
– Черт знает, что такое! – не выдержал бригадир плотников из Бугров, вызванный директором. – Сюда восемь километров пёхал, отсюда пойду да еще тут стой! – он махнул рукой и сел, опустив корявые руки меж колен.
– Дисциплинка! – заметила агрономша. Отчаянная крикунья, неиссякаемой энергии человек, толковый агроном, знающая к тому же шоферское и тракторное дело, способный организатор и плохая мать, она как нельзя лучше подходила к стилю бобриковского руководства. Небольшого роста, подвижная, припухшая с годами и корявая с лица, она напоминала подержанный волчок.
– Почто она такая? – лишь приподнял брови плотник.
– Надо знать, Кротин, дисциплинка – мать порядка! – Она прикурила и откинула спичку под ноги электрика.
– Мать! У тебя с утра до вечера то боженька, то мать на языке!
Агрономша восприняла это как похвалу.
– А то как же! Вас только распусти, Кротин, только ослабь вожжи – все пойдет прахом.
– Пусть он меня уволит, но стоять навытяжку не буду! – заявил Кротин. – Подумаешь, дисциплинка…
– Армейский порядок! – с оттенком насмешки сказала зоотехник Кольцова, пришедшая прямо из института на место опытного Семенова.
– А ты еще салага рассуждать об этом! – оборвал ее ветеринарный врач Коршунов. – Вот поработаешь с нашей пьянью, покрутишь короткой-то юбкой перед мужиками – бабы тебе покажут на ферме порядок, они тебе поопустят прическу-то!
Кольцова чуть заалела ухом, поставила колено на стул, но не села. Коршунову более, чем кому-либо здесь, неловко было стоять около пустого стола, и он отвернулся к окну, будто рассматривал там что-то, но, кроме голых деревьев да черной ленты заасфальтированной дороги, ничего там не увидел.
– И ничего худого в армейском порядке нет! – продолжал Коршунов. – Вашего брата только распусти – весь совхоз в трубу пустите.
Кротин принял это на свой счет и огрызнулся:
– Уж не мы ли по сотне кур на своем дворе держим, не мы ли кормим их совхозным зерном?
Коршунов резко повернулся от окна, нахохлился, полы расстегнутого пиджака вскинулись, как черные крылья, и неизвестно, чем бы кончилась стычка, не войди наконец сам директор. Вошел, приостановился, окинул присутствующих взглядом старшины перед строем и прошел к шкафу.
– Здравствуйте, – сказал он уже оттуда, вешая пальто.
Кротин так и не встал со стула. Один Кротин.
– А ты что – больной? – спросил Бобриков.
– С чего мне болеть? Вызывали – вот и пришел.
Бобриков прошел за стол и, пока садился, все держался взглядом за Кротина, будто не хотел выпустить эту небольшую точку из поля зрения.
– Сегодня у нас разговор не получится. Завтра приходи.
– Опять топать восемь километров?
– Я сказал: разговор сегодня не получится! – повысил голос директор, при этом он долгим, напряженным взглядом сломал взгляд Кротина, потом не спеша надел очки – это он делал церемонно, с удовольствием за своим столом – и с весомой неторопливостью дослал в спину. – Завтра придешь в это время. Я буду посвободнее, а ты – поздоровее!
– Ох уж эти Бугры! – агрономша пустила клуб дыма. – Еще и встать не хотел.
Коршунов подошел, схватился за кромку стола и уважительно склонился к директору:
– Матвей Степаныч…
– Что такое?
– Матвей Степаныч! Вчера я приезжаю на своем мотоцикле в Бугры…
– Ну?
– А там меня никто не боится!
– Как так?
– Не боится, – подтвердил Коршунов сокрушенно.
Никто не заметил, как плеснула улыбкой зоотехник Кольцова, но тут же сунула смешинку за щеку – почувствовала, что сейчас в этом кабинете никому не до шуток. И действительно: сообщение Коршунова, дополнившее утреннее недоразумение на скотном дворе, подействовало на директора угнетающе. Такого раньше не было. Почему? – этот вопрос был ясен. Виной всему был новый секретарь.
– Это все от него идет, – угрюмо произнес Коршунов, имея в виду Дмитриева.
– А от кого же! – поддержала агрономша – Появился тут чмур сопливый и выкомаривается, будто он… не знаю кто, а ведь посмотришь – плюнуть не на что. Хрен нестроевой.
– Это он с самого начала наметил на вас, Матвей Степанович, бочку катить, – встрял Коршунов. – Он, помните, вызвал вас на бюро и поставил вопрос о вашем поведении! Эва хватил! Но мы, старое партбюро, тогда показали ему!
– Он сейчас хочет на новое опереться. Силу копит, – отозвалась агрономша.
Да, Бобриков с самого начала работы Дмитриева в его совхозе почувствовал, что им не сработаться (этот термин любил Бобриков). Он понимал, что искра критического отношения к нему, директору передового совхоза, уже заронена, а где тлеет – этого он никак не мог точно определить, и вот сегодня на скотном дворе он понял: затлело повсюду.
– Когда все работали заедино, хамства не было даже в Буграх! – насачивал Коршунов на ухо директору. – Раньше, бывало, как приедешь – все по струнке, а теперь пришел этот…
– Где он? – спросил Бобриков.
– С полчаса назад шел нз гаража, – ответила агрономша.
– И чего там он?
Она беззаботно пожала плечами, и это вывело Бобрикова из минутного успокоения.
– Ах вон как? Вам никогда никакого нет дела до директорских забот! – Он даже скинул очки, побагровел и перешел бы, возможно, на привычный крик, но одумался, хотя и зашумел. – Вам только сидеть за спиной директора и пожинать лавры! Скисла цистерна молока – поезжай, улаживай директор! У шофера права отобрали – звони директор! Запчасти нужны позарез – опять директор! Корова подохла… – тут он осекся, подвинулся к столу и сквозь зубы, истошно выкрикнул:
– Дверь!
Агрономша кинула бровью Кольцовой – та подбежала, прижала дверь, неплотно прихлопнутую Кротиным. Ей, молодой работнице, нравилось, что директор, этот грозный директор, разносит сейчас всех вместе, разносит при ней. Она чувствовала, что это семейная сцена, присутствовать на которой дано не всем.
Кольцова еще держала скобку, когда дверь потянуло наружу. Она дернула ее к себе, но оттуда тянули еще решительнее. Неведомо каким чудом, но Кольцова почувствовала там женскую руку, хотя и властную, но несильную, и капризно дернула дверь на себя.
– Какого черта! – послышалось из-за двери.
Вошла бухгалтер совхоза. Высокая, даже дородная, судя по кости, она в последние годы как-то повысохла, профессионально ссутулилась. Фыркнула на Кольцову, прошла к столу. Оттуда она оглянулась на присутствующих, как бы оценивая, можно ли говорить при всех, и зашептала директору:
– Он в бухгалтерии! – при этом дернулись ее отечные мешки под глазами. Покосилась на Кольцову – самую тут ненадежную – и, как у изголовья, вытянулась у торца стола.
– Ну?!
– Требовал бумаги… Расчетные ведомости – тоже.
– Он что – воров ищет? Их нет!
– Бумаги не отдала, – продолжала бухгалтерша, не отвечая на директорские эмоции.
– Правильно сделала!
Она сгорбилась виновато, буркнула:
– Сам пришел. Смотрит бумаги в бухгалтерии.
Бобриков молчал. Молчал около минуты. Молчал и еще, пока просматривал сводку о вчерашних надоях, потом махнул рукой:
– Планерки не будет! Все по местам! Коршунов!
– Я!
– Бери ее «козла» и поезжай в Бугры!
– На моем «козле» жена Дмитриева поехала на станцию, – сказала агрономша и пояснила, выдерживая взгляд директора. – С больным ребенком поехала.
– Черт с ней! – дернулся Бобриков. – Поезжай тогда на своем мотоцикле, чтобы там все было готово к комиссии! Все! А вы тут крутитесь! Скажите завгару, чтобы гробы свои помыл, а тех, что ходят, пусть гонит подальше! Ясно? Все!
Он хлопнул ладонью по столу.
– А когда комиссию ждать? – спросила невозмутимая агрономша, снова закуривая, правда, уже у порога.
– Комиссия приедет со мной.
– После суда?
– Да. После суда.
13
Уже истекли сутки с того часа, как Дмитриев сжег корабли, но путь к заветному берегу справедливости ничуть не стал короче. Более того: узнав об ожидаемой комиссии, он понял, что завтра на его пути в район ляжет еще одна бумага, подтверждающая высокие показатели совхоза. Эту бумагу не сдвинуть, от нее не отмахнуться и не обойти, ее необходимо принять как объективную реальность со всей ее весомой серьезностью. Принять и доказать, что жизнь совхоза не умещается в исписанные под копирку страницы акта обследования…
Минувшей ночью, когда разгоревшееся воображение заставляло его произносить длинные речи перед несуществующими слушателями, ему казалось, что он говорит убедительно, что его понимают и сам секретарь Горшков жмет ему руку за его справедливую, умную, горячую речь, но теперь, при свете разгоравшегося весеннего дня, он вдруг понял, сколь бесцветны и невесомы были его слова из ночного «выступления».
Когда он вышел утром из дому и направился в контору совхоза, его неприятно поразило не мельтешение людей из «штаба» Бобрикова, не ощетинившийся затылок директорского шофера, а – как это ни удивительно – обычный, невозмутимый ритм трудового дня. Он слышал обыденные голоса рабочих, ноющий звук мотора электродойки, стрекот тракторов-колесников и особенно веселые голоса доярок, и все это так не шло к его напряженному настроению, что он только усилием воли поборол в себе чувство неприязни к этому новому, наполненному светом и весенними звуками дню. Он успокоился было, но слово «донкихот» всплыло в памяти и вновь сверлило его самолюбие и навело наконец на мысль, что он действительно совершил торопливый, неподготовленный поступок, и прежде всего потому, что совершил его в одиночку. Однако возмущенное сознание отринуло этот довод, и Дмитриев еще некоторое время шел твердым шагом уверенного в себе человека, нашедшего все же силы подняться против непререкаемого директорского авторитета, подняться один на один. Почему, думалось ему порой, он должен сколачивать вокруг себя людей, убеждать давно запуганных членов партбюро в совершенно очевидном факте превышения директорской власти, если можно сразу, одним поступком – таким, как уничтожение характеристики в кабинете инструктора райкома, – привлечь внимание к проблеме? Он даже был горд тем, что выбрал новый, необычный путь, но рядом с этой гордостью неотвязно стояла все та же мысль об ошибке в общепринятом методе работы – ошибке сознательной, поскольку он действительно не надеялся на поддержку своих членов бюро. А теперь, думалось ему, нужна не только смелость, но и доказательства мотивов своего поступка. Доказательства… И только тогда, когда во всем объеме встала перед ним мера ответственности, он понял, как недостает ему во всей этой истории людей – Дерюгиной, Маркушева, того же главного инженера и других. «Нет-нет, все же надо собрать и капитально поговорить», – решил он и в правление совхоза вошел сосредоточенный, готовый к работе.
В бухгалтерии, пересматривая дела уволившихся или уволенных из совхозов, он постепенно снова терял умиротворение. Перед ним проходили люди, работавшие на этой земле, оставившие след в общей борозде. Это их руками были сооружены каменные дома, дворы, фермы, водопровод, большая школа и произведены тысячи тонн молока и мяса – во всем этом был их труд, их время, часть их жизни, даже если они работали здесь и короткое время. Но кто дал право Бобрикову неуважительно относиться к ним, увольнять по пустякам, порой просто из амбиции. Вот они, дела, – одно, второе, третье… Эти люди составляли славу совхоза, она складывалась прежде всего из их труда, а не из отчетных докладов Бобрикова.
Он не высидел и часу: вспомнил, что надо перехватить директора до девяти утра и поговорить с ним по делу Маркушева.
– Прошу вас, не убирайте далеко денежные ведомости на премиальные оплаты, – попросил он бухгалтершу.
Бухгалтер – ни гугу.
Дмитриеву некогда было «разговаривать» ее: за окном мелькнула обширная тень Бобрикова. Он торопливо прошел по длинному коридору правления, но директора не догнал, тот был уже у столовой – видимо, направлялся завтракать.
«Я тоже успею…»– подумал Дмитриев и торопливо направился к дому. Он решил, что пора примириться с женой, вчера он слишком круто вскипятился…
Свою квартиру Дмитриев совершенно неожиданно нашел не только закрытой на все запоры (этого не должно было случиться, потому что жена бюллетенила из-за болезни сына), но и совершенно пустой. Судя по исчезнувшему чемодану, по раскрытому шкафу, по голым ребрам деревянных вешалок, по исчезнувшей детской одежде, Ольга уехала к матери. Ушла от мужа, как говорится.
На полу валялись старые черненькие валенки сына, а под столом стоял на простое зеленый самосвал.
«Плакал или нет? – почему-то сразу пришла мысль о сыне, и тут же хлынула горечь. – Бестолковая! Не могла немного подождать…» Тут было не до завтрака, да и не было его, завтрака. Дмитриев нашел кусок булки, сунул его в карман и выбежал на улицу, боясь прозевать директора.
– Николай Иваныч! – окликнул шофер «козла». Это был тот – молодой парень, что иногда подменял личного, «державинского», которому пока не дали самосвал из-за неисправности.
– Что скажешь?
– Я уже отвез ваших на станцию!
– Спасибо… – Он на секунду-другую приостановился, подумал в горячке: «Махну-ка сейчас на станцию на том же «козле». Он, возможно, и сделал бы это, сделал, понимая всю бессмысленность, всю нелепость своего поступка, зная наперед, что потом стал бы стыдиться этого шага, но все равно поехал бы в эту минуту на станцию, если бы..
Мимо него торопился в школу парнишка. Прошло уже пол-урока, а он только еще бежал. Бежал как-то боком, таща в одной руке большой портфель. Расстроенный и будто бы заплаканный, он то и дело поддергивал кверху, на темя, огромную, падавшую на ноздри шапку Он прихлюпывал размокшим носом, шумно дышал, но изо всех силенок рвался к школе.
«Маркушев! – ударила догадка. – Проспал. Мать с утренним поездом уехала в суд…»
Дмитриев решительно направился в столовую, не с парадной, с другой стороны. Когда он отворил первую дверь и прошел по небольшому, наполненному запахами кухни коридору, то увидел вторую дверь с надписью: «Посторонним вход воспрещен». И ни восклицательного знака, ни объяснения. Дмитриев знал, что никто еще не осмеливался обеспокоить Бобрикова во время приема пищи, но он решительно толкнул дверь.
На одном из стульев, обитом красным, сидел спиной к настенному ковру директор. Он завтракал на белой скатерти во весь большой круглый стол… Дмитриев неторопливо осмотрел кабинет-трапезную, – странно, что ни разу до сих пор не пришлось сюда заглянуть! – увидел отведенные к косякам тяжелые плюшевые шторы, окно оставалось задрапированным частой кисейной занавеской, сплошной, модной, так что с улицы ничего не было видно. В простенке стоял сервант, наполненный хорошей посудой, поблескивали начатые бутылки вин, но на столе у директора не было в тот момент ни вина, ни водки, ни коньяка – или не пил в одиночку, или настраивался на очень серьезный день…
– Сумрачно тут, однако, – заметил Дмитриев беспечно.
Только сейчас заметил, что Бобриков онемел. Но вот кровь отлила от его лица, он натыкался ладонями на тарелки, пытаясь подняться, опираясь о стол, и вдруг закричал:
– Тебе что надо? Дай поесть!
– Нам необходимо поговорить с вами о деле Маркушева. Насколько я знаю, сейчас вы едете на суд?
– Дай поесть, я сказал!
– Что за барство, Бобриков? – повысил голос Дмитриев.
Директор задышал глубже, спокойнее. Хрипло ответил:
– Не дадут поесть человеку… – И снова на повышенной ноте: – Нахал!
– Хорошо. Я подожду.
Дмитриев ощутил пламень на щеке (странно, что на одной!). Вышел, небрежно притворив дверь. В коридоре он увидел заведующую столовой Тронкину. Она несла очередное блюдо и в изумлении лишь открыла рот: как посмел зайти посторонний?
Дмитриев остановился за стеной столовой, тут была помойка и лес, подымавшийся на взгорок. Стал ждать.
«Не-ет… Это конченый…»
Вскоре где-то слегка фыркнула машина. Дмитриев понял, что это поехал Бобриков, выйдя через другую дверь.
– Трус! – вслух проговорил Дмитриев, выбежал на дорогу и заметил, как машина свернула через два дома вправо, где в сосновом мелколесье полупустым ульем вытянулось удлиненное здание детского сада. Бобриков вышел из машины у самого крыльца и замелькал за тонкими стволами. Шаг его показался Дмитриеву не по-директорски мелким, торопким, и спина, когда он согнулся, отворяя дверь и придерживая под мышкой бумажный пакет, была ссутулена более обыкновенного, будто он ждал за дверью ударов.
Директор вышел скоро, и уж теперь-то им было не разойтись.
– Матвей Степаныч, вы читали объявление? Сегодня заседание партбюро.
– Есть дела поважней, чем лясы с тобой!
– Сейчас нет дела важнее производственного! – тоже повысил голос Дмитриев. – Да и о деле Маркушева надо поговорить.
– А! Защитник? Может, поедешь на суд защищать?
– В деле имеется его характеристика, написанная мной в согласии с его товарищами по работе, – это все, что я мог сделать для Маркушева, точнее, для его детей. Я не был свидетелем…
– Он не был свидетелем, а берется, понимаешь, защищать! Где логика?
– Она со мной, а вот о своей партийной и гражданской принципиальности, а лучше – совести, вспомните на суде. Это моя просьба. За этим я и пришел…
– Дело сделано: он получит по заслугам! А вот такая кисельная мягкотелость разлагает, понимаешь, рабочий класс! И так дисциплина – ни к черту, а если еще рабочие будут руки распускать – тут беги. Бросай все и беги! Если не держать дисциплину в коллективе – все полетит ко всем чертям!
– Надо помнить: наказывают чаще всего там, где не умеют воспитывать.
– Ну, понимаешь ли, я не воспитатель! Я – экономист!
– В наше время командир производства, как вы любите называть себя, – это и экономист, и воспитатель. Как воспитатель вы чрезвычайно… самобытный человек, а как экономист – посмотрим…
– Он посмотрит! Не такие смотрели и ничего худого, кроме хорошего, не высмотрели, а он – посмо-отрим! Да кто ты такой?
Дмитриев сдерживал себя из последних сил. Он больше не требовал, как это было в начале его работы здесь, чтобы директор называл на «вы» его и других, он понимал, что это уже безнадежно. Сейчас для него было важным одно: сдержаться, не опуститься до мальчишеской выходки – не ввязаться в унизительную перепалку, не перейти на крик.
– Вот что, Матвей Степаныч… Завтра в райкоме будут заслушивать меня по известному вам вопросу… – Он посмотрел на шофера. Тот стоял у машины, направив в сторону разговаривавших красную хрящину правого уха. После взгляда Дмитриева шофер принялся протирать зеркало. «Надо бы спросить у него про разбившихся на перекрестке!» – сработала память.
– Ага! По вопросу! И какую ты мне навозину поднесешь? А? Все сплетни собрал или еще не все?
– Сплетни – ваша пища, Матвей Степаныч. Вы живете доносами своих приверженцев. Кто плохо о вас сказал – вон! Кто посмеялся над вами – вон!.. Что же касается моей позиции в отношении вас, то она крепка. Будьте спокойны: у меня есть что сказать в обоснование своего вчерашнего поступка! – Дмитриев подергал плечом.
Бобриков засопел. Жест этот парторга не нравился ему, он будто сулил что-то нехорошее, уже приготовленное на его голову, и только стоит вот так пошевелить плечом секретарю, как откуда-то из-под лопатки или из-за пазухи вывалится это «что-то», подобно камню, и придавит…
– Ты вот что… Если ты это всерьез, то брось, пока не поздно, а то… Это не метод, понимаешь… Надо было поговорить…
– С вами говорить бесполезно. Я пробовал в течение полугода и понял, что надо действовать. Все получилось несколько скороспело и не согласовано с райкомом – это моя вина, но то, что я начал, я доведу до конца. Возможно, меня и не поймут в райкоме…
– Да? И тогда что? – приоскалился Держава настороженно.
– Тогда я обращусь за советом в областной комитет партии.
– Куда, куда? – улыбка медленно сползла с лица Державы.
– Я сказал: в областной комитет партии. И не беспокойтесь: меня примут и выслушают!
– Я тебя… я тебя обезврежу раньше!
– Обезврежу… Гм! Любопытный жаргончик! Ну, так вот что, Матвей Степаныч: я ничего не боюсь, ведь я – донкихот!








