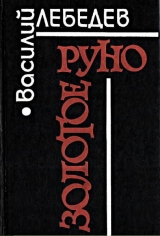
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 25 страниц)
– Надо вам сказать, что мой дядя в Аргентине поправил свои дела, но в то же время и сильно изменился. И он, и его семья, и особенно его окруженье мне малопонятны и, прямо скажу, неприятны.
– Он не испугался Онасиса и приехал снова в Афины? – спросил я не без удивленья.
– Нет. Все было не так. После войны, когда мой отец уже был болен, жизнь стоила дорого, а мои сестры и братья оставались неустроенными, я вдруг получила от дяди письмо с просьбой выслать ему хороший фотопортрет. Я выполнила его просьбу и послала ему вот этот портрет, что висит сейчас здесь и который вы видели.
– Прекрасный портрет.
– Спасибо, вы очень любезны… А через какое-то время, очень скоро, дядя попросил меня приехать в Аргентину и выслал деньги на дорогу и на одежду. Я купила билет, а остальные деньги отдала отцу, сама же поехала в своем синем, единственном платье.
– Ваше платье – ваш талисман?
– Вы знаете, да! Это и был мой талисман! – Она широко улыбнулась. – Дядя вызвал меня погостить и рассказать о нашей жизни в Греции.
– Это был предлог?
– Вы очень проницательны! Это был лишь предлог для важного мероприятия. Я уже сама догадывалась, что за игру устраивает мой дорогой дядя, а родственники мои – сестры, братья, отец – все ожидали перемены в моей судьбе, потому что это могла быть и перемена в их судьбе. Говоря коротко, дядя откопал для меня бриллиантовую гору в образе пожилого миллионера.
– Ого! Действительно, интересная игра! В альянсе двух континентов вы сделали первый ход, а много лет спустя вдова Кеннеди сделала ответный, выйдя замуж за Онасиса, а еще…
– Не совсем так! – перебила она. – Мой «ход» был качественно другим, а что касается вдовы Кеннеди, я совершенно отказываюсь ее понимать: выйти замуж за этого спрута лишь потому, что у него миллиарды? Не понимаю. Я воспитана на других принципах… Простите, я принесу воды.
Из кухни она вернулась с откупоренной бутылкой воды. Глаза влажные, казалось, она всплакнула.
– Простите, я вспомнила снова Батуми… Вы так говорили… Вы должны знать: там, в Батуми, я была пионеркой. Да! Многие на западе считают вас всех примитивными, но это не так. Это убежденье, я поняла, оттого, что у вас все честно и потому просто… А что же вы ушли из-за стола?
– Спасибо. Но мне бы хотелось дослушать заокеанскую историю.
– Ах да! Мы отклонились… – Она, однако, задумалась и спросила – А это интересно вам?
– В вашей жизни мне все становится интересным.
– Тогда жаль, что вы завтра уезжаете… А история в Аргентине оказалась обыкновенной, шла она по плану, в разработке которого я не принимала участия, и оказалась неожиданной для всех – и в Аргентине, и в Греции, кроме разве моего отца. Он ни на чем не настаивал. Он был грустен. Любил философию. Все, бывало, повторял: тело дряхлеет, отдает свою силу разуму… Вам не холодно от окна? А я – одну минуту! – надену жакет.
Она была человеком юга.
Сначала мадам Каллерой говорила о своей поездке за океан без энтузиазма, как бы нехотя, вспоминая лишь некоторые подробности, но постепенно оживилась, глаза вновь засветились будто отблеском молодости, и картины тридцатилетней давности ожили в ее рассказе.
…Большой теплоход уходил в Америку из Пирея. Когда мадам Каллерой добралась до порта в сопровождении сестер, братьев и их детей, увидела громадный теплоход, множество людей на набережной, по бортам и на трапе и поняла, что ей надо будет покинуть своих близких, она заплакала от страха перед неизвестностью. Сестры ответили ей тотчас «мокрой солидарностью», но в их слезах была легкая и светлая зависть и надежда, что хоть одна из них устроит жизнь прочно, а может быть, поможет и им… Дело-то житейское.
Жизнь послевоенной Европы налаживалась медленно, печать недавних лишений лежала на всем, и на толпе, что собралась на набережной, тоже. Семья мадам Каллерой была такая же, как большинство простых людей: пестро, нелепо одета, думала о еде и радовалась, что сестра уже сейчас, при отъезде в сказочную Америку, оставила им кое-что из денег, присланных дядей на билет, потому что билет был взят самый дешевый. Детишки пытались угадать, в каком из кругленьких окошек околотрюмных кают вернется она в скором времени и купит им новые башмаки с широким рантом по подошве… Отец не поехал в Пирей, ему трудно стало переносить и дорогу, какой бы короткой она тут ни была, и, главное, вид порта, моря, которое манило его с детства до старости и по которому он поскитался со своей любимой женой. Без нее он уже не мыслил не только о путешествии, но и не мог видеть больше моря. Оно напоминало ему годы молодости, годы надежд.
Две с лишним недели шел теплоход через Атлантический океан. Среди пассажиров третьего класса прошел слух, что прекрасная гречанка едет за океан в качестве невесты крупного миллионера. Откуда узнали – непонятно, видимо, кто-то из родни, возможно, даже племянники, обронили на берегу неосторожное слово. Но в разговорах о ней за столами, на палубах в томительные часы морского безделья не было ни иронии, ни злобы. Большинство пассажиров были неустроенными, пустившимися за счастьем к далеким берегам Америки. Почти у каждого остались дома полуголодные, полураздетые родные или близкие, им требовалась помощь в виде денег из-за океана. В спокойствие и счастье в Европе не верилось после разгула фашистов… Конечно же завидовали немного люди молодой гречанке. Чертыхались матросы, играя в карты после вахты, представляя жизнь счастливицы и вспоминая своих неустроенных сестер, но неизменно вытягивались перед ней с почтением, пропуская в дверях или в узких коридорах у дешевых кают. Именно это обстоятельство – дешевая каюта и непритязательность в одежде – смягчали косые взгляды, заставляли волей-неволей радоваться: хоть одна из нашего простого рода поживет в свое удовольствие, а при случае и поможет какому нуждающемуся. Эта молчаливая солидарность была понятна мадам Каллерой. Когда же кое-кто из богатых пассажиров пытался выяснить фамилию того счастливого богача, что выписывает себе невесту из-за океана, она терялась и убегала к себе, не выходя к обеду порой по два дня.
И вот наконец позади остались долгие дни плавания.
Племянница и дядя сразу узнали друг друга. На набережной стояла дядина светлая открытая машина. В Аргентине сентябрь очень похож на сентябрь в Греции, и сходство это еще более стало проявляться по мере того как они ехали к югу, то есть в менее жаркую зону, сходную по широте с Афинами. Дядя знал, куда перебираться. Мадам Каллерой уважала его за здравый смысл, за смелость, за широту души, но что-то с возрастом надломилось в нем. Он несколько раз с таким подобострастием заговаривал о каком-то господине, что ей казалось: он на полном ходу бросит руль, встанет и снимет шляпу.
– Между прочим, это он дал мне свою машину, чтобы я встретил тебя.
– Далеко ли ехать? – только и спросила мадам Каллерой.
– Двести с небольшим километров, и мы дома! А ты превосходно выглядишь! Ты должна ему понравиться!
Ей захотелось остановить машину, выйти и немедленно отправиться домой, в Афины, чтобы очутиться в их маленькой, тесной и темной квартире, где осторожно кашляет отец…
Она трижды отклоняла визит миллионера, ссылаясь на нездоровье, всем нутром противясь этой сделке. Атмосфера в доме дяди охлаждалась, и это указывало на то, что и эта семья связывала какие-то надежды с ее замужеством. Вероятнее всего, дядя во многом зависел от того неведомого и таинственного человека. Как-то мадам Каллерой с дядей поехали на прогулку в машине. Это была уже не миллионерская машина, а дядина – похуже. На обратном пути будто случайно они завернули на шикарную виллу. Это была вилла того самого человека. Она догадывалась об этом, когда проходила на веранду через анфиладу комнат и увидела на стене свой портрет. Он висел рядом с другим, тоже женским, на котором была изображена во весь рост женщина в ковбойской шляпе. Около часу высидела она на веранде в обществе дяди и миллионера. Он показался ей неплохим человеком, немного грустным. Ей даже понравилась его седеющая голова, спокойный голос. Она понимала: рядом с этим человеком, как за стенами самого крепкого бастиона, не настигнет никакая злая сила, никакие превратности судьбы… Он показал ей свой парк, гараж, где стояла новая легковая машина небесно-голубого цвета, еще ни разу не ходившая по дорогам.
– Это один из свадебных подарков, – многозначительно заметил дядя, когда они возвращались домой.
– А кто эта женщина, портрет которой…
– А! Ты уже высмотрела? Успокойся. Это его бывшая жена. Ее уже нет. Она разбилась.
– На этой самой машине?
– Да нет же! Она упала с лошади. Страшно упала… Он несчастен, пойми это!
– Можно подумать, что я счастлива!
– Что тебе еще надо?!
…В доме дяди ей было тяжело. Она не могла привыкнуть к положению приживалки. Это можно понять – ведь всю жизнь она привыкла трудиться. И вскоре пришло решение: ехать в Афины.
– Мадам Каллерой, вы получили от него официальное предложение?
– Да, естественно. Я обещала подумать, а потом отказала. Очевидно, я ему понравилась еще больше. Он просил подумать еще, намеревался приехать в Афины. Тогда я обещала дать ему окончательный ответ письменно. Он купил мне билет на теплоход в каюте самого высокого класса и приготовил подарки в дорогу. Это было тяжело принять, – ведь я знала, что последний разговор уже состоялся. По моей просьбе дядя купил мне билет на самолет, с пересадкой в Лиссабоне. Так было удобнее: тяжелый багаж вместе с дорогими, ко многому обязывающими подарками оставался в Аргентине. Миллионеру я сказала, что теплоход прививает дурную привычку – пить в тропиках вино с водой… Письмо ему я написала в самолете. В нем снова был решительный отказ…
– Вы и сейчас так же поступили бы?
– Да! Только еще более решительно.
Я невольно любовался ею.
– Так поступила бы далеко не каждая девушка, – заметил я.
– Что вы имеете в виду?
– Но ведь не у каждой была такая судьба.
– У меня было детство в Батуми… В десять лет мы, дети, серьезно говорили о высоких идеалах и, как бы это ни было наивно, мечтали стать летчицами, балеринами – много доброго успело запасть нам в души. Там я узнала о многом – о добре, о служении народу, о радости труда. О многом… Вы должны знать: я была пионеркой.
– Мадам Каллерой… Позвольте я выпью за вас из самого большого бокала!
Она, показалось, немного испугалась за меня, но тут же весело и ободряюще улыбнулась.
За окошком незаметно наступил вечер. Афины зажгли огни и потушили, зашторили обрывок зари, что высвечивал справа, над Пиреем. На деревьях, как на темной стене, задергались всполохи реклам, они наваливались на этот небольшой зеленый оазис и вместе с ним на дом и маленькую квартиру мадам Каллерой.
– Мне, пожалуй, пора, – грустно сказал я.
– Как жаль… – произнесла она тихо, думая о чем-то, что, по-видимому, не успела мне рассказать. У нее конечно же было, что поведать мне, недаром та англичанка намеревалась писать о ней книгу. Но что делать! Больше разговора – мы это знали – уже никогда не будет, и, будто подслушав мои мысли, мадам Каллерой так же тихо продолжала: – Мне бы хотелось еще рассказать о себе и, главное, – поделиться мыслями о нашей жизни, о молодежи. Нам следовало бы встретиться еще накануне…
– Знать, так судили боги на Олимпе! – весело ответил я, хотя и сам был далек от веселости.
Мадам Каллерой решительно поднялась со стула и зажгла люстру – тотчас богиня Афина ниспослала с потолка поток света.
– Я хочу вам что-то подарить на память…
– Не беспокойтесь! Если позволите, я возьму с собой вот этот апельсин.
– Апельсин? – удивилась она.
– Да. Я никогда не видел апельсина на ветке да еще с листьями.
– Возьмите, возьмите, ради бога! Однако у меня есть для вас приготовленный подарок…
Она вышла в ту комнату, где висел ее великолепный портрет, зажгла там свет. В тот же момент раздался телефонный звонок, но она не подняла трубку, а нажала клавиши, и автомат сообщил звонившему, что он уполномочен передать хозяйке все сведения. Она не желала разрушать вечер деловым, по-видимому, разговором и вернулась к столу. В руках у нее было нечто необыкновенное.
– Вот этот маленький сувенир я дарю вам на память, – и протянула мне рулевое колесо аргонавтов с колоколом и трезубцем Посейдона, а сверху сидела сова – птица богини Афины, птица мудрости.
Я взял двумя пальцами трезубец и легонько ударил по медному колокольцу – раздался тонкий звон, показалось, что он доносится откуда-то издалека, со старого корабля «Арго», затерявшегося в морском тумане, затерявшегося в веках. И еще он напомнил, что пора уходить.
Она оделась и вышла меня проводить.
– Как вам нравятся вечерние Афины? – спрашивает она, вероятно затем, чтобы не молчать.
– Они прекрасны, как и дневные. – И, помолчав, добавляю: – И почти так же трогательны, как в предрассветный час…
Она взглянула на меня с тревогой и строгостью – так смотрят женщины, когда говорят им о недостатках их детей, и мрачно замолчала. Через некоторое время, уже на подъезде к гостинице, снова спросила:
– Как выглядят Афины в своем вечернем убранстве сравнительно с другими городами Европы, где вам приходилось быть?
– Я равнодушен к этому.
– Почему?
– Потому что вечернее убранство – это реклама. Порой мне кажется, что их выдумал и сотворил Геракл – так они громоздки и глупы.
Она оживилась и вопросительно подняла брови.
– Ну в самом деле, мадам Каллерой, разве это не глупо, разве не возмутительно возносить над городом десятиметровые буквы и возвещать миру о том, что какой-нибудь омерзительный Онасис или другой вор торгует зубными щетками?
Она засмеялась так, как будто я раскрыл перед нею секреты некоего коварного фокуса.
– Мне было очень интересно с вами, – сказала она на прощанье.
Мы стояли на остановке около гостиницы. Я уже опоздал на ужин и не жалел, а рад был тому, что какое-то время еще смогу побыть один и перебрать в памяти этот вечер, один из самых редких и содержательных в моей жизни.
– Мадам Каллерой, я вас никогда не забуду. – И поцеловал ей руку.
Утром в самолете, как только наша группа расселась, я открыл чемодан и вернул драматургу выстиранную с вечера его белую шапку. В чемодане поверх измятых рубашек и скомканных галстуков покоилось колесо аргонавтов. Я не удержался и, как маленький, достал его поиграть. Установил на ладони, взял трезубец и позвонил. Соседи увидали, а остальные услышали чудесный звон – и вмиг навалились на мое кресло.
– Какая прелесть! – восхитилась Нина, жена моего друга. – Где ты такое чудо отрыл?
– Мне подарили вчера.
– Так ты все-таки совершил тринадцатый подвиг Геракла? – прищурился Николай.
– Да оставьте вы человека! – взмолился Слава из Костромы. – Пусть у него будет маленькая тайна.
– Алё! Сейчас взлет! – крикнул московский прозаик.
– Ладно, захочет – сам расскажет! – махнул рукой Николай, и все разошлись по местам, стали привязываться ремнями: давно уже горело табло на английском, и самолет, вырулив на старт, уже нагнетал мощь турбин, ярился, будто петух перед боем, и вот сорвался с места.
Да, в тот час, в той, самолетной обстановке я не знал, как рассказать о том, что вчера мне открывалась на редкость простая и великая тайна человеческого бытия. В чем она? Этого я и сам еще не осознал, но мне кажется, что она кроется в нелегком умении сохранить в неприкосновенности единожды зажженную вместе с твоей жизнью свечу – свечу доброты, человеческого достоинства, братства и всего, что возвышает человека, – сохранить это трепетное пламя на всех ветрах, под разрушительным бездушием, гиканьем, свистом, насмешками вооруженного ультрасовременными теориями снобизма, и не только сохранить, но и передать факел другим. Не в этом ли кроется олимпийски высокое и по-земному необходимое предназначение человека?
Самолет разворачивался и набирал высоту. Внизу тяжелым жерновом поворачивалось беломраморное крошево Афин. Был виден Акрополь, гора Ликабет, а на ней – тоскливый ковчег одинокой церквушки. Еще легко было различить зеленый лесок, но слился, сравнялся с другими дом мадам Каллерой – счастливого и гордого человека, познавшего тайну счастья – тайну золотого руна…
Так вот, пока я сидел у себя на кухне и ждал солнца, вспомнилась мне эта история.
А солнце уже высоко поднялось над Ленинградом. Проснулись транспортники и те, кому далеко ехать на работу. Асфальт во дворе нарядно блестел, политый дворниками. Вдали, за высокими домами, уже поднывали трамваи, а на углу улицы пофыркивали первые грузовики. Подлетело к подъезду такси, и какой-то разодетый юный шалопай вяло вывалился из него – погулял на батькины… Воробьи ливнем саданули по молодой березе и тотчас снова сорвались к помойке – кто-то вынес ведро. Все чаще начали постукивать двери парадных. Разгорался трудовой день.
В руке у меня согрелся трезубец Посейдона. Пора было идти и будить мою неожиданную ночную гостью.
Оля спала крепко, еще удобнее устроившись в кресле. Она так умудрилась его облепить, что казалось, ни один сантиметр этой мягкой мебелины не пропадал у нее даром, но можно было представить, как затекло ее выгнутое так и этак тело. Пол в комнате проскрипел, но она не проснулась. Я подошел к столу и позвонил трезубцем в колокольчик. Этот тонкий звук сразу пробился сквозь ее сон. Она проснулась, подняла голову со своего локтя и в несколько секунд, пока распрямляла затекшее тело и свешивала на пол ноги, осознала, где она и почему здесь.
Я жестом указал на босоножки, белыми утицами притихшие на ковре у кресла. Она поняла мой жест однозначно и заторопилась.
– А чаю?
– Нет-нет, спасибо… Большое спасибо! Я пойду?
Я лишь развел руками и вышел за нею в прихожую.
– Будьте счастливы, Оля!
И тихонько, без щелчка, затворил за нею дверь.
Из кухонного окна было видно, как она вышла, огляделась, сообразуясь с направлением, и пошла по тому пути, откуда ночью мы пришли с нею. Но я знал, что весь ее путь не совпадает со вчерашним и она не вернется к родственникам…
Белые босоножки лихо сметанили по черному, политому асфальту. Я был уверен, что скоро они вернутся в Ленинград в посылочном ящике, забитом большими гвоздями, и радовался за эту чудесную девушку и сдерживал себя, как сдерживают тормозами гудящий, наполненный силой моторов самолет.
Эх, лет бы десять долой!..
– Ты уже одет? – послышался голос жены.
– Да вот… как видишь.
– К нам кто-то приходил?
Я посмотрел на ее лицо, освеженное сном. С него сошли заботы вчерашнего дня, а нынешние еще не омрачили. Ей предстояло прожить со мной еще один день нашей непростой жизни, так стоило ли начинать этот день со странных и маловразумительных объяснений, да на это едва ли я был бы в то утро способен.
Она вдруг улыбнулась радостно и мило, виновато потерла глаза и призналась:
– Ты знаешь, мне сегодня приснилось, что зазвонил колокольчик Посейдона.
– К чему бы это?
– Конечно, к счастью!
Она обняла меня и, расплющив нос о мое плечо, блаженно промолвила:
– Сходи в магазин – ты ведь одет
Рассказы
Бывшие
До Нового года осталось чуть больше суток, а до поезда на Калугу – еще целых два часа. В небольшом типовом вокзальце, каких много, стали строить сейчас на маленьких станциях, – малолюдно, очень тепло и даже весело: за дверью с надписью «Красный уголок» слышны голоса и сочный звук аккордеона. Несколько человек пассажиров устроились в противоположной стороне зала, подальше от музыки и яркого света, а на одном из диванов, рядом с веселой дверью, беспечно дремлет бледный старичок. Он лежит на спине, вытянув ноги в больших валенках с галошами и скрестив руки на груди. Очертанья его фигуры могли бы, со стороны, сойти за древнеегипетский саркофаг, да и присмотреться поближе – было похоже, что человек закончил сборы в последний путь, если бы его сухощавое маленькое лицо с закрытыми глазами не имело столько жизни. Оно то застывало в неподвижности, то вновь начинало двигаться, будто было нарисовано на полотне, распущенном по ветру, и тогда короткие клочки бровей живо дергались, сжимались или удивленно приподымались, чтобы на какое-то время опять застыть, как два кукиша.
Рядом со стариком лишь один пассажир. Это юркий неутомимый человек, возраст которого очень трудно определить вследствие удивительного несоответствия его наружности и поведения. Несомненно одно: ему около сорока. Он стоит на одном колене около двери в Красный уголок и самозабвенно смотрит через процарапанную в замазанном стекле полоску. Изредка он поворачивает к старику голову, доверительно, как сообщнику, передает этому незнакомому человеку то, что видит, и тут же сдавленно хохочет, горбатясь. При этом лицо его, до наивности простое, слегка удлиненное, складывается в тонкие вертикальные морщины, особенно выразительные на узком лбу и щеках.
– Да ты глянь-кось сюды – сдохнешь!
Старик в ответ зашевелил бровями.
– Ну и баба! А выкамаривает, а выкамаривает. О! О! И ведь ничего играет, сатана горбатая! Просто – ничего! А детишки, а детишки-то – забились в угол и жуют, милые… О! О! сама в пляс пошла! Мама! Да в одних рейтузах! Уххх!..
Он отваливается от двери, в изнеможении крутит головой, и его сиплый смех замирает где-то в животе, как частый внутренний кашель.
– Говорю тебе сдохнешь – глянь!
Трудно остаться безразличным к такой непосредственности, встречающейся только у гениев да простаков, и потому старик, не открывая глаз, одобряюще улыбается, сложив губы трубочкой.
– Машша! Давай! – доносится из-за двери.
– Слышь? Маша, давай! – радостно сипит наблюдатель и сдвигает для удобства шапку на затылок. – Гм! И хоть бы один завалящий мужичонка, а то все три бабы, а?
Один из пассажиров с дальних диванов подошел в своем кислом полушубке, глянул в щелку и не спеша двинулся к выходу, прикуривая на ходу.
– Что ты сделаешь? – сказал он. – Послезавтра Новый год, а в праздник и у воробья пиво.
С перрона, в клубах морозного пара, вошел новый пассажир – тучный человек в унтах, длинном пальто и большой меховой шапке. Поставив чемодан у дверей, он заботливо стряхнул снег с шапки и плеч, огляделся и направился к свободному дивану, напротив старика. От поблескивающей одежды вошедшего остро пахнуло свежестью, как от разрезанного арбуза. Вошедший медленно, как бы прицеливаясь, поставил свой чемодан вдоль дивана, плотно сел сам и неторопливо, одну за другой, вытянул ноги. У него были плавные, кошачьи движенья. Его крупное лицо в широких складках выглядело свежим, и даже припухшие веки и мешки под глазами не позволяли дать ему больше пятидесяти. Улыбка, с которой он посмотрел на дверь и юркого человека возле нее, а затем повел взгляд по стенам, потолку, диванам, долго оставалась на этом малоподвижном лице, стекая с его тугой кожи медленно, как масло. Глаза большие, водянисто-серые, смотрели в упор, но безучастно, и казалось, что они никогда не мигают.
За дверью всплакнул ребенок, но его слабый писк смыло звуками аккордеона, и чей-то залихватски-веселый женский голос, но все же с ноткой нежности, сымпровизировал под плясовой мотив:
Не плачь-ко, миленькой.
Да мой хорошенькой.
Да мой родименькой,
Пятирублевенько-ой!
Сухощавый затрясся у двери и повернулся, желая сообщить что-то особенно интересное, но неожиданно осекся, увидев нового пассажира. И сразу лицо весельчака, только что светившееся радостью, сморщилось, а от улыбки осталась лишь болезненная гримаса, как будто ему отрывали присохший бинт.
– Вот те на! – вырвалось у сухощавого, и он тотчас поднялся с колен. – Каким ветром? Это я… – растерянно добавил он и так старательно вкрутил свою голову в шапку, которую он прижал руками, словно готовился бежать.
Человек в унтах не шевельнулся, лишь повел взглядом в сторону, потом хотел что-то сказать, но только пожевал губами.
– Не узнаете? Я – Колтыпин, друг бригадира Петьки Струнова, что подо мной спал, того самого, что, помните?..
– Давно от нас? – спросил тот, не дослушав, и повел на Колтыпина потемневшим и плоским, как икона, лицом.
– О! – радостно воскликнул Колтыпин и показал десять фиолетовых, видать, некогда отмороженных пальцев. – С апреля одиннадцатый пошел, как я дома…
– Осознал? – спросил человек в унтах.
– Чего?
Но Колтыпин не дождался ответа на вопрос и стоял, озадаченный, словно потерял свое место, потом решительно сел в ногах у старика. Так и сидел он некоторое время, сгорбившись и крепко сжав обе руки коленями, торчавшими из-под зимнего полупальто.
– Наверно, в отпуск едете? – спросил Колтыпин опять.
Человек в унтах помолчал, потом раза два отрицательно качнул крупной головой, не глядя на собеседника.
– A-а… По делам, значит. Понятно.
Мимо прошел дежурный по вокзалу и постучал в дверь красного уголка. Шум за дверью приутих, и когда дежурному открыли, мимо его полы юркнул из комнаты мальчик лет семи.
– Пора заканчивать, – негромко, но твердо сказал дежурный, – а то тут у вас не детской елочкой пахнет.
– Боррис Геворгич!..
– Басова, не заводись! Тебе завтра еще вокзал убирать.
– Боррис Геворгич…
– Сорок минут, не больше! – уступил дежурный. – Да с музыкой поосторожней: казенная вещь.
В дальнем углу зала щелкнуло окошко кассы и осветилось изнутри. Люди зашевелились. Одним из первых встал знакомый Колтыпина, он с достоинством одернул пальто на плечах, двинул ногой чемодан поплотнее к дивану, заложил руки за спину и направился к кассе подбористым шагом. За ним, сунув руки во внутренний карман и криво согнувшись при этом, бочком засеменил Колтыпин.
От кассы они шли уже переговариваясь.
– Отт дела! – восклицал Колтыпин. – Оказывается, и вы из Калуги! Отт не знал! Отт не думал, что товарищ Ломов и – на тебе, калуцкий!
– Что, не похож? Хе, хе…
– Да как сказать… Ну, значит, вместе едем, и места как раз рядом.
– Садись! – добродушно приказал Колтыпину Ломов и плотно сел на диван. – Садись, рассказывай, как живешь, чего можешь, земляк?
– Ничего живу! – охотно отозвался Колтыпин. – Чего не жить, коль жить можно? На своей стороне – сами знаете… А вы надолго в Калугу?
– Спрашиваешь, надолго ли? Насовсем. Не прописывают в Москве, ну да и черт с ними!
– А как же Север? – спросил Колтыпин.
– Ша, земляк! С Севером покончено: вот уже три месяца как меня раньше времени на пенсию выжали. Вот как бывает оно, дело-то: служишь-служишь, а тебя возьмут да и – фьють! Как и не бывало Ломова. Словно я и памяти о себе не оставил.
Лицо Ломова стало еще более сумрачным. Оба помолчали.
– А в Калуге жилье-то хоть у вас есть? Слышите?
– Что такое? – приподнял брови Ломов.
– Я говорю: жилье, мол, есть у вас в Калуге?
– Все в порядке. Есть. А ты газеты-то читаешь?
– Случается…
– А недавно статейку про меня не читал в газете? Вот и плохо, что не читал, а то бы знал, как Ломов преподнес в дар районной библиотеке около двух тысяч книг. Так как же после этого меня обойдут жилой площадью?
На станцию налетел товарный поезд. Он долго громыхал, притормаживая, гружеными вагонами, и все вокруг знобко подрагивало: стекла, диваны, вокзал и сама земля, пока состав не остановился.
– А земля-то дрожит, как будто в карьере рвут, верно? – спросил Колтыпин, но Ломов ему не ответил, и тот продолжал высказывать свои мысли сам для себя: – Да, на товарнячке бы сейчас, вот на этом, попутном – живо бы дома был, а тут сиди сиднем! Не люблю…
– Не дома, а в больнице бы был живо, – заметил Ломов и шумно выпустил носом воздух.
– Ну да! В больнице! В войну, еще мальчишкой, сколько, бывалочь, поездил на крышах-то! И ничего.
– В войну, говоришь?
– В войну. Особенно в два первых года, – уточнил Колтыпин.
– Спекулировал?
– Было дело… А вы откуда знаете?
Ломов лишь усмехнулся в ответ, медленно опуская тяжелый взгляд с потолка на пол, и все это время с лица его сплывала улыбка.
– Эх, интересно было тогда, хоть и трудно! – продолжал Колтыпин мечтательно. – Едешь, бывалочь, на самом на верху, что те царь какой, а рядом с тобой ребятишки всякие, встречные да поперечные, как и ты – немытые да веселые. Благодать… А мимо тебя деревушки, городишки да станции разные пролетают, на каждой народ, давка, а ты сидишь себе, как птица вольная, на самом на верху, и весь мир тебе по колешко. Гоняли нас, конечно, ну да это не беда. Зато городов-то, городов-то пролетит мимо тебя! Сколько их, бывалочь, повидаешь! Да-а… А теперь раз в год к сестре в Торжок не выберешься путью, о-от… Да ведь и польза была от путешествий-то: где наменяешь чего съестного, где кого обманешь, а где и стянешь – дело прошлое… Зато как приедешь домой, в Калугу, в чем-нибудь в новом, да с брюхом сытым, да матери с сестренкой привезешь чего – ну и нет счастливее тебя на всем на белом свете, о-от…
– Ну и гладко сходило?
– Сходить-то сходило, но и трудов было много. Всем кажется, что это легкое дело, – не-е… Скажу вам, как земляку: трудная это была жизнь. – Колтыпин задумался, потом усмехнулся чему-то и сказал: – Каких только случаев не бывало!
– Сгореть можно было, что ли?
– А то нет! Раз, помню, меня чуть заживо не сожгли, о-от…
– Кто же это распорядился? – спросил Ломов с интересом.
– Никто. Шугнули раз всю нашу компанию с крыш на одной станции, а нам что за горе? Пошли по окраине городишка присмотреться, что к чему, о-от… Поразбрелись. Ну, заглянул я в один сараишко, на отшибе, не удастся ли, думаю, курочку приговорить. Думал, никто не заметит, ведь я специально бороздой прополз, да не в добрый час: кто-то меня заметил. Только, значит, я в сарай-то, а меня – раз! – и заперли снаружи. Глянул в щель, а это баба меня заперла и домой улепетывает, сатана горбатая! Ну, думаю, только бы мужика у нее дома не было: убьет. Мне тогда и всего-то было пятнадцать годов неполных. Вот смотрю в щель, вижу, как назло, мужик к сараю идет, видать, еще не был на фронт отправлен. Здорро-овый мужик! – Колтыпин сделал страшные глаза и в ужасе покачал головой. – Идет, гад, не торопится, у самого башка вниз, и топориком посвечивает, о-от…
Тут Колтыпин остановился и неторопливо закурил предложенную Ломовым папиросу.
– Ну, подходят мужик, открывает запор, дернул дверь – шиш! Я тоже, не будь дурак, взял да и закрылся на внутренний запор – на здоровенный брус, он как раз в специальные скобы входил. Мужик-то, видать, хозяйственный был, крепко запоры делал. Смотрит мужик – делать нечего. Дверь ломать трудно: она вся специальной железкой прошита на болтах. Стал грозить мне, открой, мол, а то хуже будет. А чего уж хуже топора? Молчу я, и все. Притих, как мышь. А дело под вечер. Народишко, собрался, все больше бабы, девчонки да мелюзга всякая.
Галдят, кто чего скажет. Кто говорит – шпион там сидит, кто – дезертир, кто – никого там нет, а хозяйка одно твердит: шпана там, та, что носы режет. Вот дура! И вот стали они придумывать, как меня из сарая выкурить. Опять кто что понес, а сошлись все на том, чтобы меня, значит, спалить вместе с сараем, если не выскочу к ним из пламени. Сарай, говорят, на отшибе, сарай старый, да и немец, того гляди, все равно спалит. На том и порешили – спалить. Вот тут-то я и напугался крепко. Стою – не дышу, а сам все слышу. Под дверь мелюзга всякая соломки принесла, радуются, спички чиркают. Чего, думаю, я такого сделал, что меня, как в старину, заживо жечь будут? Неужели, думаю, бог есть и он меня за то к сожжению представил, что я крест в церкви стащил да в утиль сдал? Голова кругом… Гляжу – дым пошел, а пламя полыхнуло под дверью – бабы завизжали: ветер на дома! А пуще всех хозяйка. Мужик ее первый бросился и сам раскидал костер. Тут я приободрился, дразнить их стал, а они решили меня измором взять, да и закрыли опять снаружи. А когда все поразбрелись, хозяйка-то и подходит к сараю да и говорит мне, сатана горбатая, негромко: «Эй, батюшка вор! Куриц-то моих пусти на ночь, ведь им спать негде. Открой…» Не пустил я: обман чуял. Да и как поверить, если народ в войну злой был. Это сейчас народ постепенней стал, сердобольней. Мой дед говорит, это оттого, что исстрадался народ. Такой народ, говорит, беречь надо, а не то что…








