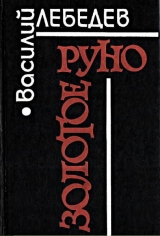
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 25 страниц)
Столкновение
1
И недели не прожил Дмитриев в родном доме. На пятый день, поутру, загромыхало под окошком – кто-то отчаянно бил палкой по наличнику.
– Тетка Анна! Тетка Анна! – послышался девичий голосишко.
Мать прянула было с постели, но старость и хворь осадили ее.
– Коленька! – простонала она из-за шкафа. – Выйди, милой, не пожар ли? Да шапку-то, шапку!
Он выскочил на скрипучее от морозца крыльцо – пиджак внакидку, рубаха навыпуск, ботинки – вертлявая, несерьезная для деревни обувь – на босу ногу. Под окошком стояла лыжница лет семнадцати, не больше. Глянула на непричесанного, заспанного Дмитриева и еще сильней забарабанила по наличнику.
– Тетка Анна! – кричала она.
– Тихо! – притопнул он. – С ума сошла, что ли?
Она неуверенно отшагнула от окошка.
– Телеграмма вам…
Пока он прикидывал в уме, чья же выросла такая красавица – из их или из соседней деревни, – девушка протянула ему помятый незаклеенный листок с единственной строкой:
«Николай Иванович приезжайте пожалуйста нас беда
Маркушева».
– Спасибо! – буркнул он, и почтальонша покатила назад по скользкой, уже по-весеннему потемневшей дороге.
«Что за черт? И здесь нашли! Ольга адрес дала», – догадался он, подавляя неприязнь к жене. Он не допускал и мысли, что несчастье случилось с ней самой, в этом случае телеграмму прислали бы из дирекции совхоза, дело, значит, касается только семьи Маркушевых.
«Вот тебе и охота, вот и навестил старых приятелей!» – не без горечи думал он, направляясь за дровами под навес, – все равно уж вышел из тепла… Какое-то время он еще колебался, – ехать ли? – пытался посердить себя людской бесцеремонностью, но скоро отошел, примирившись с тем, что ехать все же придется, и немедленно.
– Коленька, чего там такое? – выклюнулась галочкой платка из-за шкафа мать.
– Почтальонша, мама. Телеграмма мне! – Грохнул дровами об пол.
– Что за телеграмма? От твоих?
– Да нет, не волнуйся. Это… из совхоза это… Я сейчас, только печку растоплю.
Мать все же не доверилась голосу сына – в голосе не было лжи, – она выловила его лицо и, пока не выглазила в нем ту же правду, не успокоилась. Однако сердце ее чуяло что-то, да и опыт подсказывал: хороших телеграмм на свете куда меньше, чем тревожных. Хотелось спросить сына – кто писал, зачем, чего кому надо, – но тот сидел у печки, задумавшись.
Привычку ставить на зиму маленькую железную печку мать сохранила с военных лет, а к старости тяга к теплу стала еще понятней, да и привыкли к этой печке, как к члену семьи. Дмитриев же видел в этом старом железном боровке верного друга трудных лет, он скрашивал его сирое, безотцовское послевоенное детство. Когда это было? Странно как-то и неловко так думать порой в свои тридцать горячих лет, а все же кажется, что прошла уже целая жизнь, в которой ничего еще толком не сделано…
Он выбрал легкое ольховое полено и неторопливо уложил его поверх объятой пламенем лучины, прикрыл дверцу настолько, чтобы видеть, как бьется и набирает силу огонь. Надо было идти и объяснить матери содержание телеграммы, весь застрочный смысл ее, но он тянул секунды и наслаждался ими, будто в детской утренней полудреме, – и надо вставать, и не хочется. Уже потянуло первым теплом от железного загорбка, а огонь все натужнее рокотал, все радостней бесновался в притворе дверцы.
Живой огонь всегда действовал на Дмитриева необыкновенно сильно. Когда он видел пламя – это зыбкое, неуловимое чудо, – на него как бы сходили некие чары и он умолкал, оставаясь во власти эмоций, древних и, быть может, непознанных. Так было всегда – сидел ли он у солдатского костра, у печки, смотрел ли на догоравшую спичку, люди замечали в нем эту отрешенную забывчивость. Со временем он научился смотреть на себя со стороны, а следовательно, и скрывал свои слабости, но, оставаясь один, как, скажем, в это утро, он вновь отдался гипнозу огня. «Атавизм, что ли?» – порой в шутку думал он про себя, однако тяга к огню – и это Дмитриев знал – шла не столько от древних предков нынешнего человека, приручивших огонь, сколько опять же из детства. Вот тут, в этой старой избе, он оставался с сестренкой Ирой на целый день, пока мать не вернется с колхозной работы. Дети оставались и ждали день-деньской еды и вечернего тепла у этой печки. Ждали тяжелый, усталый шаг матери, не выдержав, процарапывали лунку в стекольной наледи и смотрели вдоль заснеженной деревни – пустой, будто вымершей. А вечером в настывшей избе снова гудела печка, пофыркивал и цокал чугун картошки в духмяном облаке пара, и были снова радостные всполохи огня из приотворенной дверцы, там ярилась хрупкая осыпь бело розового жара и струилось тепло…
Он с трудом стряхнул с себя приогневую сонь и подошел к больной матери.
– Растопил? Ну и ладно, вот и тепленько будет… – Она не могла улежать после стука по окошку и теперь сидела, ожидая, что скажет сын про телеграмму, но тот молчал, и она спросила: – Дак чего там, в телеграмме-то?
– Чего-то там случилось…
– Дома? – Руки ее, лежавшие поверх одеяла, дернулись. Котенок муркнул в ногах и снова заснул.
– Нет, в совхозе.
– Ну и бог с ним, с совхозом-то!
Дмитриев не стал возражать. Помолчав, он сказал:
– Скоро я тебя, мама, к себе увезу, вот только получу квартиру получше.
– Да куда меня, старую, везти-трясти, я уж и тут доживу с Иркой!
Он знал, что с Иркой ей жить – не мед. Остроязыкая, несдержанная Ирка металась между сельпо, где работала счетоводом, домом в деревне и запоздалыми интересами неустроенной жизни.
– Да еще неизвестно, приглянусь ли я твоей жене.
– Нет уж, мама, у нас все решено: получу квартиру с маломальскими удобствами – поедешь к нам!
Если бы в этот миг он посмотрел ей в лицо, то увидел бы в ее глазах неожиданные слезы благодарности. Он же сидел, сцепив руки меж колен, смотрел в пол. Сейчас он должен был огорчить мать.
– Мама… Мне придется ехать.
– Так ты только приехал намедни. Хоть бы пожил недельки две-три, давно ведь не бывал. Ну?
– И все же надо, мама, – вздохнул он, мысленно расставаясь с планами разыскать в районе старых приятелей.
– Чего тебе сейчас там делать-то, ведь зима!
– У меня работа круглый год, мама.
– А ты сейчас разве не на тракторах?
– Нет.
Он не стал ей разъяснять, что у него за работа, да и она, будто огорчившись, вспоминала:
– А мне уж больно нравилось, когда ты, бывало, на тракторе ездил. Едешь с поля – стеклышки подрагивают, кринки на окошке стукают, люди из окошек глядят – Колюша Аннин едет. Хорошо было… А помнишь, как ты в ту осень, как тебе в армию идти, комбайн-то вычинил? Помнишь? Вот и я помню. Никто и не думал, что управишься с этаким чудищем, а ты взял да и починил скорехонько. А бабы-то идут вечером, кланяются да и говорят: «Ну, Анна, сын-то у тебя – золотой! Комбайн так наладил, что и полегшую рожь обмолотил!» Говорят так, а мне и любо… Дак а сейчас-то чего ты делаешь?
– Я тебе писал, что меня назначили главным инженером, хоть я еще не закончил институт, а вот уж скоро год, как я на другой должности. Теперь я работаю секретарем партийной организации. В другом совхозе.
Она снова осторожно шевельнулась, поправила подушку за спиной и о чем-то задумалась, глядя в сте-ну.
– А чего ты делаешь на этой должности? – спросила она, видать, и впрямь не понимая.
– Моя работа, мама, это… как бы тебе сказать… Это все производство сразу.
Он понял, что сказал не те слова, но другие не подвернулись как-то, не нашлись. Мать задумчиво поджала губы, осторожно заметила:
– Я старая, не понимаю ничего, только думается мне, Колюша, что так и не бывает – все-то сразу.
– Ну, я вроде второго директора, понимаешь?
– Ах вон оно как… Понятно. Была у нас на этакой-то должности Нюрка Михеева. Все сидит, бывало, в день получки да деньги сбирает с мужиков и с баб, не со всех, по правде сказать, а только с таких, как ты, с партейных только.
Дмитриев кивнул – бывает, мол, и у него такое.
– Худого сказать про нее не могу, – продолжала мать целомудренно, – работать она не мешала, хоть и вертелась везде, и по деревням ездила, – колхоз-то вон как раздался! – и на собраньях иной раз скажет чего про пьяниц, стыдила за всякие дела, а потом и сама спуталась с председателем – с тем еще, с молодым. Да ты знаешь ведь Веньку Лукьянова, – с ним. Обоих и выгнали: его в город, на молзавод, а она теперь в сельпе сидит. Так же вот прозывалась. В твоей должности была.
Дмитриев сидел, глядя в пол. Он уловил ухом, как хрупко цокнул уголек на пол. «Надо поднять!» – стрельнула забытая, некогда привычная мысль, но он сидел у материнской кровати, крепко, до онемения сцепив пальцы рук.
– Может, я чего и не так сказала – прости старую, только подумалось мне: делом ли ты занят?
Дмитриев вздохнул, ушел к печке, кинул уголь в подтопок, подложил дров и плотно закрыл дверцу. У печки он постоял, подумал и неслышно вернулся к матери. Она смотрела на него уже не испытующе, а виновато (не обидела ли? Теперь и ночью не будет спаться…). Он улыбнулся ей, чуть подергал плечом, как, бывало, в детстве, когда она его журила, и ответил спроста, будто век к этому готовился:
– Среди людей работаю, мама, а как среди людей не найти дела? Всегда оно есть.
Дмитриев уезжал ночным. Он едва дождался Ирину, простился с родными как-то торопливо, не по-людски и вышел с чемоданишком на покосившееся крыльцо. На душе было тяжело, лишь снежная светлынь да деревья, охваченные инеем и блестевшие под луной, вдруг окатили какой-то давней, исходной радостью, будто что-то хорошее окликнул издалека…
А деревня, его маленькая, «неперспективная» деревня, ставшая короче и уже от увиденных им на земле крупных поселков и городов, от привычки его к иной масштабности, косилась на него изморозной стынью мелкокрешенных окошек и молчала, и не глядела вслед. Оглушительно скрипел под ногами снег. Разбуженная собака, единственная на всю деревню, дрожавшая под крыльцом у Михеевых, ошалело взлаяла и тут же осеклась – то ли от лени, то ли просто разучилась лаять на безлюдье. В душе он был рад, что покидает эту глухомань, что мир велик и кто-то там, за кромкой вон того иссиня-черного в серебре леса, за сотнями километров, ждет его. Он понимал, что нужен теперь не только жене и сыну, но и тем сотням люден, кто только присматривается к новому в совхозе человеку, надеясь на его помощь или сомневаясь в этом. «Делом ли ты занят?» – вдруг вспомнились слова матери, будто нагнавшие его уже за деревней. Он оглянулся, увидел огонек в родном окошке, остановился. Конечно, здесь, на родной земле, где зарыта его пуповина, на земле, по которой прошли его деды, где впервые он почувствовал свои силы, утысячеренные трактором, – здесь можно проще и легче прожить. Но как быть с собой? Душа коснулась другой, широкой жизни, и земля за этим лесом, оказывается, такая же родная и близкая на сотни и тысячи километров вокруг, и тут нет, видимо, никакой вины перед этими сирыми избами. Да, как бы там ни было, а жизнь изменит облик деревень, городов, изменятся и люди – думалось ему, – этот могучий процесс не остановить, это сама жизнь. Самое верное – привнести в эту жизнь то лучшее, что издавна было в народе. А что в нем было? Была святость – святость труда как основы всего, святость веры в человека, в его отклик на все доброе, что несет ему жизнь или другой, близкий, брат, была святость всечеловеческого родства – основа спокойствия на земле, и была святость земли родной, которую немыслимо предать или просто оставить. Был, наконец, язык предков, говоривших на этом языке от колыбели и до смертного одра. Если все это и многое еще, что выразимо уже не языком, а лишь сердца движением, если все это суметь привнести и утвердить в этом беспокойном веке, тогда можно быть спокойным за будущее. Но что может он, Дмитриев? Он еще недоучка, он еще тащится на заочном отделении сельхозинститута. «Делом ли ты занимаешься? – подумал он уже сам о себе и сам себе ответил: – Будет людям помощь – делом, не будет – не делом!»
Он опустил у шапки уши – нечего форсить! – и заторопился по сыпучему, зернистому снегу. Порой под ноги попадали легкие плитки наста, напомнившего, что весенний пригрев уже был, что весне пора бы раскачаться решительней, но она в тот год лишь поманила, и снова ударили заморозки. Уже в поезде, устраиваясь на ночь в прохладном вагоне, он снова вспомнил про телеграмму и никак не мог взять в толк, что же могло стрястись в их благополучном совхозе. Почти благополучном…
2
От вокзала до самых совхозных ворот он катил на грузовой. На перекрестке, лишь тормознула машина, выпрыгнул из кузова и пошел прямо на людей, толпившихся у парадного въезда на главную усадьбу совхоза. Высоченные ворота с надписью «С-з „Светлановский"» сияли первомайскими красками, хотя до праздника было еще далеко. На жидкой лестнице стоял сам прораб и прилаживал трубку для флажного древка. Лестницу держали сразу несколько человек, в том числе и ветврач Коршунов. Присутствие ветврача при таком деле предполагало пребывание поблизости и директора. И действительно, не успел Дмитриев приблизиться, как из-за фанерного щита в нижней части ворот, белевшего свеженаписанными лозунгами, показалась тучная фигура Бобрикова. Он блеснул одним оком на парторга и не подал руки, лишь кивнул, будто они виделись вчера вечером, будто Дмитриев и не приехал за сотни километров, сломав свой отпуск.
– Здравствуйте, труженики! – с натужной веселостью поздоровался Дмитриев, оттолкнув от себя обиду на директора, и подал тому руку.
– Здравствуй! – буркнул Бобриков. – Прикатил, отпускник?
– Прикатил. А что случилось? – кивнул на ворота.
– Гуляет, понимаешь, а мы тут его работу делай – марафет на совхоз наводи, – ворчал директор, и Дмитриев заметил, как все присутствующие, особенно ветврач Коршунов, как-то нехорошо ухмыльнулись.
– Да в чем дело, в конце концов? – не выдержал Дмитриев, обращаясь так резко к директору.
– Молод еще нервы то распускать, – одернул его тот.
– Но могу я знать, наконец, что тут происходит? – сдержанней спросил он.
Директор не ответил. Он неторопливо и, казалось, устало направился к стоявшей за воротами «Волге», покидывая носками меховых ботинок в стороны, будто распихивал мокрые травы. Не следовало идти за ним, но Дмитриев не погнушался этим – подошел к машине, когда директор прицеливался сесть, повторил вопрос негромко, но настоятельно:
– Матвей Степаныч, что-нибудь стряслось?
– Если что стряслось – за помощниками я не бегаю. Голову заложу, а державу не разорю!
«Державу!» – ухмыльнулся про себя Дмитриев, вспомнив, что заглазно Бобрикова зовут «Держава».
– А при чем тут разорение?
– Ни при чем! Праздник у нас, праздник на носу, какой – завтра на планерке узнаешь.
Глухо хлопнула добротно пригнанная дверца новой «Волги», почти неслышно всхрапнул мотор, и машина тронулась. Однако по озабоченному лицу директора, по морщине на лбу его шофера – верноподданного молчуна, каких высоко ценят владельцы персональных машин, Дмитриев понял, что если и ожидается в «Светлановском» праздник, то он чем-то все же омрачен. Расспрашивать об этом Коршунова, прораба или еще кого-то ему казалось неловко, да к тому же вся эта бригада приближенных директора пешком направилась куда-то за перекресток, к хутору Славянка, вслед директорской машине. Все это было для Дмитриева малопонятным и потому неприятным, хотя, казалось, он уже должен был бы привыкнуть к манере директора – руководить, ни с кем не советуясь. «Что же все-таки с Маркушевыми?» – не давала покоя все та же занозная мысль, что сорвала его из отпуска и не покидала всю дорогу. Он вздохнул, посмотрел еще раз на удаляющуюся группу руководителей совхоза и направился к дому, испытывая досадное чувство отчужденности к их, казалось издали, плоским, как закрытые калитки, спинам.
От въездных ворот до жилого комплекса главной усадьбы было метров триста – четыреста. Дорога красивая, меж хвойного перелеска. Справа просвечивались все еще белые, заснеженные поля, а слева, на угорье, темнел сосновый гривняк. Снег на полях – тоже неожиданность. Когда он уезжал на той неделе к своему милому северу, было тепло, моросил дождь, и можно было ожидать, что весна наконец пришла, а тут опять заморозки…
Навстречу, от двухэтажных жилых домов серого камня, тарахтел грузовик. Не совхозный. Чужой. В кузове громоздился домашний скарб – торчали поверх кабины ножки стола, стульев, ширился двустворчатый шкаф, светя на дорогу простецкой белизной фанерной стенки. На диване, лицом к заднему борту, сидела семья Завьяловых – сам хозяин, работавший в стройбригаде и числившийся хорошим настройщиком и наладчиком продольных пил на пилораме, хозяйка тоже ему под стать – отменная доярка. Рядом детишки – не понять сколько, – укутанные одеялами. «Куда же это от школы-то ребят? – раньше прочих вскинулась мысль и тут же другая: – Еще одна семья из совхоза. И какая семья! Труженики!»
Кончился забор производственных мастерских. В распахе сваренных из полосового железа ворот показались трактора, прицепные агрегаты, автомашины – те, что не на ходу, на бетонированной площадке мелькнул оранжевой краской по тонкой металлоконструкции сенопогрузчик. Дмитриев заметил главного инженера. Этот совсем молодой – примерно как и Дмитриев – и веселый человек орлом заявился в совхоз по распределению. Попытался устроить все на свой, научный лад, но скоро пообколотился. Директор требовал с него и как бы проверял на прочность нового специалиста, а с начала нынешнего года, когда Сельхозтехника задерживала ремонт машин, публично напускался на инженера и так же публично, на утренних планерках, снимал трубку и в одну-две минуты решал вопросы с ремонтом по проводу – те вопросы, из-за которых главный инженер не спал ночами, кричал на районных совещаниях, обивал пороги в райотделах. И тут что-то произошло с человеком. Его будто надломили. Поблек его звучный голос, изменилась походка. Он молча переносил окрики директора, только все меньше и меньше мечтал о новых автоматических линиях на скотных дворах, о которых он с воодушевлением говорил Дмитриеву в первое время… Сейчас инженер стоял нахохлясь около заглохшего бульдозера и задумчиво трогал подошвой сапог гусеничные траки. Дмитриев чуть замедлил шаг в надежде, что инженер увидит его, поздоровается издали, но тот не поднял головы. В последнее время ходили слухи, что главный инженер не прижился и собирается подавать на расчет, а жаль: человек, по всему видно, способный и мог бы раскрыться в этом мощном совхозе. Пока еще мощном…
Дмитриев вздохнул как-то потаенно, будто опасался, что за этим вздохом люди услышат слабость, еще не угнездившуюся, к счастью, в его душе, или тревогу, уже поселившуюся в ней, не дававшую покоя особенно последние полгода. Он вслушивался в себя и понимал, что тревога эта далеко не паническая, выбивающая из-под человека твердь, а совсем иная, чем-то похожая на спортивное напряжение нервов, на то здоровое волнение, что охватывает человека перед нелегким, а порой и опасным прыжком. Еще перед отпуском он знал, что скорей рано, чем поздно ему предстоит совершить свой прыжок, сделать свой самостоятельный шаг, где и когда – он еще сам не знал и томился ожиданием. Порой он оглядывался кругом и среди ежедневного производственного людоворота, шума, а порой и криков вдруг понимал, что производство может жить без директорских разносов, вывешенных на стенку приказов о наложенных штрафах, а главное – без того болезненного напряжения, что именуется модным словечком «стресс», против которого есть лишь одно средство зашиты: спокойное достоинство, основанное на хорошем знании своего дела. Однако все эти размышления, приходившие к нему над книгами или во время редких сессионных лекций, на практике рассыпались под увесистыми афоризмами директора: «Словом корову не накормишь!», «Книжки читай, а навоз убирай!» Его философия…
Надо было зайти в детсад, чтобы сразу повидать там своих, однако он решил скинуть с себя, с души дорожный балласт и сначала заглянуть домой. Ему захотелось порадовать своих: придут из детсада, а дома все прибрано, чайник кипит, на столе две пригоршни конфет, купленных в станционном буфете, а на кухне, в пенале – огромный репчатый лук, подарок матери для Ольги. Какой-никакой, а подарок, знак внимания…
Пока гремел на лестнице ключами, из двери напротив вышла соседка, доярка Дерюгина, собралась уже на вечернюю дойку.
– Здравствуйте, Николай Иванович! С приездом!
– Здравствуйте. Спасибо… Что нового в совхозе?
– Все идет, как шло… Вот еще семья сегодня собралась уезжать…
– Видел. Завьяловы уехали. – Он подавил вздох и повернул ключ в двери.
– Николай Иванович…
– Да?
Он посмотрел на Дерюгину. Она ступила одной ногой на нижнюю ступеньку лестницы, но уходить не торопилась. Лицо ее, охваченное зимним деревенским загаром, от ветров, мороза задубело, окрепло в четком прочерке не по-женски волевых морщин. Глаза смотрели устало, почти отрешенно, она будто сожалела о начатом разговоре и смотрела на Дмитриева испытующе. После большой паузы спросила:
– Когда же это кончится? Опять люди уезжают.
– Ничего, Анна Ивановна… Главное – работать, – и в голосе его продрожала неискренность, точнее – неуверенность.
– Хорошо работать, когда все впрок…
– А у нас что – в яму?
– Да вот – не слышали? – корова стельная пала.
– Что за черт! Опять! – воскликнул он и одним этим восклицанием решительно, с головой погрузился в дела и беды совхоза. – В чьей группе?
– В завьяловской. В бывшей.
– Кто на месте Завьяловой?
– Взяли какую-то со стороны. Нынче чуть не каждый день наезжают, благо жилье есть. Да хоть бы доярки были, а то… На прошлой неделе я эту доярку со двора выгнала, сама на ее группу встала, так директор мне выговор залепил – самоуправство, мол, развожу. На себя бы посмотрел…
– За что прогнали ее?
– Так ведь всех коров попортит, Николай Иванович! Аппараты подвешивать не умеет. Выдаивает плохо, а после отела долго ли мастит нажить?
– Поучили бы ее, как других учили.
– Я ли не подходила к ней! Так разве такая сатана послушает? Она меня так отчистила-отбрила – у мужиков уши загорятся. Чистая сатана, а не баба!
Было не совсем удобно разговаривать о серьезных делах на лестнице, но до церемоний ли в такой плотной житейской круговерти?
Он спросил:
– А что стряслось у Маркушевых?
– Ой, не спрашивайте! Беда, да и только! Когда Сорокину – сатану-то эту несчастную – мы со двора выпроваживали, мне Маркушева помогла. Сатане обидно сделалось, она и полетела по поселку с криком, а кричала-то все больше про Маркушеву, что-де та, этакая и переэтакая, от солдата принесла. Дело-то давнее. Парнишка уж большенькой, Сашка его усыновил, а тут она такое кричит. Да все бы ничего: собака лает – ветер носит, кабы не натолкнулась на самого Сашку Маркушева. Из магазина шел мужик, хлеб нес. Как услыхал про свою такое – так и позеленел, а сам-то – порох, не хуже братца, ну и двинул ей в рожу буханкой-то, подовой-то, круглой-то, – кровью и залилась. Вот ведь как приключилось от поганого языка.
– И что же теперь?
– Судить скоро будут. Одни Маркушев на днях из тюрьмы пришел, а второй теперь на его место. На теплое – смеются мужики.
– Смех-то плохой… Кто подал в суд?
– Директор вызвал сатану и заставил писать заявление. Сам и врача вызвал, чтобы бумагу оформить. Директор все натворил, паразит…
– Так нельзя, Анна Ивановна, вы все же член бюро…
– Сатана сама бы ни за что не подала, знает, что напросилась.
– Ну что за народ! – горестно выдохнул Дмитриев. – Ведь у Маркушева с неродным сыном – трое детей.
– С характером не управился. Брат-то его тоже за рукоприкладство отсидел полтора года: директора уронил и воротник ему оторвал у пальто.
– Ну что за народ!
– Так его, директора-то, ничем больше и не проймешь.
– Да полноте, Анна Ивановна! Вам ли говорить такое? Директор столько лет ведет хозяйство, на глазах у людей совхоз вывел в передовые…
– Да что, он один, что ли?
Дмитриев не ответил. Тряхнул ключами, выбирая нужный, но от Дерюгиной не отвернулся, будто готовясь ответить ей. Но в это время с улицы донеслось нестройное пение – голоса мужские, залихватские, и он ушел от неискреннего ответа.
– Гуляют, как некруты, – заметила Дерюгина, должно быть, о Маркушевых и направилась вниз, унося с собой стойкий запах силоса от рабочей одежды.
Ощущение того, что за короткое время, пока он ездил на родину, в совхозе что-то произошло, – это ощущение оправдалось и приобретало совершенно конкретные очертания в событиях, казалось бы, и досадных, но столь обыкновенных для их совхоза, что вроде бы к ним все привыкли, даже примирились, однако разговор с Дерюгиной всколыхнул в нем какую-то светлую, почти улегшуюся волну протеста, которую он в первое время работы здесь благоразумно придерживал, дабы разобраться во многих сложностях и противоречиях этого крупного хозяйства. Теперь, по приезде из своей деревни, он вдруг почувствовал себя как бы на перекрестке, что за воротами их совхоза, будто стоит он на виду у всех, а люди ждут, какую дорогу он выберет…
Интерес к домашней «игре» у него пропал начисто – не до сюрпризов тут. Он кое-как помылся, надел чистый свитер под пиджак – его обычная деловая форма, – накинул поношенное полупальто и пошел к своим в детсад. Его Ольга работала в старшей группе, а «старичков» одевали и выпроваживали на улицу пораньше, сразу после ужина – навстречу папам и мамам. «Однако надо впрягаться», – подумал он, намереваясь после детсада сразу же направиться на ферму, но и этот план тотчас переменился, как только он вышел из дома.
На дороге, почти поперек ее, стояла в полуразвороте грузовая машина. Главный инженер что-то говорил молодому шоферу, а заметив Дмитриева, решительно направился к нему, протянул руку.
– Не желаешь в Славянку? Все туда поехали.
– Что за приключение там? – кивнул Дмитриев в сторону хутора, что лежал в трех километрах за перекрестком.
– Там… рождение новой жизни. Из пепла.
– Не понимаю…
– Поедем, поймешь.
Они направились к машине, но и тут Дмитриева остановили. Подошел Маркушев нетвердой походкой.
– Привет начальству! – навалился распахнутой грудью на радиатор, руки раскинул – держит машину.
– Отойди-ка, Сашка, отойди, – посоветовал инженер, – нам ехать надо.
– Не торопись, инженер, на тот свет, там кабаков нет!
– А ты что это веселишься, будто не тебя, а Пушкина судить будут?
– Не будут!
– Как не будут? – спросил Дмитриев.
– А не успеют, Николай Иванович! – Сашка ехидно и зло стрельнул глазом в небо.
– Не понимаю…
– А газетки надо читать! Слышали: комета идет на сближение с землей. Вот скоро как даст – все сгорит: совхоз, райсуд, дело мое… Два дня осталось…
– Ладно, Александр, не дури и отойди-ка в сторонку, нам в Славянку ехать надо.
– A-а! Скажите там Державе, что мой братенник из тюрьмы пришел недаром, у него с ним счеты остались!
Счеты с директором остались и у самого Сашки. Более года он был шофером у Бобрикова, но чем-то не угодил, и с той поры, кроме вил и лопаты, никакой техники директор ему не доверял, хотя шофер он был не из плохих и за рулем не пил. Теперь остерегаться нечего, гуляет Сашка, ждет конца света и радуется, что умрет вместе со всеми, не осужденным.
– Ты, Александр, не болтай спьяну – счеты, комета. Отойди, мы торопимся! – Дмитриев первым сел в кабину, пристроился боком, чтобы дать место инженеру, и еще раз напомнил: – Ты лучше приди ко мне, обсудим, что на суде говорить станешь, а комета пришла и уйдет восвояси.
– Не-ет! Толстолобые все знают – те, кто в камилавках ходят да на небо в трубы глядят. Скоро сгорим, точно! И никакого суда, ни нас не будет – во как! Гуляй, ребята, пока свет не потух!
Сашка перевалился через дорогу перед самой машиной, направился к дому, где в угловой парадной был вход в магазин. Со второго этажа казенного кирпичного дома кто-то махнул в форточку рукой. Дмитриев глянул – бледное мальчишеское лицо светлело за стеклом. То был пасынок Сашки. Отчим не увидел, должно быть, или не обратил внимания и направился к магазину. На крыльце, горбатясь широкой спиной и обхватив руками голову, сидел его брат.
3
Хутор Славянка – жалкий остаток от прежней, некогда большой деревни – приладился в двух километрах от центра совхоза и состоял всего из двух старых строении, в которых доживали свой век бывшие колхозницы, радуясь каждой новой весне, сулившей тепло старым костям и новых, богатых дачников с машинами. Дмитриев не раз заглядывал сюда летом, наслаждался накоротке густым руном клеверных полян, их плотной медовой прянью. Сейчас там ждал его унылый вид вытаявшей, сырой земли, кой-где придавленной косяками снега, и потому, вероятно, думалось о затянувшейся весне и еще о Сашке – об этом в общем-то хорошем человеке, с которым так нетрудно поладить, если уделять ему хоть немного внимания.
Славянка объявилась скоро. Замелькали среди сосен березы – первый признак жилья, вместе с опушковой западью отодвинулся от дороги кустарник, и вот уже зачернела слева дорога – глубокие колеи среди наледи.
– Дымом пахнет! – тревожно заметил Дмитриев, уловив этот всегда тревожный в лесах запах дыма через приопущенное стекло кабины.
Инженер не успел ему ответить – не потребовалось: за деревьями полыхал широкий столб огня, на несколько секунд завороживший Дмитриева. Но вот он скинул гипнотическое наваждение и толкнул инженера локтем.
– За этим позвал меня?
Тот кивнул.
На хуторе горел старый дом. Кругом суетился народ, но, судя по всему, тушить не собирались. Более того, мальчишки со смехом мельтешили перед пожаром, били стекла палками и комьями сырого снега, кидались поленьями в огонь. Взрослые как бы потеряли интерес к этому дому и суетились больше у второго. Там был директор. Он стоял близ «Волги» в пальто внакидку и, подобно полководцу, отдавал приказания:
– Вытаскивайте ее, вытаскивайте! Коршунов! Поджигай! Руки, что ли, отсохли?
Второй дом уже дымил изнутри, но пламени еще не было видно. Коршунов уклонялся от дыма, подкарачился к самой стене и торопливо чиркал спичками, ломая их пучками.
С крыльца снимали старуху Сойкину. Муж ее, пастух, а зимой – скотник, работал по старинке, забыв о пенсионном возрасте. Нынче с утра он вывез шкаф, кровать и сундук заранее, но старуха насобирала еще всякого старья по чердаку, по углам, увязала все это и еще рвалась в подожженный дом – забыла чего-то.
– Назад! Куда прешь, старая? Сгореть хочешь? А ну, прыгай живо! – кричал на нее директорский шофер и еще больше хмурил свой лоб ввиду ответственной минуты.
Кто-то из мужиков подбежал и снял старуху с крыльца. Шофер директора потащил узел ее к грузовой машине, стоявшей на поляне.
– Бей по капитализьму! – кричали мальчишки, приступая к стеклам второго дома.








