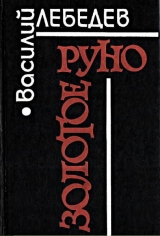
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 25 страниц)
– Ну… если подучить, поговорить, то, пожалуй, что…
– Хорошо! Ты еще сможешь подучить, у тебя есть кого, а что станет делать Бобриков?
– Назначит. Прикажет. Начнется падеж скота – выгонит.
– Или посадит в тюрьму. Вот и весь стиль его работы. В прошлом году сгорело сотни тонн сена – пожалел денег, чтобы обнести сараи заборишком или поставить сторожа. Он не дрогнул: с виновника взыскали деньги, а район возил ему сено. Он знает, что в такой стране не дадут животным сгинуть. А ведь и дела-то было – купить замки на двери, ну, может, обнести сараи проволокой, что ли. Жалко денег. Экономист!
– Экономи-ист! – хохотнул Орлов, наклонившись вперед и высматривая лужи.
– Такого руководителя я просто назвал бы вредителем, отбивающим у людей всякую охоту трудиться. Вот и споришь, а иной раз скандалишь…
– Все по диалектике…
Они молча шли уже мимо того поля, по которому утром бежал лось. Поле лежало, косо перерезанное темной тенью по дальней, у леса, кромке, и было красивей, чем утром, но восторга в Дмитриеве оно не вызывало. Он сейчас не был настроен на романс, как утром. В душе подымалось что-то тяжелое, ставшее еще более неприятным от промелькнувших мыслей о Маркушевой. Ему сделалось нехорошо от логической параллели: если он мог так подумать о Маркушевой, почему его Ольга, сбежавшая сейчас в родное село, обозленная, не может думать так же? При этой мысли он попытался вызвать злобу в себе, но она не приходила. Сознание подсунуло усталое лицо жены, беззащитность сына, и нечто похожее на жалость, хорошую человеческую жалость, которой почему-то иные стали стесняться, охватило его. Ему хотелось бы высказаться перед приятелем, но он не знал, что и как говорить, да и не был уверен, что тот поймет его.
– Андрей… – все же начал он.
– У?
– Ведь у нас с Ольгой может все порушиться. Убежала к матери. Сына забрала…
– Придет. – Орлов сказал это уверенным тоном. – Бабий заскок. Эмансипация, мать ее в угол! Раньше женщина боготворила мужа, а теперь – самостоятельность! Есть у меня одна пара, молодые еще, но в неделю по три раза в разных домах спят. Сошлись – два сапога, он лодырь, получает гроши, естественно, она зарабатывает столько же. Равенство… Второй компонент – свобода, они ее тоже понимают по-своему – спят, где хотят.
– Упрощаешь. В жизни все сложней, – заметил Дмитриев.
– Пусть так, но мне ясно одно: мужчина теряет свой статус. Гибнет его авторитет, так какая же тут любовь к нему?
– А ты задумывался когда-нибудь – за что нас можно любить женщинам? Мы требуем к себе внимания женщины, невзирая – за что и я ратую – ни на какие там заработки. Считаем, что нас надо любить как личности, а все ли мы личности? Другой настолько измельчал в ужимках, в хитростях да пустом мельтешении, что на него пора смотреть через лупу – тут ли он еще? А горды! Вон как ты идешь – нос задрал, смотрите: я не кто-нибудь – я директор!
– Ну и что?
– А то, что на гордость человеческую право надо заслужить, вот что! А мы свою мужскую гордость чаще всего тешим дома, вспомнив, что мы – кормильцы.
– Кормильцы, – утвердительным эхом буркнул Орлов.
– Вот-вот: принесем домой сто рублей – наорем на сто. Принесем двести – накуражимся на двести. А что мы фактически даем женщине? Хорошо кормим или одеваем?
– А что им еще надо?
– Они ждут от нас простого хорошего человеческого слова, Андрей, а у нас на это времени нет. Если обидим – вон как я свою – нам стыдно показаться виновными или жалостливыми. Жалость, видите ли, унижает человека! Сатин сказал спьяну, а мы и рады стараться!
– Не сносить тебе башки, Колька! – вздохнул Орлов, засмыкал своим сорок пятым размером по скользкой весенней дороге, но вдруг резко прибавил шаг, охнул и кинулся со всех ног к развилке лесной дороги, уходившей на Бугры. В тот же миг Дмитриев увидел небольшое пламя за придорожным мелколесьем.
«Скирды! Скирды соломы!» – ударило в сердце.
– Скорей! – послышался крик Орлова уже далеко впереди, а где-то еще дальше и левее, должно быть, на дороге к «Светлановскому», взревывал и замирал трактор.
Орлов вмиг полетел прямо по хляби раскисшей дороги, по лужам, да и не диво: солома была его, оплаченная уже вывезенной картошкой. Это был его резерв, его гарантия на все случаи этой капризной весны, это была надежда наконец обойти «Светлановский». Орлову – что греха таить! – хотелось выпихнуть Бобрикова, оттеснить его с первого места, и цель эта была близка. Вот уже неделю он держал удои значительно выше «Светлановского», а скоро начнутся массовые отелы, и большеполянское стадо, освободившись с помощью зоотехника Семенова от малопродуктивного скота, еще больше нарастит свою мощь – готовь, директор, цистерны! Держись, Бобриков! Держись, Держава, черт ископаемый! А тут – на тебе! – такое…
Дмитриев, когда подбежал к развилке и увидел в дыму Орлова, удивился не столько самому пожару, сколько тому, что солома горела не в скирдах, за полсотни метров от дороги, а на самой дороге! Она была сдвинута с поля на кусты, на канаву, но более всего трактор-бульдозер сдвинул соломы на дорогу. Огромные вороха ее бугрились, как барханы, и это помогало огню набирать силу Счастье было, что загорелось с краю. Орлов разваливал, как бульдозер, горящую – направо, не охваченную огнем – налево. Дмитриев кинулся на помощь, и, кашляя, кряхтя и матерясь, размазывая сажу по лицам, смоченным горючими слезами от дыма, они врезались в эту хрусткую, просохшую, сытно пахнущую массу, радуясь, что поспели все-таки вовремя.
– Вон-вон! Загорелось! Откинь! – кричал Орлов, и в голосе его оживали нотки бодрости. Огонь и в самом деле доедал теперь только откинутые вороха, а вся остальная масса лежала в безопасности.
– Коля! Пострахуй тут немного и – за мной, а я его догоню, паразита! – крикнул Орлов.
Он рванулся по дороге на шум уходившего трактора. Было ясно, что этот трактор своротил стога к дороге, он же, возможно и невзначай, зажег от искры солому. Немудрено зажечь: трактор выше кабины врезался в соломенную массу, тут действительно искры хватит…
Дмитриев несколько раз проработал, прочистил коридор меж догоравшей соломой и нетронутой, покидал для верности мокрого снега из канавы и кинулся за Орловым.
До трактора он добежал скоро. Машина стояла с заглохшим мотором. В полумраке виднелась распахнутая кабина, а у левой гусеницы Орлов тормошил человека.
– Ах ты паразит! Ах гад! Да тебя мало… Тебя прибить, негодяя, или прямо в милицию?
– Тихо!.. Тихо, говорю! Чего ты взъелся? Отпусти!
– Я тебя спрашиваю в последний раз: как у тебя рука поднялась? – хрипел Орлов, склоняясь над маленьким трактористом, в котором Дмитриев узнал нового в их совхозе парня.
– Приказ! – выкрикнул он чуть не со слезами. Приказано – вот и сдвинул после работы!
– А поджег кто?
– Чего?
– Солому кто велел поджечь?
– Ничего я не поджигал. Сдвинул я скирды и все…
Дмитриев подошел и в изнеможении сел на траки гусеницы.
– Оставь ты его… оставь… Это державинские проделки… – еле переводя дух, произнес он.
– Айда к Бобрикову! – взревел Орлов, и ничто его сейчас не могло остановить от гнева и желания расправиться с самодуром.
Орлов грохотал в дверь минут пять, не меньше. Он бы вырвал обычные запоры, но Бобриков как раз на днях поставил могучий крюк, сильно опасаясь Маркушева, вернувшегося из тюрьмы. Этот крюк и держал дверь. На стук загорались в доме окна, в то время как у Бобрикова окошко погасло. Соседи выходили на площадку, дико смотрели на разъяренного Орлова, не узнавая его, измазанного гарью. Дивились.
Дверь открылась неожиданно и тихо. Орлов лишь секунду раздумывал, потом резко распахнул дверь сам и схватил Бобрикова за кушак халата.
– Попался, гад! – гаркнул он прямо в лицо Бобрикову и так тряхнул его, что тот стал оседать и бледнеть.
– Чего это с ним? – удивился Орлов, понимая, впрочем, что схватило сердце.
– Вот… Валидол… – тихо проговорил Бобриков, показывая слабым движением руки на карман халата.
Дмитриев достал валидол, открыл коробочку, сунул под язык директору таблетку. Подумал и снова положил лекарство на место. Осмотрелся. Директор лежал на полу, покрытом ковралитом, хотя тут была всего лишь прихожая. Столик с зеркалом, на котором были выставлены бутылочки с одеколоном и прочими благовониями – предметами не только мужского, но в основном дамского туалета, очевидно жена наставила. Она же, городской человек, приезжающая сюда лишь на лето в качестве почетной дачницы, купила ему модный халат и мягкие расписные тапочки – желтым по серому.
– Тебе, паразиту, белые пора надевать! – рыкнул Орлов, увидев, что Бобриков оклемывается – бледность исчезала и багровая краска заливала его щеки. – А ну, говори: в милицию тебя тащить или завтра в райком?
Бобриков молчал, соображая.
– Я спрашиваю: ты зачем велел солому мою уничтожить? Она же загорелась!
Бобриков дернул кустиками бровей. Спросил.
– Сгорела?
– Сгорела – не сгорела, а отвечать тебе придется!
Бобриков хмыкнул и сел на полу. Холодно глянул на Дмитриева, потом обратился к Орлову:
– Ничего я не знаю!
– Врешь! Тракторист признался!
Бобриков подумал еще. Откинулся боком на стену, прикрыл глаза.
– Может, в постель? – спросил Дмитриев.
– Ну и приказал! Ну и что? – бодро и зло вскинулся Бобриков, не обращая внимания на предложение Дмитриева о постели. Видимо, это его уже мало волновало. Более того, он заглядывал в полуотворенную на площадку дверь, видел там людей и, кажется, был доволен этим.
– А то, что схлопочешь вместо пенсии – тюрьму!
– За что?
– За попытку уничтожить государственные корма!
Бобриков помолчал. Покряхтел, забираясь в карман халата.
– А вот! – сказал он, доставая что-то.
Орлов наклонился и увидел в кулаке маленькую бумажку, будто специально приготовленную для Орлова. Очевидно, Бобриков ложился с нею спать.
– За поджог не отвечаю… А за то, что стога сдвинул с поля… Мое право! Чего не убирал? Я вот тебе письмо послал с требованием вчера… Заказное, понимаешь.
– Ох, га-ад… – выдохнул Орлов и отпрянул назад. Все продумал! Но ничего! Ты и за эту сдвижку поплатишься! Завтра же буду у Горшкова! Я тебя выведу на чистую воду!
– А вот! – опять возразил Бобриков, тяжело выпрастывая руку из того же кармана, куда он опускал квитанцию посланного письма.
Орлов невольно наклонился, чтобы рассмотреть, что там такое еще, и с омерзением отпрянул: Бобриков показывал ему кукиш.
– Вот! Видал? Мне поле надо было! Мне некогда дремать, я к посевной готовлюсь!
– По снегу-то?!
– А это мое дело! Уходите! Эй! Кто там, на лестнице? Гоните их!
Соседи по лестнице – ни с места.
Орлова затрясло мелкой, отвратительной дрожью Он сжал кулачищи и шагнул к Бобрикову, который уже по-хозяйски подымался и отряхивал халат. Дмитриев увидел, как внимательно смотрит Бобриков на Орлова, явно желающего залепить оплеуху соседу.
– Хе-хе-хе!.. Петушок! – выжидающе хехекнул Бобриков с подзадоринкой. Он смотрел на лестницу – видят ли люди. Был в лице его и страх, но желание сокрушить Орлова по закону, возбудить уголовное дело было сильнее страха.
– Андрей! – Дмитриев резко рванул приятеля за рукав и встал между ними. – Не пачкай рук!
И подтолкнул Орлова к порогу.
– Ничего! Мы еще посмотрим, кто теперь кого! Я тебе покажу, как врываться по ночам в квартиру и бить хозяина!
– Да он вас не бил! – встрял тот самый тракторист, что пришел вместе с Дмитриевым и Орловым.
– Закройте дверь! – рявкнул Бобриков.
По лестнице спускались молча. Так же молча вышли на улицу. Ощущение было такое, как если бы они выпустили из загона матерого волка.
– Ну и ну-у-у! – только и сказал Орлов.
– Хорошо, что ты его не тронул.
– Да. Хорошо, – согласился Орлов. – Теперь можно ехать поутру в райком. Надо. Не могу иначе!
Они вышли на дорогу и тотчас отступили к обочине. Из гаража вывернулся «козлик» и устремился куда-то в сторону совхозных ворот. Машина пролетела мимо, выхаркнув невидимый клуб теплой пахучей гари. Послышался плеск – колеса врезались в лужу, выкинув на обе стороны два черных крыла грязи.
19
Ночка выдалась для Дмитриева не санаторная. Часов до трех, после того как проводил Орлова, он вышагивал по квартире. События последних дней – одно другого значительнее – волновали не только его, он знал, что по всему совхозу стало известно о серьезном конфликте между ним и директором, а последнее ночное событие подтвердило все догадки: да, это большой скандал. Он вспоминал встревоженные лица людей и каким-то необычным, запредельным чувством ощущал абсолютное единение их с собой, читал тревогу на их лицах – тревогу за него. И чем дольше не гасли в ту ночь огни в окнах домов, тем полнее, он убеждался в том, что люди с ним, и не только тут, на центральной усадьбе совхоза, но и там, за лесом, во всех отделениях их большого хозяйства сейчас тревожатся, спорят, порой идут к соседям… Хлопают в ночи двери, лениво взлаивают потревоженные собаки…
Когда же пришло утро, он поднялся с дивана совершенно разбитый. Хотелось доспать, укрывшись потеплей, но вспомнил, что предстоящий день может стать еще одним нелегким днем, от которого многого ждут люди.
Он ушел в Грибное, торопясь к концу утренней дойки. Надо было застать доярок на месте. Сегодня он шел туда, где обитал самый крикливый фермерский люд – такой, что палец в рот не клади. Раньше он ходил туда, как на самую тяжкую работу, но сегодня шел с желанием, даже с каким-то радостным ожесточением, будто хотел проверить себя на прочность перед последней, накликанной им самим и все же долгожданной грозой.
В Грибном в последние недели было особенно трудно: там долгое время на ферме не работал транспортер, и дояркам при нынешних многоголовых группах приходилось самим убирать дворы, вручную. «Ну, будет крику, – думал он. – Достанется всем – от правнуков до прадедов!» Он был готов к этому, понимая, что людям свойственно просто строить свою политику: не устроено производство – плохие руководители. Но легко ли быть хорошим? Вот те же транспортеры, в которых не виноват даже сам Бобриков. Сельхозтехника имеет запчасти, но нет у нее свободной рабочей силы. Совхоз просит те запчасти, сам монтирует, а стоимость всех работ, с монтажом, совхоз оплачивает Сельхозтехнике, потому что эта организация не торгует запчастями, а целиком монтирует. В результате грабеж: «сельхозтехнари» получают куш, не ударив пальцем о палец, а совхоз еще раз платит за монтаж своим рабочим. Где же тут будет снижение себестоимости продукции?
«Кого мы обманываем? Кого?» – задавал себе вопрос Дмитриев, в который раз доходя опытом своей работы, что есть еще недостатки посерьезнее хамов Бобриковых.
Вопреки ожиданию, короткое собрание-летучка прошло на удивление спокойно. Люди говорили немного, по делу. Казалось, что все изготовились слушать его, потому как были уже наслышаны о столкновении с директором. На лицах он читал все тот же немой вопрос – хватит ли тебе сил, парторг? – а по голосам, по интонациям, по жестам он понимал, что в решительный день он может на этих людей положиться.
До главных ворот он подъехал на попутной и как раз у того коварного кювета, где на обочине еще светились осколки стекла после катастрофы, он увидел жену Костина.
– Что это вы? – тревожно спросил он. – Уже расчет поспешили взять? – полагая, что она идет из конторы.
– Не-ет, – улыбнулась она, кажется, впервые за все время, как он ее знал. – Павел велел снова на телятник идти, да и то сказать; чего бегать-то?
– Правильно, – облегченно вздохнул Дмитриев, но все же спросил; – А по какому делу на центре?
– Да вот послал рубаху покупать, – тряхнула она пакетом. – Самую, говорит, лучшую, самую белую бери, мы, говорит, с парторгом за билетом поедем в райком. Так вот я и ходила…
– Ну, счастливо вам! Передайте привет Павлу да скажите там, в Буграх: с первого числа автобус будет ходить!
День действительно превзошел все ожидания. Когда он подходил по подсохшему асфальту к первым домам, то увидел на крыльце детского сада женщину в белом халате, издали похожую на его жену. «Да это она!» – со смешанным чувством обиды и торжества подумал Дмитриев. Неудержимо потянуло к сыну, захотелось хоть минуту подержать его на руках, ощутить на своей шее маленькие ладошки. Он прибавил шагу и хотел перейти на другую, на левую сторону дороги, но услышал резкий сигнал машины и отскочил к канаве.
Мимо пролетела черная «Волга». По номеру он безошибочно угадал машину Горшкова. Следом прошел «козлик» Фролова, в брезентовой пещере – битком людей. За фроловской машиной старым начищенным самоваром летел «Москвич» Орлова, играя на дневном солнышке всеми вмятинами забубенного лихача. Орлов выкинул в окно ручищу, махнул Дмитриеву – дуй в контору! – и через сотню метров приткнул свою хворобину прямо к машине Горшкова.
«Начинается…» – грохнуло в груди Дмитриева. Он весь подобрался и неторопливо пошел к выходившему из машин начальству.
Откуда-то появились люди, должно быть, из производственных мастерских, доярки, шедшие на дневную дойку. Приостанавливались на почтительном расстоянии. Дмитриев заметил, как Горшков первым поздоровался с Дерюгиной кивком головы – помнил знаменитую доярку, узнал – и неожиданно быстро пошел навстречу Дмитриеву, в то время как Бобриков уже ссыпался с крыльца и семенил к машинам. Горшков молча подал руку Дмитриеву, посмотрел ему в глаза и мягко сказал:
– Ну что, скандалист, пойдем потолкуем?
– Да, наверно, пора, Юрий Арсеньевич, – в тон ему ответил Дмитриев, и они направились к правлению.
Золотое руно
Если человек боится смерти – значит, он не созрел для нее.
Если человек опасается старости – значит, он еще молод.
Однако никакие сентенции не спасают порой от раздумий, не обороняют никого от действий, столь же естественных, как течение времени. Как часто приходится ловить себя на нескромном желании поделиться с людьми опытом своей жизни – первом намеке на уходящую молодость, и хотя опыт не определяется количеством прожитых лет, откуда все же берется это желание? Уместно ли оно? Древние утверждали: сдерживая желание, становишься мудрым. Если с этим согласиться безоглядно, то в каком же невыгодном положении оказываются все писатели и те же философы, включая древних, что обрекли себя на извечно трудное дело общения с людьми на основе все того же несдержанного желания – рассказать об опыте жизни, опыте мысли! Однако совершенно очевидно: драгоценный опыт человека, обращенный не на себя, а во благо людское, – это и есть наивысшая мудрость бытия. Это она повелевает человеку разобраться в самом сложном и малоприятном объекте – в самом себе, приобщиться к мудрости человечества и просто помогает жить.
Но все же: сдерживая желание, становишься мудрым.
Не в моей власти, но в тот вечер мне хотелось быть таким.
В прошлом году, в неохватное время белых ночей, мне полюбились поздние прогулки по городу. Это понятно каждому, кто видит нынешний город чаще всего в тесноте транспорта, в сутолоке тротуаров, и как бы человек ни привык к муравьиной жизни супергородов, он не разучится ценить редкие часы блаженства, когда он остается почти один на один с огромным городом. Редко-редко мелькнет вдали машина под мигающим светофором, а маленькую фигуру человека и вовсе можно не заметить в размахе широких улиц, и только высятся громады притихших домов, залитых светом белой ночи, опустевшие, будто жители ушли из них давно и надолго и не найти им обратно пути. Кажется невероятным, что в огромных домах не стукнет дверь парадного, не блеснет холодным блеском светлого бессолнечного неба ни одно стекло… Стоят дома, будто океанские суда, а неровные цепочки легковых машин вдоль тротуаров беззвучно горбатятся, словно корабельные мыши. В таком городе, именно в этот час, почему-то видно далеко, как в осеннем облетевшем лесу, и так же тревожно, подобно лесному костру, чадит где-нибудь труба, но воздух успевает к полуночи очиститься, а смоченные росой трава и листья нечастых деревьев дышат забытой, неправдоподобной свежестью… В такой час особенно приятно встретить прохожего, с которым, как на лесной дороге, хочется поздороваться и поговорить.
В тот вечер я вышел позже обычного. Долго настраивал себя на привычную лирическую ноту, долго вылавливал тот легкий и непринужденный шаг, единственно возможный для фланирования, от которого не устаешь, а получаешь удовольствие. Еще дольше успокаивал себя. Целый день не мог найти интонацию нового рассказа. Более двенадцати часов просидел над бумагой и все порвал, а тут еще жена вышла в прихожую, подбоченилась и боднула взглядом:
– А куда это ты повадился по вечерам?
– Это что – недоверие?
– Просто интересно знать!
(У них все «просто интересно знать!»)
– Ну что же. Я тебе отвечу: в эти чудные ночи я устремляюсь на тайные встречи к заветной калитке.
– С кем же?
(Этот грубый вопрос со всей очевидностью показывает, что моей благоверной трудно удержаться в рамках игры, она явно выходит за черту).
– Со стройной блондинкой.
Этими словами я последний раз поддаю мяч семейной лапты и тоже выхожу за черту – переступаю порог.
«Всё проходит», – написал на своем кольце царь Соломон. Он имел в виду великие трагедии человечества, распри народов, любовь и ненависть, богатство и власть. С тем большей легкостью лечит время мелкие неурядицы. Вот и мое настроенье поправилось, как только охватило меня со всех сторон это молчаливое, неизбежное и порой трагическое чудо – город. Было уже чуть-чуть за двенадцать. Безветренно и тепло. Прохожих почти не видно – сказывалась середина недели. Правда, на моем пути до Невы прокачались две пары молодых людей, висящие друг на друге, да вывалился из-за угла бычьих статей детина – плотен и обл, с потной морщиной на узкой лобовой броне. Костюм, галстук, рубашка, ботинки – вся фактура преуспевающего комиссионного торгаша – излучали благополучие и дежурный трепет перед будущим следователем…
– Что с вами? – Я задумался и зачем-то окликнул совсем юную девушку, неслышно обогнавшую меня. Только на один миг она повернула лицо в мою сторону и была, вероятно, раздосадована: я увидел ее слезы. Крупные. Неутешные. Так плачут над гробом близкого человека или в ранней юности при первом разочаровании… Она быстро скрылась за углом, и когда я, повернув домой по тому же пути, тоже зашел за угол, ее нигде не было. В памяти остался ее цыплячье-желтый плащ, тонкий и прозрачный, как папиросная бумага, светлый венок распущенных волос да белоснежный вихрь босоножек. В руке у нее был, кажется, маленький чемодан. Так выглядят те, кто торопится на вокзал или спешно уходит из дома. Мне почему-то показалось, что эта девушка сбежала от того расфранченного громилы, и тут же захотелось стать моложе и красивее, утешить ее, помочь, защитить… О, фантазия, как легко она разыгрывается в полночь! Лет бы двадцать – долой…
Через молодой парк дорога была короче и приятней, тут, что ни говори, а земля под ногами – это тебе не асфальт, не так утомляет ногу. Я уже начал подумывать над тем, чтобы прогуливаться не по улицам, а по юному парку, где чище воздух, тише и лучше ходить, как вдруг впереди зажелтел – не может быть! – ее плащ. Шагов через сто у меня уже не осталось сомненья: на скамейке, одна посреди бесконечной аллеи, сидела она. Когда я приблизился, она подобрала босую ногу, а руку с босоножкой сунула за спину. Мельком взглянув на меня, она опустила голову и замерла в ожидании, когда я пройду. Лицо все еще было печально, но уже без слез, как я успел заметить.
– Авария? – ткнул меня бес в ребро.
Она кивнула – качнула серпиком пробора – и показала оторванный ремешок.
– Как же вам помочь?
Она пожала плечами.
– Вы куда-нибудь опаздываете? – спросил я, вспомнив, как стремительно она обогнала меня.
– Нет. Мой поезд днем…
А голос-то! Голос! Чистый, с придыханием. Наверно, в таком голосе услышал когда-то Иван Бунин знаменитое «легкое дыхание» своей героини Оли Мещерской. И пусть, может быть, никогда не было той Оли, но непременно была у писателя какая-то, похожая вот на эту, встреча с девушкой и разговор, а потом, через много лет, появился замечательный рассказ…
– И до поезда вы намерены так сидеть?
Она пожала плечами и опять как-то вопросительно взглянула на меня, а точнее – прокатила по мне ореховые глаза.
– Тогда давайте обдумаем, если не возражаете.
Она смолчала, и я решительно сел рядом. Она пододвинула к себе маленький плотный чемодан, вероятно, для того, чтобы мне было удобнее сидеть.
– Прежде всего, – сказал я отвратительным, назидательным тоном, – нельзя плакать из-за порванного ремешка.
– Я не из-за ремешка…
Ну и хитрые же мы становимся с годами! Ведь я знал, точнее – догадывался, что была какая-то другая причина, более серьезная, из-за которой она оказалась на улице среди ночи, а начал с этого отвратительного «прежде всего…». Тьфу! И ведь специально, чтобы вынудить ее на признанье. Нет чтобы по-людски-то, прямо. И я решил спросить прямо, но она опередила все мои психологические раскладки:
– Я поссорилась с тетей и дядей… Нет-нет! Они хорошие, но я поеду к маме, в Кострому.
Она потупилась, и я без помехи смотрел на ее, – пожалуй, не ошибусь – прекрасный профиль, исполненный мягких линий и нежности.
– Никогда не был в Костроме, – сказал я, чтобы не угас разговор.
– Ой, у нас хорошо! – и на секунду-другую блеснула доверительной и такой прелестной улыбкой, что я подумал: «Вот счастьище достанется кому-то», а она тотчас нахмурилась, как бы ругая себя за вольность, и вздохнула: – Там у нас Волга, Ипатьевский монастырь…
Она теребила порванный ремешок ослепительно белой модной и, судя по подошве, совершенно новой босоножки.
– Надо будет получше пришить, чтобы не видать было, она помолчала и закончила: – Приеду домой и вышлю ему или на тетю, она отдаст ему, потому что я не хочу…
От каких-то неведомых мне нахлынувших на нее чувств она умолкла. Возможно, это была горечь воспоминаний или просто неловкость за вырвавшиеся слова. За ними уже слышалась какая-то драма, а спрашивать…
– Ничего-о, – вновь взялся я за поучительный тон. – В жизни возможно всякое, и у вас всего еще будет.
– Такого не будет! Никогда!
Тут бы самое время спросить о случившемся, да не повернулся язык. Захочет – сама скажет, но она молчала подавленно, будто сокрушаясь о своей болтливости.
– Ну что же, будем чинить ремешок или станете хромать в одной босоножке до самой Костромы?
– А как?
– Выход один: идти вон к тем домам. В одном из них живу я. Дома найдется, чем прошить, можно, наконец, закрепить тонкой медной проволокой, а утром, когда откроют мастерские, ремонт займет три минуты.
Взгляд ее испытующе прокатился по мне, бесстрашно и требовательно.
– Хорошо. Только ненадолго… А лучше я подожду около дома.
– Как вам угодно, синьорина!
– Я не синьорина.
– Кто же вы!
– Я – Оля. Цветкова. Почему вы так улыбаетесь?
«Чуток еше – и бунинский персонаж», – вновь подумалось мне, да и забавной казалась вся эта неожиданная, хотя и не ахти какая история. Серьезность чувствовалась только в том, о чем Оля не договаривала. Она шла рядом со мной по аллее, не подымая головы, как невольница. Я не знал, что сказать, и тоже смотрел вниз, на ее узкие крепкие ступни. В руках она держала по босоножке. Незастегнутый плащ, невесомо раскрыленный на ходу, открывал рябенькую простоту ее платья, из-под которого матово помелькивали колени.
– Оля! – обратился я твердо. – Сейчас мы подымемся ко мне, и, пока я чиню босоножку, вам придется мыть ноги.
Она зарделась. Убавила шаг. Мне пришлось срочно выложить перед ней самую представительную визитную карточку своей персоны:
– Не беспокойтесь, я женат Моя благоверная безмятежно спит, и вам нечего волноваться.
Оля согласилась, и тут я усомнился, насколько безмятежно спит моя жена. И зачем нужно было болтать о блондинке? Вот она, судьба-то, подслушала, а теперь попробуй отмахнись от всего, что налягал языком! Ох, язык мой – враг мой. Господи упаси, только бы не было скандала…
– А может быть, вы погорячились с родственниками? Не разумнее ли вернуться и уладить отношения?
– Я не могу вернуться! – воскликнула она и чуть не заплакала снова.
– Я предлагаю это, потому что не знаю причины.
– Они хотели выдать меня замуж!
– Помилуйте, Оля! Это же прекрасно!
– Они тоже говорят, что это находка, что такого мужа, какого они мне отыскали, мне никогда не найти: и умный, и уважаемый, и двухкомнатная квартира в кооперативе осталась одному после смерти матери, и богат сказочно…
– Вы его не любите?
– Как вы не понимаете! Я его первый раз вижу, и потом… Он много старше меня.
– Это серьезная причина?
Она посмотрела на меня, как бы извиняясь, и, кажется, искренне ответила:
– Нет, это не самая серьезная причина… Вы понимаете. Я не знаю, как это сказать… Когда он посадил меня в своего «Москвича» и закрыл кнопкой дверцу, я подумала, что я в плену.
– Но многие женщины жаждут золотого плена!
– Не знаю… А когда я вошла в его квартиру, я сразу почувствовала себя служанкой, и такое чувство…
Она не договорила.
– Но вы могли бы со временем привыкнуть и из служанки стать хозяйкой, – сбивал я ее с толку, но она стояла на своем и была, ей-богу, очаровательна в своей твердости и, одновременно, растерянности.
– Я знаю, это очень несовременно. Я, наверно, глупая, но что же делать? Ведь я не в капиталистической стране, правда? – наивно спросила она меня, и так по-школьному прозвучало это слово – капиталистической, что я снова улыбнулся, встретив ее растерянный взгляд.
– Вы смеетесь – значит, я глупая, правда?
Тут она ойкнула – наступила на что-то острое, захромала и присела, растирая ногу, на последнюю в аллее скамью.
– Болит?
– Ничего… Почему вы молчите?
– Да что тут говорить? Я порой не понимаю вашего брата, молодежь… Вот пример: у моего племянника появилась девушка. Видимо, хорошая и милая, может быть, даже такая же, как вы, и вдруг эта ангелица заявила: пока не будет машины, замуж она не пойдет. Каково?
– Пусть он ее бросит!
– Вот если бы вы ему встретились… Нет, лучше не надо!
– Почему? – вспыхнула она.
– А потому, что он ее стоит. Молодой инженер, голова вроде бы на месте, а кинулся в такое самоистязанье, что диву даешься! Ограничивает себя во всем и откладывает деньги на машину. Ничего не скажешь, это лучше, чем прогуливать их, ударяться в пьянство, но и такой аскетизм мне непонятен. Во имя чего – вот вопрос! Не машиной же должен возвышать себя человек, не барахлом! Его упорством можно было бы восхищаться, если бы он отказывал себе в удовольствиях ради, скажем, старых родителей, младших братьев или сестер, требующих поддержки, а то ведь все делается для своего же «я», не так ли?
– Это верно…
– Ну что, можете идти?
– Кажется, могу.
– Возьмите-ка меня под руку и обопритесь! Вот так!








