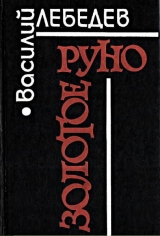
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
Но будь она неладна, эта фортуна с ее неверным колесом!
Из автобуса, изменив геометрию широченных плеч, бочком выдавился старшина группы Николай. Он на несколько мгновений уставился своими поднебесными сибирскими глазами на гречанку, сморгнул чары и залопотал по-английски. Через минуту он уже обнимал меня за плечи.
– Это не тебя встречают, – сказал он.
– Кого же, черт возьми?
– Это твоего однофамильца с Мосфильма. Айда в автобус!
Я нашел в себе силы улыбнуться гречанке и расшаркаться, приложив руку к сердцу, и сесть на заднее сиденье, чтобы не видать, как плавает по автобусу сатанинская улыбка драмодела.
А между тем началась она, Греция. Не верилось, что сейчас будут Афины, а потом… Хорошо притихнуть на заднем сиденье – лучшие места все равно были заняты, пока судьба на аэродроме смеялась надо мной – и отдаться вниманию и тем отрывочным раздумьям, что с трудом умещались среди междометий, поскольку слов уже не было при созерцании надвигающегося города. А тут еще возник откуда-то гид – сухопарый старый грек – и заговорил. Высокий, подтянутый, он – по автобусным слухам – имел лет семьдесят от роду, но выглядел на сорок с небольшим.
Рассыпал дамам комплименты, острил, гордился своей страной так, как могут гордиться только греки, и так великолепно говорил по-русски, что его трудно было бы отличить от преподавателя старой гимназии. Его осанка, манеры, отличный серый костюм, галантность и реактивная предупредительность – все было великолепно, лишь какая-то заданность в монологах, умело скрытое, но все же уловимое желание понравиться да еще, пожалуй, разрыв между тонкой улыбкой и холодным, все охватывающим взглядом разрушали впечатленье непогрешимой целостности, однако и это исчезало за блеском русского языка, которым он владел в завидном совершенстве. «А ведь немало пожил в России, шельма!» – подумалось мне тогда. Это был один из хозяев туристской фирмы.
– Если пожелаете, вы можете, а мы предоставим вам такую возможность, осчастливить своим присутствием священную землю Марафонского поля, где наши славные предки, численностью в тридцать тысяч, наголову разгромили трехсоттысячную армию персов! – восклицал грек, и я видел, как забегали ручки по блокнотам.
А грек воодушевлялся:
– В минувшую войну мы тоже не сидели сложа руки. Когда полчища итальянцев двинулись к границам России через нашу землю, мы такую устроили им трепку, что они выкатились к своему грязному Риму. Правда, наша доблестная армия вынуждена была сложить оружие перед немецкими танками… Что вы сказали, молодой человек? Да, но не ваша: и я пользуюсь случаем поздравить всех вас со славной победой, поздравить через три десятилетия! Справа от вас – стадион. По хорошо сохранившимся колоннам его входной части вы видите, что это совсем молодое сооруженье, ему всего-навсего тысяча семьсот лет…
Он умолк и долго смотрел в ветровое стекло. Автобус замедлял ход, двигался рывками и вскоре совсем остановился: похоже, мы попали в какую-то пробку на одной из центральных улиц. Вот сейчас, через пять или десять минут, эта армада сдвинется с места, выбросит сотни кубометров отработанных газов, и небо над Афинами, небо над планетой станет на какую-то долю процента темней, а сотни людей не доживут по какой-то полминуте из отпущенной им природой жизни. Машины… Как могло случиться, что в этом божественно-дьявольском изобретении могли соединиться удобство и мученье? Никогда не стану писать о марках и достоинствах машин, скажу только, что в Европе пришлось видеть один город, где каждый второй житель имеет машину, но от этого ни город не стал лучше, ни жители счастливее. Автомобили стоят там перпендикулярно к проезжей части улицы, плотно прижавшись друг к другу и выбросившись на тротуары никелированными оскалами радиаторов, как агонизирующие рыбы – на берег отравленной реки.
Воистину человек всю жизнь дитя, только с возрастом меняются у него игрушки…
Ну, вот и тронулись наконец с места. Сместились почему-то на левую сторону улицы и тащимся еле-еле. Грек наш неожиданно оживился, вытянул вперед сухую руку с темной кистью и ядовито заметил:
– Вот, извольте взглянуть! Вместо того чтобы заниматься делом – учиться, работать, ходить в церковь, – они проводят время в пустяках и мешают движению!
Впереди и вот уже по правому борту автобуса потянулась колонна демонстрантов. Накануне национального праздника на улицы Афин вышла молодежь, студенты. Это их старших товарищей несколько лет назад расстреливали из танков… Привет вам, ребята! Да не коситесь вы на наши окна, мы же не толстосумы! Вот на мне чужая кепка…
Ах, Греция! Не заслони лица своего, будь такой, какая ты есть, а большего мне и не надо.
Наша гостиница «Мармара» оказалась в самом центре города. Говорят, это неплохо, но в первую же ночь пришлось умерить свою радость: всю ночь через город шли грузовые машины – обычное деловое движение ночных Афин. Кроме того, шторы номера были задернуты неплотно, и какой-то болезненный свет, косо сломанный с потолка на стену, холерически примигивал и раздражал меня. Я поднялся, вышел на балкон и увидел в доме напротив освещенные окна. Там днем могла быть какая-нибудь контора, а вечером помещенье превращалось в самодеятельное казино. Узкая улица позволяла рассмотреть, как напротив, на шестом, кажется, этаже, плотный круг людей в магической неподвижности следил за несколькими игравшими, за их нервными движениями. Это, должно быть, сослуживцы-клерки и их знакомые, чтобы не платить за вход в богатые казино, испытывали судьбу друг на друге, стремясь разбогатеть на жалких драхмах и лептах ближнего. Вот утром, думалось, они радостно здоровались друг с другом, днем забегал на работу чей-нибудь сынишка, и они трепали его по голове, а сейчас, озлобленно и недоверчиво глядя в глаза партнеру, желают оставить его и семью без куска хлеба – только так, в игре другого решенья нет. Одно утешенье – бесплатная комната. Хорошо бы уснуть.
Однако сон не шел. Вскоре стало ясно, что напрасно я грешил на какой-то там свет, на несчастных клерков, тайно от семьи и мира игравших в самодельном казино, и не шум был причиной бессонницы – шуму хватает и в Ленинграде, и даже не затянувшаяся адаптация к новому месту, а совсем другое.
Несколько часов назад около кинотеатра, когда мы четверо костромич, ярославец, москвич и я – прогуливались после ужина, подошел к нам человек лет двадцати с небольшим, назвался русским и пригласил в кино. Рассказал, что несколько лет назад приехал в Грецию из Казахстана вместе с отцом, матерью и сестрами. Николай не верил ни одному его слову. Я верил всему. Разговаривали прямо во время сеанса, потому что на экране был боевик про лихого парня Зорро, но не про того, что просочился и на наши экраны, а про того, до которого нашему кинопрокату еще падать и падать. Среди шума, ржанья коней, выстрелов, отчаянного секса, поднимавшего зал на ноги, можно было говорить беспрепятственно. Илья – так звали парня – учился в авиационной школе по вечерам, намеревался стать авиамехаником. Днем работал. Он мне приглянулся тем, что второй его заботой были сестры, которым надо было обязательно покупать квартиры, потому что в городе девушку без квартиры не возьмет замуж даже спившийся грузчик из Пирея.
– Когда заканчиваешь учебу?
– Через три года.
– Заработки будут хорошие?
– До заработков еще далеко.
– Три года – не время, – возразил я.
– Три года – до афинского диплома, а этот диплом – пропуск на учебу в Англию. Там учиться несколько лет, потом практика, а потом – самостоятельная работа лет через семь.
– Вытянешь?
Илья пожал плечами, затем торопливо допил из горлышка кока-колу и тут же схватил за руку официантку, проезжавшую с тележкой по проходу, – взял всем еще по бутылке, пустые же лихо катнул по наклонному бетонному полу. Там они звякнули в груде других, накопившихся за сеанс.
– Если так долго до заработков, сестры твои состарятся, пока ждут квартир. Как же быть?
– А черт его знает! Башка кругом идет.
– Жалеешь, что уехал из Казахстана?
– Отец жалеет, я – нет.
– Здесь хорошо?
– Здесь весело: живешь, как кроссворд разгадываешь, – ни черта не понять, а у вас…
– Что у нас?
– А у вас там все известно: такого-то числа аванс, такого-то – получка, в таком-то месяце – отпуск, а таком-то году – пенсия…
– Ну почему же все у нас ясно? Есть и неясности. Не знаешь, например, когда получишь квартиру – весной или осенью. Нельзя поручиться, достанешь ли билет на теплоход в Кижи…
– А что это такое?
– Это шедевр русского деревянного зодчества – храм на острове… Так что и у нас есть неясности. Не знаешь, на какой девушке жениться – на смирной или строптивой. Не знаешь, когда придет врач – через двадцать минут или через час, если простыл, накупавшись в Иртыше или в Неве, только точно знаешь, что платить ему не надо…
– Да, да… – перебил меня Илья. – Батька сейчас очень жалеет, что он не в России, он сейчас…
Илья замолчал, следя за ответственным моментом на экране, где удачливый усач Зорро подстрелил сразу трех ротозеев и увез расфранченную толстуху, перекинув ее через седло, как мертвую ярку.
– Так что сейчас отец? – напомнил я.
– Попал под машину. Вторую неделю лежит с ногой. В суд не подашь сам виноват, нарушил правила перехода.
– Леченье дорого стоит?
– Не говорите! Мы копили деньги на машину, хотели купить вашу «Волгу» и сделать из нее такси – машина для этого дела удобная, – но вот… уходят деньги.
– А как сейчас с заработками?
– Да что об этом говорить, когда все равно меня увольняет господин Помонис.
– За что?
Он не понял, повернулся ко мне. По лицу его пробежали тени от экрана.
– Ах да! – спохватился он. – Я уже и забыл… Это у вас там причина нужна… Нет, меня увольняют, потому что ему выгоднее взять двоих «огарков», он им будет платить вдвое меньше, чем мне одному, а работу они выполняют; тут молокососы настырные.
За четыре с небольшим года язык его еще не успел измениться, да и сам Илья мало чем отличался по своим манерам от сверстников в Павлодаре, Усть-Каменогорске, где недавно мне довелось быть. Пока мало…
После кино я пригласил его в гостиницу и подарил бутылку русской водки.
– Браво! – воскликнул он. – Айда к площади Омония, вы сейчас увидите, как я буду торговаться с проститутками! Айда – обхохочетесь!
– Нет-нет! Ты сейчас топай домой и передай отцу привет из России – отдай ему эту бутылку.
Илья набычил голову, рассматривая знакомую, видимо, этикетку, и опять грустно сказал:
– Расстроится батя… Ну ладно. Спасибо! Вы завтра уезжаете по Греции путешествовать?
– Да. Дня на четыре-пять.
– Ну ладно, может, еще свидимся!
– Все может быть… – ответил я словами ярославского поэта.
…Вот эта встреча и мешала мне уснуть в ту первую ночь в Афинах. Я прикоснулся к чьей-то судьбе, узнал, что кому-то неуютно живется на этой земле, и это неожиданное открытие чужой судьбы навсегда останется во мне. Оттого-то так тяжко, что я не в силах ничего изменить.
А под конец, перед самым забытьем, полусонная память ласково подложила мне образ гречанки, стоявшей около автобуса неподвижно, как кариатида, пока мы не уехали.
Красные гвоздики на белоснежной скатерти. Первый завтрак в Афинах. Разговоры за столом более склоняются к Парфенону – храму Девы на акропольском холме. Там наша группа должна получить некое благословение на поездку по стране, по не менее знаменитым и древним очагам европейской культуры, на поклон к их священным развалинам.
Вопреки ожиданию, старый грек-краснобай с нами не поехал. Вчера он, содержатель фирмы, оказал редкую для туристов честь – лично встретил гостей, а сегодня представил нам в холле гостиницы нашего постоянного гида. Это была невысокого роста серьезная полнеющая, но энергичная женщина, быстрая в движениях. Лицо ее, отяжеленное возрастом, уже не было лицом Афродиты, однако гордый профиль гречанки, достоинство в походке, во всей осанке, жестах, а более всего взгляд ее крупных темнокарих глаз – всеохватывающий, неистовый, властно притягивавший к себе, – все это вместе с элегантным и в то же время практичным темным платьем заслоняло естественные утраты, что не минуют женщину после пятидесяти.
«Один мудрец учил народ, что половиной всех красот портным обязана природа» – так сказал некогда Лопе де Вега, и если согласиться с великим испанцем и отнести половину обаяния нашей мадам Каллерой за счет прекрасно продуманного туалета, то вторую половину она легко набирала не столько из золотых россыпей былой красоты своей, а скорей за счет на редкость богатой, сильной и в то же время женственной натуры. Через полчаса мы уже не сожалели, что с нами не ловкий словосуй грек, а мадам Каллерой, тоже великолепно владевшая русским. Кроме того, наша группа убедилась еще в одном редком качестве нового гида; казалось, что она пришла не работать с нами, а наслаждаться и общеньем с нами, и, особенно, былым величием родной Греции, на фоне которого нынешняя жизнь страны вызывала у нее немало горьких восклицаний и недоговоренных фраз.
Мы медленно подымались по лестнице Пропилеев и приближались к бесценной святыне Афин – Парфенону. Акрополь… Он подымается над уровнем невидимого отсюда моря на сто пятьдесят шесть метров, а над миром возвышается – двадцать пять веков. Эта цифра неподвластна воображению. За эти века на Земле возникали и исчезали города, народы и государства, а он стоит, истерзанный варварами, потрепанный временем, и ему же служит. Акрополь вознес на себе, по существу, бессмертные сооружения греческого национального гения – Парфенон и, второй, малый храм, Эрехтейон. Это даже не песня из камня, это поистине божественная симфония, высеченная из бело-розового мрамора, и звучит она сквозь тысячелетия от золотых времен Перикла до наших дней, одаряя мир бесценным чудом красоты. Здесь даже варвары отмякали нравом от соприкосновенья с прекрасными творениями Греции и волей-неволей, рано или поздно, воспринимали эту олимпийскую высокую культуру. Недаром ростки ее проросли по всей Европе, отозвались во всем мире как добрые семена жизни, ее вечных высот. И не будь их, насколько больше взошло бы на земле чертополоха – варварства, всепожирающего эгоизма, насколько ожесточенней были бы войны и насколько дольше выходило бы человечество из их мертвого дурмана, возвращаясь к высоким общечеловеческим ценностям – миру, красоте, совершенству человеческого духа.
Счастливые греки! У них, у древних, был хорошо организованный дом, у них была надежная крыша над головой – небо, омрачавшееся лишь дождевыми тучами, их мир был ограничен на западе краем земли Атлантиды, где могучий Атлас держал небесный свод, на востоке – Колхидой, землей золотого руна, символа жизни и счастья.
– Обратите внимание! – говорит мадам Каллерой. – Колонны Парфенона несколько наклонены внутрь и друг к другу. Если мысленно продолжить их движение вверх, то они пересекутся на высоте…
Ах, мадам Каллерой! Да разве важно, что они пересекутся на высоте двух километров? Важно, что здесь, на вознесенном над городом каменном бастионе древней земли, где трепещет национальный флаг страны, пересекаются прошлое и настоящее, сошедшиеся в сокрытой, но все более непримиримой борьбе. Кто в ответе за ее исход?
В тот день мне было грустно спускаться по ступеням Пропилеев. Внизу, чуть правее, виднелась среди города скала Ареопаг, где некогда звучали голоса граждан Афин, заседал судебный орган страны и вершил надзор за исполнением законов избираемый орган контроля. Высокий дух гражданственности потребовал заточения в тюрьму великого Фидия, чьи последние скульптурные работы, прославившие его и Грецию, вызвали нарекание народа, потому что старик посмел изобразить себя на щите богини Афины… Да, наказывалось все – себялюбие, предательство, вольномыслие. Со ступеней Пропилеев видна тюрьма, где сидел мудрый Сократ, а за спиной у нас несколько скульптур кариатид, поддерживающих антаблемент Эрехтейона – тысячелетняя память о трусости и предательстве. Когда-то мужчины маленького города Каркаса и его провинции открыли ворота перед персами, не встав на защиту отечества, и за это Греция казнила трусов, а женщин обратила в рабынь. С той поры они олицетворяют наказанье, держа на без вины повинных головах тяжесть зданий… О, милая, честная, дивная Греция, бьют ли еще те древние родники?
Там, на Акрополе, я не знал, что получу ответ на этот непростой вопрос.
Второй день наша группа доживала в Дельфах.
В музее, перед тем как его покинуть, мы с другом из Костромы одновременно приблизились к каменному изваянию, имевшему вид гигантской головки бомбы, поставленной на попа, диаметром в полтора обхвата и более метра высотой. Посмотрели в глаза друг другу и одновременно положили ладони на гладкую холодную поверхность. Из музея вышли, исполненные гордости: мы держались за Пуп Земли. Да, это каменное изваяние было у греков Пупом Земли, а место это, у подножия горы Парнас, было для них центром Вселенной. Где-то бушевали страсти, воевали друг с другом города и государства, а здесь царило глубокое и мудрое спокойствие. В Афинах боролись партии, вершился суд, готовились к войнам, но без совета с дельфийским оракулом не принималось ни одно решение. Афинский поэт Солон, он же знаменитый законодатель, советовался с тутошним оракулом. Знаменитые законы Ликурга утверждались здесь же, у подножия горы Парнас. Это он, дельфийский оракул, утвердил и одобрил Олимпийские игры, освятив их ореолом мира и дружбы. Сколь велико было влияние и авторитет Дельфийского храма и его оракула, можно судить и по тому, что бесстрашные спартанцы, граждане самого могущественного в древности государства, города которого не имели защитных стен, ибо доблесть неистового спартанца была лучшей защитой, – даже эти отчаянные люди не предпринимали ни одного похода без совета оракула. А если к этому добавить, что повелители могучих государств шли, плыли и ехали сюда с богатыми дарами на поклон, то станет понятным, почему древние греки именно здесь поставили мраморный Пуп Земли. Сейчас можно только вообразить, какие сокровища стекались в этот храм, если по каждому случаю сюда приносились дары! Простой грек шел пешком или ехал на осле, чтобы освятить свою жизнь и жизнь своих детей, он вез дары. Демагоги (в буквальном переводе с греческого – вожди) везли дары в колесницах за то, что боги даровали им власть. Воины и полководцы несли дары на щитах своих перед битвами и после блестящих побед. Трудно представить сейчас, чему больше поклонялся человек древности – богу Аполлону, по преданью, воздвигшему этот храм, или поразительной красоте бесподобного сооружения.
К этому храму не прикоснулись руки варваров: он погиб от землетрясения в глубокой древности, в первые века христианства. Можно только предполагать, что чувствовал древний грек, когда приближался к этому месту и бросал первый взгляд из долины вверх, где в распадке горы Парнас, на высоте сотен метров, возвеличивалось бело-розовое здание храма и многочисленных сооружений культа – здания-хранилища драгоценностей, огороженное колоннами по кругу помещение для оракула – фолос, лучезарные мраморные лестницы… И все это на южном склоне горы, все освещено щедрым солнцем и освящено беспредельным доверием сердца древнего грека. Он трепетно подымался в гору, припадал к Кастальскому ключу, пил, очищаясь от скверны быстротекущей и многогрешной жизни, и только после этого приближался к величественному храму Аполлона. Что испытывал он к этому богу? Ведь по преданью, девушка Касталия, которой домогался всемогущий, бросилась от него в источник, называющийся и поныне ее именем…
Кастальский ключ волною вдохновенья
В степи мирской изгнанника поит…
Вот вспомнился Пушкин, и стало не по себе, оттого что мы стоим у знаменитого источника, а ему, великому, так и не ссудила жизнь испить живительной влаги Кастальского ключа…
Оливы, оливы, оливы. Поневоле даешься диву, когда представишь титанический труд крестьян, убирающих урожай в этих неоглядных рощах. Лист этого невзрачного дерева похож на наш ивовый, а стать дерева – яблоневая. Оливы, оливы… Сотни тысяч деревьев. Мадам Каллерой говорила, что где-то под Микенами, где мы еще будем, тянутся бесконечные рощи апельсиновых деревьев – четыре миллиона стволов! Но не менее поразительным было для нас открытие: весь этот гигантский урожай на много лет вперед запродан иностранным компаниям. Возможно, это кому-то и выгодно, но становится немного не по себе.
Автобус спустился давно с предгорий Парнаса и теперь идет по дуге у самой воды Коринфского залива. Просторно живет Греция. Редко мелькнет жилище пастуха, предпочитающего жить независимой от цивилизации, растительной жизнью, или встретится небольшая деревушка в буйном цвете букамбилии, очень похожей на нашу сирень, но цветущей в ноябре.
Понемногу укачивает, но попробуй засни, когда едешь по Греции!
– Впереди небольшой приморский город Нафпактос! – с удовольствием объявляет мадам Каллерой.
– Чем он знаменит? – слышу сквозь дрему вопрос жены моего друга, Нины. Ее светлые волосы купаются в греческом солнце.
– О! Многим… – мадам Каллерой умолкает ненадолго и торжественно объявляет, видимо отобрав наиболее выигрышный момент истории города. – В этом городе подолгу жил и лечился великий испанец, певец благородства и самопожертвования – Сервантес!
Да-а… Мадам Каллерой знает, чем нас расшевелить! А как владеет языком! И где она его изучила?
В автобусе зашевелились. Всем хочется немного побыть в этом городе, но едва ли удалось бы нам уговорить гида, если бы не случайное совпаденье: шофер автобуса был родом из Нафпактоса, здесь, по-видимому, живут его родственники, и он, будучи человеком «себе на уме» и неплохим водителем (до сих пор с дрожью вспоминаю, как он перед Дельфами затормозил у самой кромки обрыва), сэкономил около тридцати минут, чтобы забежать в отчий дом. Мадам Каллерой посмотрела на часы и отпустила нас в город. Когда автобус остановился на площади, она оповестила:
– В этом городе есть небольшой рынок, сегодня как раз торговый день, но не задерживайтесь, пожалуйста, больше двадцати минут: нам еще ехать пятнадцать километров и хлопотать о месте на пароме!
Мы уже знали, что должны переехать через пролив, соединяющий Коринфский залив и Ионическое море, и ступить на легендарную землю Пелопоннеса, где ждут нас Олимпия, Триполис, немного южнее останется Спарта, а впереди – Нафплион, Эпидавр, Микены, Коринф… Да, всего лишь несколько километров пролива из Антириона в Рион – и мы продолжим путь по этому золотому кольцу греческих развалин, описывать которые мне не придется на этот раз.
Из автобуса вышел одним из последних. Оглядываю маленькую площадь, вижу в переулке ласковое море, блещущее на полдневном солнце метрах в ста, высоко на горе, нависшей над городом, – нестарый, православных очертаний храм, а прямо – неширокая улочка вдоль моря, вся ни живого места! – в умопомрачительном развале теснящих одна другую лавок с прилавками и наземными коврами, сплошь уставленными сувенирами, безделушками, дельными вещами, тряпками поразительных расцветок, кувшинами, античными вазами – умелыми подделками под старину, – и все это так расставлено, так повешено и так предлагается, что наша группа вмиг исчезла из моих глаз, утонув в этой призрачной золоченой бахроме, как жуки-землерои в песке. Но и я хорош: ходил, как очарованный странник, глазел, фотографировал, с опаской посматривая, не скрылась бы белая шапка драматурга и не потеряться бы, а потом снял свою, ударил оземь и пошел торговаться – растрясать валютную сирость.
Всюду писали и пишут, что греки были завзятые мореплаватели. Но плаванья имели наиглавнейшую цель – торговлю. Так не осталась ли у нынешних греков малая толика того торгового духа, что двигал некогда этот народ за тысячи километров от своей благословенной земли? Вот вопрос, с которым я вышел из автобуса, и вскоре помял, что эта традиция все-таки сохранилась.
Вот он, плотный греческий рынок, но ничего традиционно восточного, шумно-балаганного, назойливого – береги рукава! – нет. Возможно, то уважительное достоинство, скрыто-напряженное внимание к покупателю, живая готовность к движению навстречу и поразительное угадывание желания покупателя – все это берет начало оттуда, из глубины веков, когда неведомый темноволосый стройный человек из древней Эллады разбивал палатку на далеком и неспокойном берегу моря Евксинского, а его потрепанное суденышко стояло на якоре с опущенными парусами. Дивился раскосый кочевник, прямо с седла, копьем перебирая товары и глядя на беззащитную голову грека, поражался его выдержке и не сек ее. Свистел трехпало, глядя, как мелькают над прилавком проворные руки отчаянного торговца – делового человека древних времен. Да, это они, торговцы, вопреки бесконечным войнам открывали, как свои лавки, самый прямой путь к сосуществованию народов – торговлю. Сколько видела грешная Земля наша нашествий и кровопролитий! Но из пятнадцати тысяч войн, зафиксированных человечеством, его историей, ни одна не заканчивалась безмолвием смерти: после каждой из них рано или поздно торжествовал разум и вчерашние враги возвращались к вечному делу жизни – работе, торговле, вновь становясь друзьями. Это свойство подлунного бытия было замечено еще Софоклом, сказавшим устами царя Эдипа:
…и никакой союз
Меж городов, как меж людей, не вечен:
Вчерашний друг становится врагом,
Но дни бегут, и вновь он станет другом.
Эта мысль девяностолетнего Софокла, высказанная за пять веков до нашей эры, не оставляет равнодушным и нашего современника, она по-прежнему волнует и обнадеживает…
А рынок затягивал, как глубина, и казалось, что где-то в конце этой узкой улицы, где слились воедино и левая, и правая сторона, там-то и ждет туриста золотое дно. Но как дойти до него, когда слева и справа смотрят на тебя внимательные и доброжелательные глаза торговцев? Фотоаппарат щелкает непрестанно. Уже не глядя, на слух, перевожу пленку, стараясь не упустить из виду интересное лицо покупателя-грека или божественную грацию юной торговки. А тут еще надо успеть сделать покупки – тоже радость, когда чувствуешь, что рады тебе, предупреждают каждое желание, достают все, до чего не дотягивается рука, на что упал взгляд…
«А сколько же времени?» – этот невинный вопрос набатом грянул в моей голове. Часы сказали время – и тотчас кто-то будто облил меня холодной водой: вмиг успел вспотеть и выстыть. Еще бы! Вместо двадцати минут прошло сорок с лишним!
Бросаюсь по улице назад, но откуда-то много появилось народу. Те самые крестьяне из соседних деревень и мелких городишек, которые не мешали медленно двигаться, когда шел сюда, теперь натыкаются на меня, а я налетаю на них. Улице не вижу конца и решаюсь свернуть в переулок налево – хитрю, чтобы бежать параллельно, но на всякого хитреца туриста довольно простоты архитектурной неразберихи маленького города, и я тотчас попадаю в тупик. Беру еще дальше влево, выбегаю на набережную и, держа у правого плеча купол собора площади, по-заячьи – окружным путем – выбегаю на площадь.
Нашего автобуса нет.
Бешеный круг по площади и – столбняк.
Догнать автобус нет никакой возможности. Значит, остается два выхода: самостоятельно добираться до Антириона, самостоятельно переправляться сегодня (если будет еще паром) или завтра на тот берег, в Пелопоннес, и пешком идти до Олимпии, а это… – вчера я прикидывал по карте, на глаз – километров шестьдесят. Вторым выходом оставалось закрепиться в Нафпактосе, где тоже имелось несколько выходов, главными из которых были: заявиться в полицию, вернуться на рынок и, пока не поздно, распродать по дешевке, что я накупил на всю свою небольшую валюту, – все эти кувшины, статуэтки, значки… Ну, а третьим способом прожить и дождаться прихода русских в Нафпактос я избрал собор на площади, где можно будет вечерком выпросить на паперти несколько десятков лепт. Вот когда я понял подлинное значенье этой мелкой греческой монеты – лепты!..
– Ну какого ты черта! – рявкнул драматург.
– Как я рад тебя видеть! Ты тоже отстал?
Он не ответил и зашлепал куда-то в переулок, куда полицейский отогнал наш автобус с площади, где, оказывается, нельзя было стоять. «Ишь, расфыркался! – подумал я о драматурге. – А ведь с рынка смылся и меня не окликнул!»
– Софокл! Не сердись…
Бронзово-рыжий затылок непреклонно и молчаливо выкатывал складку, но и она меня сейчас не раздражала: я был рад, как бродяга, как блудный сын, вновь обретший Родину. Вот она, на колесах! Лица неподвижны. В глазах – упрек.
– Простите, если можете! – упал я на колени рядом с кабиной шофера, прямо у ног мадам Каллерой. – Больше со мной этого не повторится!
– Гарантии? – потребовал драмодел.
– А вот гарантии!
Я тряхнул горой сувениров, положил их на пол и демонстративно вывернул карманы.
Первыми улыбнулись женщины – милые наши женщины, они сразу отмякли сердцем – жена московского поэта-песенника, Нина, жена моего друга, дочь ленинградского писателя, и половина ученой пары.
Черт с вами! – заиграла во мне радость и одновременно злость на мужиков. Дуйтесь, дьяволы! Со мной все женщины, девушка-переводчица и даже непреклонная мадам Каллерой, на лице которой с моим приходом снова появилась доброжелательная улыбка. Ах, как она заговорила и держала свое красноречие до самого Антириона! Как она радовалась каждому вопросу!
Я сидел на заднем сиденье. Помалкивал.
На пустынном берегу Антириона наш автобус вместе с несколькими грузовыми машинами и одной легковой, туристской, был принят на борт дизель-парома. Пассажиры прошли на палубу, стояли там у непроницаемых высоких бортов. Послонявшись по палубе, я заглянул в трюм, где был оборудован прекрасный бар, там уже сидел с рюмочкой греческой водки узы наш знаменитый ленинградский блоковед. Трость – на спине стула.
– «Тот трюм был русским кабаком!» – продекламировал я, но сесть рядом решительно отказался: в кармане была одна лепта.
На палубе потягивало ветерком с Ионического моря, туда же, к западу, направлялось все еще высокое солнце. Паром дышал прогретым железом, солоноватый запах его перемешивался с соленым запахом моря: соли в воде Средиземного моря намного больше, чем в нашем, в Черном…
Мадам Каллерой стояла в одиночестве и смотрела не на юг, где все отчетливее прорисовывался берег с его причалом и какими-то постройками, а на запад. Лица ее было не узнать. В профиль оно казалось лицом львицы, готовившейся к прыжку за борт Я дважды прошел мимо, но она не обратила на это внимания, очевидно, не заметила.
– Мадам Каллерой! Простите…
Она посмотрела сквозь меня и перевела взгляд снова туда, куда только что смотрела, но где не было видно ничего, кроме лазурного моря, а дальше – остров Онасиса.








