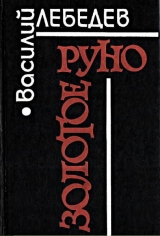
Текст книги "Золотое руно"
Автор книги: Василий Лебедев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 25 страниц)
– Ну и чем кончилось? – оборвал Ломов.
– Так чем? Подрыть стену хотел – нечем. Руки сразу в кровь содрал. Известно – руки не лопата. Походил-походил по сараю, в гнездах яичко нашел, выпил да так до утра и промаялся. Утром мужик еще побесился немного да на работу утек, видать, окопы рыть. Проканителился со мной, а потом бежать с руганью, только лопата запрыгала на плече да сапоги: бум, бум, бум! – нельзя опаздывать: судить будут, о-от… А потом хозяйка пришла. Ну, той тоже надо в очередь за хлебом, а меня оставить боится. Вот тогда-то мы с ней и договорились: она мне дает по-честному кусок хлеба и три вареных картошины, а я ей сарай, значит, сдаю без боя. Так и сделали. Положила она еду на дровишки, а сама молчком на дорогу вышла. Ну, тут я через огороды и дал ходу прямо на станцию, о-от…
Колтыпин встал, прошел в угол зала, бросил погасший окурок в урну и смачно, два раза, плюнул туда. Ломов, не вставая, щелчком направил свою наполовину выкуренную папироску в таз у питьевого бака, а когда подошел Колтыпин, спросил его, скорей от скуки, чем с любопытством:
– Ну, а спекулировать, батюшка вор, легче?
– Ну уж и не скажите! Ничуть не легче, – не обидясь, охотно отозвался тот. – В этом деле такого, бывалочь, натерпишься – ой-ей-ей! А сколько ночей бессонных проведешь, сколько набегаешься от всяких там законников да прихлебателей! Так что, почитай, барыша-то и не было совсем. А и правда: то туда надо дать, то сюда сунуть. То от милиции откупиться, то посредникам, то проводникам, то…
– Постой, постой! Ты уж, брат, темна душа, не завирайся! При чем тут проводники, если ты на крышах ездил? – прервал Ломов.
– Не-ет… В этом деле на крышах нельзя. В этом деле вид нужен, ну, как бы сказать, – солидность. Понимаете? О-от… Так что в этом, как ни кинь, – все равно – трудно. Сколько, бывалочь, крови перепортишь! А все завидуют, все считают, а хоть бы кто-нибудь подсчитал, сколько надумаешься да напереживаешься, пока какие-нибудь дрожжи или пуговицы несчастные завезешь за сотни километров, о-от…
Он замолчал, положив локти на колени и склонившись низко, по-стариковски. Его рыжеватые волосы торчали из-под шапки, как солома, – в разные стороны. Казалось, он прислушивался к чему-то внутри себя, не слыша, как кашляет на дальнем диване женщина, как приглушенно, но весело разговаривают за дверью красного уголка. А оттуда, из монотонности звуков, порой пробивался только звон упавшей ложки, писк ребенка или хрюканье аккордеона, когда до него случайно дотрагивались.
– А вы когда из наших мест подались? – спросил Колтыпин, выпрямляясь и опять вкручивая голову в шапку, на которую он сильно давил ладонями.
– До начала сорок второго держался, а потом – фронт.
– Та-ак… А мыльца на нашем рынке не приходилось покупать?
– Наверно, приходилось. Уж не ты ли торговал? – спросил Ломов и прицелился насмешливым глазом.
– Я.
– Ну, и где же ты доставал?
– А нигде. Сам делал. Напилишь, бывалочь, деревяшек, обмажешь их сверху мылом и – пошло по дешевке, о-от…
– Постой, постой! Я помню, мне как-то раз такое всучили.
– Деревяшка-то березовая была? – озабоченно спросил Колтыпин и закинул ногу на ногу.
– А черт ее знает!
– Нет, я к тому, что если березовая, то это мое мыло. Я все больше из березы делал, из сырой: по весу как раз подходило.
– Так за что же ты, темна душа, деньги-то драл с людей?
– А я не только деньги, я и на картошку менял и на хлеб.
– Так за что? За что?
– За работу. Думаете, малое этим мылом возни было? Э-э-э! Смотрите: полено без сучков найти надо? Ровненько отстрогать его в брус и точненько напилить надо? А мылом сверху обмазать разве не надо? Надо! О-от…
– Нечестно это, земляк. Нечестно. Порядочные люди так не делают, – наставительно выговорил ему Ломов и отвернулся.
– Так а я разве чего говорю против. Да вы сами посудите, ежели сейчас мне этого делать не надо, так я и не делаю.
– Порядочным человеком надо быть всегда, во всякое время!
– Я этому не учен.
– Ну, тогда и не пеняй, что пришлось слюду да уголек добывать под мерзлотой.
– А я и не пеняю, – миролюбиво ответил Колтыпин, собрав лоб в вертикальные морщины. – Я ведь там по другому делу был.
– По какому же по другому?
– Так по какому? Человека убил, – спокойно ответил Колтыпнн и развел фиолетовыми ладонями.
– Н-ну! Как же так?
– Просто. Много ли человеку надо? Однажды вез я рельсы на своей трехтоночке. Прицеп сзади – все честь честью, а в кузове грузчик спал, как раз у переднего борта лег, чудак. В холодок пристроился. Ну, а когда встречная-то машина двинула мне в левое крыло, а может, я ее – тут толчок был, а рельсы и пошли вперед, да грузчика моего к борту и пришили, беднягу, а мне, тоже пришили на всю катушку, о-от…
– Так его насмерть? – зевнул Ломов и обнажил ряд золотых зубов.
– Сразу. Никаких врачей не потребовалось, бедняге. Один докторишка приоткрыл ему глаз мизинцем и махнул рукой. А парень был – душа-человек, как Петька, бригадир мой. Вот уж сколько лет прошло, а мне чего-то все не по себе как-то…
– Это от чего же?
– Как от чего? Ведь что ни говорите, а человека убил – не шутка…
– Ничего… Случай. Случай – всему голова, – наставительно проговорил Ломов. – Ну, а сейчас на машине?
– Не-е, и близко не подхожу. Теперь я плотничаю – дело нужное и спокойное.
– Бригадиришь?
– Зачем? Да и классов у меня маловато, а в этом деле бухгалтеров надо уметь на чистую воду выводить.
– Э, брат, да ты и верно темный человек. Классов, видите ли, мало!
– Ясно, мало: шесть всего.
– А как же я? Да у меня, скажу тебе по-приятельски, больше твоих классов никогда и не бывало, а человеком был, сам знаешь каким… Ну, конечно, я не скажу, что у меня столько же знаний, сколько у тебя: меня подучивали, но главное в жизни – не классы. В жизни главное – вырасти. А вырасти хочешь – поменьше рассуждай да распоряженья поточней выполняй, построже будь, не мякинься, вот и будешь на виду. Так что э… как тебя?
– Колтыпин.
– Так что, Колтыпин, можешь не сомневаться в моей формуле жизни. Ее, эту формулу, мне большие люди раскрывали. Да-а…
– А по какой же такой формуле вас с Севера-то?..
– Чепуха все! Я, можно сказать, сам уехал. Сейчас, брат, там совсем не то. Скука. Размаха нет, потому как народу стало меньше, а и с теми, что там есть, нянчиться надо: то им то, то это.
– Интересно. Даже посмотреть захотелось, – опять мечтательно проговорил Колтыпин. – Скажите, а барак наш стоит?
– Это который?
– А что у самой овражины стоял.
– Это где в меня камнем бросили?
– Ну да! – обрадовался Колтыпин, не замечая, что Ломов побагровел.
– Школа там теперь.
– Школа? – удивился Колтыпин.
– Да. Для вашего брата открыли, вот до чего докатились!
– А кормежка? – спросил Колтыпин.
– И тут новости. Так что можешь опять туда, как на отдых.
– Да нет уж, спасибо. Для меня главное счастье – семейная жизнь да прогрессивка девятого числа.
– Ну, ну, живи! – отозвался Ломов и потянулся, как кот.
– Живу.
– А сколько у тебя душ?
– Со мной четверо. А вот гляньте! – и с этими словами Колтыпин достал сморщенный бумажник, затем быстро, как будто бросил что-то в рот, лизнул пальцы и вытянул фото.
– О! Это мой сын, Андрюха! А это ее девочка.
– Большая, – заметил Ломов.
– Совсем невеста, и чем дальше, тем больше на Петьку сходит и лицом и всем. А это вот сама. Ничего?
– Ничего. Так, значит, с «приданым» взял? Видать, любишь, а?
– Да чего уж… Стерпелось-слюбилось… Да и посудите: как было иначе, ведь это жена бригадира моего, друга, того самого, что тогда в шахте… Не помните разве?
– Случай, земляк. Случай – всему голова…
– Случай! А что бабе случай? Ей мужика подавай, а коль нет, так ей одна путя – пляс, вот как этим, слышите? – кивнул Колтыпин на дверь. – Да и то сказать, чего им больше остается, если, может, и у них мужики в шахте остались? Случай-то случаем, а вот…
– Ладно философствовать! – сказал Ломов и кинул на спину собеседнику свою большую дряблую руку. – Давай-ка выпьем с тобой, земляк, а то время тихо идет.
– Так это можно, только у меня…
– Да ладно! Я угощаю! У меня тут целый праздничный заряд!
Ломов положил на диван чемодан, щелкнул застежками, но не показал всех припасов и, сунув руки под крышку, отломил на ощупь кусок колбасы и вынул мягкий, но смятый в блин батон.
– Давай! – подмигнул он Колтыпину.
Когда тот принес с бака кружку, Ломов уже держал в руке длинногорлую бутылку.
Первым выпил Ломов и стал неторопливо закусывать. Колтыпин смотрел на него и ждал, когда тот нальет.
– Я вот когда выпью, аппетит у меня просыпается зверский, – сообщил Ломов и подвинул пустую кружку к Колтыпину. – Тебе побольше или поменьше? Как себе? Такой аппетит, что баба моя, бывало, там, на Севере, говорила: тебя легче утопить, чем накормить. Шутила, понятно…
– А она уже в Калуге?
– Нет, – ответил Ломов задумчиво и мрачно. – Она… уехала с Севера раньше. Дура. Теперь небось крутится на семьдесят рублей, а у меня на книжке… Что я, зря вьюгу слушал? Рояль ореховый контейнером пригнал. Квартира будет – блеск! Дура! Пусть-ка теперь покрутится на свою зарплату. Ну, ты давай!
Колтыпин нетвердо взялся за кружку, сморщил свой лоб и, мучительно покусывая губы, выдавил:
– Я вот чего хотел спросить: про тот случай…
– Ну, кидай, кидай! Мало ли их, случаев!
– Спасибо, я сейчас, только скажите: Петьку с ребятами тоже случайно завалило? Только правду, а? – наклонился он и плеснул из кружки на батон, что лежал на крышке чемодана.
– Да ну кидай! Кидай! Да закуси сразу.
– Нет, вы скажите… – мучительно настаивал Колтыпин.
– Случай, земляк, случай, а случай – всему голова…
– Так какой же случай, когда все кричали, что работы продолжать опасно! – с дрожью проговорил Колтыпин.
– Кричать кричали и говорить говорили, а приказа мне свыше не было, и точка!
– Так вы же сами могли отменить работы! – хрипло выдохнул Колтыпин и отодвинулся, все еще держа водку в руке.
– Чудак ты, темна душа, чудаком и умрешь! Для чего я тебя только сейчас жить учил, а? Ты забыл мою формулу жизни? То-то! А мне служба дорога была. Что я без службы? Кем я был без службы? Я, может, хуже тебя был без службы. Людей с поездов сталкивал за мешок картошки, а ты мне такое говоришь! – распалялся Ломов.
Издалека приближался шум встречного поезда, которого пережидал товарный на Калугу. Поезд без остановки прогрохотал мимо, и уже было слышно только слабое почухиванье паровоза да хруп колес, словно за стенкой передвигали тяжелый шкап, а Колтыпин сидел, оцепенев и что-то высматривая в покрасневшем лице Ломова.
– Так вы точно знали, на что шла наша бригада?
– Знал!
– Но ведь там же были люди!..
Вношу поправку, Колтыпин: не люди, а навоз истории! И вообще… Ты что?!
Колтыпин выплеснул водку в лицо Ломова, поднял с пола свой узелок и боком засеменил к выходу.
В открытую дверь было слышно, как вскрикнул паровоз. Он с шипеньем отпустил тормоза, мощно подался назад, и удары, постепенно замирая, дробно передались до самого последнего вагона.
– Гопник! – крикнул Ломов вслед.
Колтыпин глянул из притвора, потом решительно вернулся и стал медленно приближаться. Ломов ждал его, набычась.
Сухонький старичок поднялся, как по тревоге, и сидел, схватившись за голенища валенок и внимательно следя за обоими соседями.
Колтыпин приблизился, чуть склонившись вперед и вцепив свои фиолетовые пальцы в отворот полупальто, словно хотел привязать их, чтобы они не сорвались.
– Ну, назови еще! – прохрипел он со злорадной улыбкой. – Назови, не бойся, я ничего не могу тебе… Ну, назови, мне не обидно. Мне обидно, что тогда, у барака, мой булыжник только скользнул по твоему кочану!
Ломов еще автоматически дожевывал, когда Колтыпин уже хлопнул высокой стеклянной дверью.
Старик встал, держась за диван, и взглянул в незамерзшее у края стекло.
Товарные вагоны уже ползли мимо вокзала. В желтом свете лампочки над входом было видно, как щуплая фигура Колтыпина пересекла перрон и устремилась к поезду на втором пути. Грузовой уже набирал скорость, и какое-то время казалось, что Колтыпин не сможет сесть, но вот он ловко бросил свое легкое тело на площадку за последним пульманом.
– Сел! – радостно воскликнул старичок и хлопнул себя по бедрам.
Ломов сидел все в той же позе, жевал и вытирал бумагой пальто. Но вот он плавно вытянул ноги, посмотрел куда-то сквозь старика и ответил:
– Вот свинья! А ведь он, черт возьми, раньше будет в Калуге.
Ожидание
Присесть было не на что: остаток сена у конюшни, сваленные еще летом бревна, поломанные жерди забора и даже телеги – все было в одну ночь завалено снегом и бугрилось в полумраке рассвета.
«Хозяева!» – сокрушенно покачал головой Ксенофонт Овинин, смолоду прозванный праведником. Он отвернул свое сухое, бескровное лицо от метели и, поняв, что конюх, обещавший прийти пораньше, обманул его, – полез через сугроб к стене конюшни, где не так завивало.
Было еще темно, но деревня уже проснулась. Сквозь плотную метель тускло, как размазанные, светились окошки ближних изб, ветер доносил запахи дыма и чьи-то высокие сорванные голоса – должно быть, на скотном дворе схватились доярки, – но конюшня все еще была заперта. За ее тонкой, срубленной из подтоварника стеной, глухо переступали и осторожно фыркали лошади, словно опасались разбудить свой тяжелый трудовой день. Где-то в середине деревни, за большим прудом, взревел пускач и, сделав свое дело, осекся, остался только приглушенный рокот трактора.
«Проснулся наконец!» – проворчал Ксенофонт и задумался о своем.
Ему представились дрова в лесу, занесенные снегом, и та поляна, и дорога к ней, которые сейчас тоже, по-видимому, занесены. Потом он вспомнил, что метель можно было бы предусмотреть и вывезти дрова вовремя, поскольку еще задолго до этой кутерьмы ломило покалеченную на войне руку, а накануне, когда он выходил по нужде, то почувствовал потепленье, ощутил широкий тугой ветер и угадал над головой низкое небо – беззвездное и тяжелое, какое всегда бывает перед снегопадом. Но ни эта досадная промашка, ни обман конюха, обещавшего дать лошадь получше еще до наряда, недолго огорчали его: на смену пришло какое-то новое, тревожное чувство, словно в открытом поле настигала его гроза…
Это началось еще с осени, когда Ксенофонт случайно прочел в брошенном дачниками журнале – порванном, без обложки – поразившую его статью. Там, на замусоленной странице, на которую жена приноровилась ставить сковороду, холодно и убедительно было написано о том, что в мире голодает половина населения! И приводились какие-то цифры. Эта новость так изумила и встревожила Ксенофонта, что несколько дней он маялся разными воспоминаниями. То виделся ему голод первой империалистической, то гражданской войны, то послевоенная засуха в сорок шестом – такие тревожные и живучие в памяти… Он прожил жизнь и, оглядываясь в прошлое, старался разобраться в нем. Внимательно присматриваясь к людям, стремясь рассмотреть, как они живут, он пришел к выводу, что живут они неправильно: мало работают.
Эти невеселые мысли навалились на него и сейчас, когда он стоял у конюшни и щурился на силуэт водокачки, слабо проступавший из рассветно-снеговой мути… Голод… Неужели он придет? Ему не было страшно, он знал, что протянут они со своей Полиной недолго, и потому все опасения связывал с сыновьями и внуками, живущими по городам, и даже вот с этими лентяями, спящими до третьих петухов… Он понял из журнала, что не от сладкого толстолобые ученые собираются делать еду из всякой всячины, вроде нефти…
– Эй, дядя Ксенофонт! Ты чего тут притаился, как конокрад? Али деда Петра ждешь? Здорово!
– Его, лентяя, болтуна непросыпного! Говорил, приди поране, а сам дрыхнет. Марья умерла, теперь некому с печки стаскивать. Здорово, Сашка!
Подошедший был совсем молодой парень, недавно вернувшийся из армии – добродушный, вечно улыбающийся и уже пристрастившийся к водке. Он стоял по ту сторону сугроба, прямой, тощий, в сдвинутой на затылок мятой шапке, в распахнутой фуфайке, всего себя подставив осатаневшей метели… Ксенофонт посмотрел на расстегнутый ворот его рубахи, где матово белела грудь, и поежился.
– Иди сюда, озябнешь! – позвал он Сашку.
Тот охотно перелез через сугроб и стал сразу же выгребать снег из-за голенищ валенок, улыбаясь своей постоянной, неглупой, но какой-то вымученной улыбкой, как будто он смеялся над собой.
– Все пьешь? – укорил его Ксенофонт, почувствовав запах.
– Ага! – радостно ответил тот.
– Почто?
– Государству помогаю: оно на мне держится!
– Как бы не на тебе! Государство – это хозяйство, а какое хозяйство на пьяницах да на блаженных стояло, а? То-то! Вот у тебя сейчас ни дров ни дровины, ни мяса ни мясины. Верно?
– Верно, – согласился Сашка.
– А отчего это?
– Так я же не кулак!
Ксенофонт с минуту смотрел на парня, сокрушенно покачивая головой, и лишь потом проговорил со вздохом.
– Эх, парень, парень! А я думал, тебе в армии ума дали. Нет! Как надули дураку в уши – так и осталось все, и знать больше ничего не желает. Ишь, к идеям каким пошел без порток-то! Уж не конюх ли Петр тебя направил по этому пути-перепутью? А то ведь он только это и может. Он всю жизнь заплаты людям показывал, с той самой поры, как они в моду вошли, да гордился, что бедняк. Все по сельсоветам терся, незаработанное пропивал да к власти лез этакой-то сукин сын! Таким людям, Сашка, болтовня одно спасенье. Им ведь никого и ничего не жалко, им ведь и землица-то наша, Россиюшка-то, мачехой приходится. Они и вашего брата, молодежь, с толку сбивают. Мы власть брали не для того, чтобы во рвани ходить да голодом сидеть. Раньше бедняк – это несчастный класс, а ныне – лодырь, мусор последний, и гордиться тут нечем! Вся суть жизни, Сашка, в труде, а ты дурак – с чужой головы живешь.
– А может, и не дурак, – оскалился парень.
– Это как смотреть! Ты не дурак, раз понял, что можно на государственной шее прожить, работать не работаешь, а получку получаешь, ждешь ее в свой срок, знаешь, что в совхозе не дадут с голоду подохнуть, все выпишут сколько-нибудь.
– Я работаю – корма вожу, – возразил Сашка.
– Какая это работа! – махнул рукой Ксенофонт и вытер мокрое от снега лицо концом шарфа. – Поработал бы, как нам приходилось! Или вон мою Полину спроси, как она в колхозе ломалась за сто грамм ржи, да еще свое хозяйство вела, трех парней растила-блюла, как спать – не знала. Мы, уцелевшие, с фронта пришли, колхоз подлатали, а вы сейчас и совхоз-то разламываете.
Сашке хотелось возразить, но он вспомнил, как Ксенофонт работал вместе с ним на покосе, перед выходом на пенсию, и замолк с неловкой улыбкой. Тогда Ксенофонт выкосил, высушил и сдал в колхоз семь тонн сена – вдвое больше других, а по осени еще себе натяпал по кустам на корову. Сашке вспомнилось то лето, большой луг на дальнем покосе, весь выкошенный этим жилистым стариком, и он остался доволен тем, что не возразил. Тогда Сашка спросил у Ксенофонта, зачем он так ломается, все равно, мол, получит шиши, и старик, помнится, шикнул: «Не трави душу, сопляк! Я иначе не могу работать, не учен иначе!»
– Ежели ты, Сашка, не дурак, то лодырь – это точно, а за лодыря ни одна порядочная девка не пойдет.
Ксенофонт замолчал, и если бы Сашка посмотрел в ту минуту в его глаза, то увидел бы в них горький, живой огонек. Ксенофонт вспомнил молодость…
После гражданской вернулись Петр и Ксенофонт в свою деревню. Петр пустился сразу свою невесту Полину обхаживать. А гулял он весело, задорно, да и красив был этот прибауточник. Девки в одну зиму столько от него наслушались, что хватит до старости детей потешать. Гулял и Ксенофонт, но гулял между делом, поскольку дом-гнилуху заново перестраивал, землю в толк приводил. Около двух лет парень недосыпал, недоедал и вошел, наконец, в свой, своим топором срубленный дом. Вскоре после уборочной, на деревенском гулянье выпил Ксенофонт и при всем честном народе сказал Полине, тогда еще невесте Петра: «Загляни в мой терем, Полинушка, может, понравится». Любил он девку, а она как вспыхнет, да и скажи, не подумав: «А что мне терем? Мне хоть под крыльцом да с молодцом!» А тут и Петр подлетел в буденовке, но только поймал его Ксенофонт за руку и в лицо тому: «Ты меня в бою видел? Так отойди! Не нам это решать – ей!» Прошла зима, и умная девка рассмотрела, за кого ей замуж идти. Поняла, что прискучат шуточки Петра и сыта ими не будешь, а за работящим Ксенофонтом можно жить как за каменной стеной, да и нравился он ей не меньше Петра. А на следующую осень вошла Полина в дом Ксенофонта хозяйкой. На свадьбе обиженный Петр в пляске горе стряхивал и бил буденовкой об пол, пока Ксенофонт его не одернул: «Сними, не позорь нашу форму. Эта шапка хороша, когда ты на коне, а не на четвереньках!»
Все это вспомнилось Ксенофонту, и он рад был этому, но посмотрев на Сашку, нахмурился:
– Чего ухмылку-то состроил? Ни одна, говорю, не пойдет девка за тебя, а пойдет – покается. Ты уж лучше не женись и нищету не разводи, раз до работы не горазд, да и пьешь.
– Да я разве много пью?
– Ты совсем брось и человеком когда-нибудь станешь. Ведь мне, Сашка, наплевать на тебя, я просто хорошего хочу, потому и говорю: отстань от этого, не пей. И рожа-то у тебя что у старика сделается – обмякнет вся, и в штанах толку не будет… Да ты посмотри на Петра, он на два с лишним года меня моложе, а ведь ты его дедом зовешь.
– А и верно, дядя Ксенофонт! – удивился Сашка.
– А ведь он не переломился в работе, всю жизнь отлынивал от косы да от плуга.
Незаметно стало светлеть. Метель поредела, и водокачка вырисовывалась уже совсем отчетливо, близко. Темным брусом обозначился среди снежного марева приземистый коровник, и запятнились в синей рани ближние избы.
– Скоро, скоро… – задумчиво проговорил Ксенофонт.
– Что скоро, дядя Ксенофонт?
– Голод, Сашка. Голод придет.
– Откуда?
– Эх, Сашка. Сашка!.. Ну как тебе объяснить? Вот был я недавно в Москве, глянул раз сверху вниз в метро – в глазах помутилось: голов людских что гороху в мешке. Иной раз вспомнишь – и не верится, что все делом заняты, но ведь всех, Сашка, кормить надо, они же живые! А кому кормить? Вот мы скоро все перемрем, а на вас надежа плоха. Вот тебе и голод. Об этом уж везде пишут, – добавил Ксенофонт.
– Ничего! За нас машины вкалывать будут!
– Дурак ты, Сашка, и уши твои холодные! Машина-то человеческой душой жива, своей-то у нее нету, а если у тебя душа к земле не лежит, так у машины и подавно. Машин-то всяких наделают – это точно! И автомобилей – тоже. Вот и будет ваш брат кататься на них в модных одежах да с пустым брюхом, будет искать, где бы обменять свою машину на кусок мяса. Голод, давно известно, – не тетка! Он уж и сейчас полмира ломает. Он ведь все чистит, все выдумки заставит забыть…
Сашка молчал, соображая что-то.
– А отчего это, дядя Ксенофонт? Народу стало много, что ли?
– Нет, Сашка. Просто люди не с той стороны за жизнь ухватились. Да-а… Скоро, скоро докатимся в дремоте-то.
За углом послышались голоса.
– Идут! – воскликнул Сашка и первым перелез через сугроб.
К дверям конюшни подошли еще два возчика кормов, а следом за ними приплелся и сам конюх Петр. Невысокий, рыхлый и сгорбленный, он был похож на отсыпанный мешок ржи, и уже ничто не напоминало в нем прежнего ухаря, даже озорные с просинью глаза его потухли и слезились из-под заснеженной шапки. Заметив Ксенофонта, он виновато засуетился и торопливо снял замок. Железная планка громыхнула о косяк, и Петр распахнул двери.
– Заходите, коль здесь покупали! – воскликнул Петр и так же, с озорством, поклонился. – А если кошелек оставили – то это рядом, рядом, рядом!
«Все такой же пустомеля», – подумал о Петре Ксенофонт и последним вошел в конюшню.
В ноздри пахнуло крепким запахом неубранного навоза, конского пота и сыромятной упряжки.
– Покурим! – крикнул Сашка и сел на валявшийся хомут.
Остальные, во главе с конюхом, сели в кружок на корточки и задумчиво курили, лениво упрекая Петра, что до сих пор не вытащил сани и не подготовил их.
– Так я разве знал, что сегодня столько снегу навалит? – оправдывался конюх и сразу сменил разговор, крикнув Ксенофонту: – Эй! Праведник! Иди покурим!
Ксенофонт не курил уже лет шесть, но подошел и спросил конюха в упор:
– А ты словно не знаешь, что зима на Руси в одну ночь ложится! Смех! Забыть про сани в декабре, когда их надо летом готовить!
– Да вытащим сейчас, дай покурить! – отмахнулся Петр и добавил: – Век свой прожили без праведников и еще проживем!
В распахнутой на рассвет двери показалась фигура управляющего отделением.
– Эй, куряки! Фуражир к весам подошел, давайте поторапливайтесь! Расселись тут…
Управляющий выругался для порядка, стряхнул снег с ворота и плеч, стукнул шапкой по колену и тоже достал папиросу.
– Вот так-то лучше. Успеется еще! – сказал Петр и поднес управляющему спичку.
Управляющий был молод, учился заочно. В управлении, посылая сюда, сказали: «Поработай пока…» И он работал.
– С холодком работаете, – не поддавался управляющий, не подымая, впрочем, глаз от валенок Сашки.
– А мы и всегда так: живем прохладно, нет ничего – и ладно! – тотчас ответил Петр.
Все засмеялись.
– Какую дашь? – спросил Ксенофонт Петра, потеряв терпение.
– Бери серого, – не оборачиваясь, ответил тот.
– Так ведь он хромой!
– Ну, Звездочку бери, других не дам: работать пойдут.
Ксенофонт молча отвязал низенькую черную лошаденку с белым пятном на впалом лбу, и она послушно пошла за человеком в угол конюшни, где в общей куче валялись хомуты, вожжи, седла.
– Эй, Петр! Дуги где?
Конюх, увлеченный разговором, лишь махнул рукой в другой угол конюшни.
Ксенофонт вышел из конюшни под навес, где тоже было много снега, вытащил сани и лишь потом вернулся за лошадью. Он выводил лошадь мимо курящих.
– Не, не! Ни в жизнь не пойду! Баб посылай! В ту получку выписал мне – кошкины слезы! – упирался пожилой возчик, из новых, и отворачивался от управляющего, отмахиваясь. – Этакую далищу ехать бурт открывать за такие копейки – не пойду! В ту получку выписал мне…
– И мне столько же, – с улыбочкой вставил Сашка.
– А я что сделаю? – развел руками управляющий и покосился на приостановившегося Ксенофонта. – Сам знаю, что побольше бы не мешало.
– Мало, мало платишь, – вставили другие.
– Сам знаю, что мало вам платят, ну, а я тут…
– Много вам платят! – громко сказал Ксенофонт и повел лошадь на улицу.
Последние жидкие сумерки побледнели. Стали отчетливо видны не только ближние строения, но и вся лощина, в которой прикорнула деревня, и черная, дымящаяся в белых берегах быстрая река, а за ней, на востоке, темным наволоком обозначился лес, над неровной кромкой которого уже проступил и наливался робкой, неприкаянной белизной короткий декабрьский день.
Ксенофонт перекинул дугу, четко клацнул колодкой хомута, ловко вправил железные звенья мундштука в теплый бело-розовый рот лошаденки и пристегнул вожжи. Затем, подойдя к занесенному сену и расшаркав ногой снег, он достал охапку и бросил ее в передок саней. Он торопился, но, уже стоя в санях с намотанными на руку вожжами, терпеливо ждал, пока поперек его пути, кряхтя и горбатясь, не пройдут в школу четверо закутанных школьников.
«Первушата… – ласково подумал Ксенофонт и тут же с тоской прошептал. – Сердешные… Скоро, скоро… Молочко-то будете пить, которое сделают вам из глины, а мясо и масло – из нефти. Ох-ти-хти!..»
Он опустился на колени и тронул лошадь.
– Эй, праведник! – выбежал из конюшни Петр. – Одолжи до получки! Слышь?
– Тпррр-у! Чо?
– До получки…
– Зайди к Полине, спроси! – нехотя ответил Ксенофонт, приподняв лицо над воротом полушубка, и хлестнул лошадь.
«Только могила исправит», – убежденно решил он и еще раз оглянулся.
Конюх топтался по колено в снегу и щурился на спокойную спину Ксенофонта, а на пороге конюшни, в тонком облаке пара стоял Сашка и задумчиво жевал потухшую папиросу.








