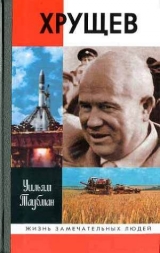
Текст книги "Хрущев"
Автор книги: Уильям Таубман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 69 страниц)
На взгляд Хрущева, гости Гарримана выглядели как «типичные капиталисты, но отнюдь не фигуры со свиноподобными физиономиями, как изображали их на наших плакатах времен Гражданской войны». Коктейль на американский манер Хрущеву понравился: «Прием был не за столом: в большом зале люди сидели или ходили и беседовали друг с другом». Однако не понравилось, что «в зале плавал табачный дым». Сквозь этот дым «многие подходили ко мне и перебрасывались фразами. Велось прощупывание: что это за человек? С чем он приехал?» 110
Желая отойти от уже сложившейся схемы, Гарриман предложил Хрущеву не отвечать на вопросы, а самому спрашивать о том, что его интересует. Однако Хрущев твердо решил не выказывать чрезмерного интереса к капиталистической жизни, а кроме того, опасался, что гости Гарримана начнут его «поучать». Когда выяснилось, что они также не намерены выслушивать лекции и не собираются давить на Вашингтон ради развития торговли с СССР, Хрущев распрощался с хозяином и гостями и вернулся в «Уолдорф», где его ждал торжественный ужин с еще одной группой бизнесменов.
В большом зале нью-йоркского Экономического клуба собралось почти две тысячи человек: дополнительные столы были установлены даже на балконе соседнего бильярдного зала. Хрущев произнес довольно мягкую речь о пользе торговли и мирного сосуществования; однако, когда настало время отвечать на вопросы, первый же интервьюер, издатель журнала «Лук» Гарднер Коулз, поинтересовался, как соотносится идея мирного сосуществования с советским догматом о неизбежной победе коммунизма. Хрущев принялся разъяснять Коулзу хитросплетения марксистской диалектики, но с балкона послышался крик: «Это не ответ на вопрос!» Когда Хрущев ушел от ответа на вопрос о том, почему граждане СССР не могут читать американские газеты и слушать «Голос Америки», снова раздались возгласы: «Отвечайте на вопрос!»
«Бросались, как львы на решетку», – вспоминал позже Хрущев. А тогда он ответил: «Если не хотите меня слушать – хорошо. Я – стреляный воробей, вы меня криками не запугаете. Не хотите слушать – могу уйти. Я в США приехал не милостыню просить. Я представляю великое Советское государство» 111.
Расписание визита предусматривало автомобильную поездку в здание «Эф-ди-ар» в Гайд-парке, визит в Эмпайр-стейт-билдинг, беседу с губернатором Нельсоном Рокфеллером и появление в ООН. По дороге в Гайд-парк Хрущев выглядел недовольным. Он признался Лоджу, что «не знает, как оценить» ужин в Экономическом клубе: речь ему удалась, а вот вечер в целом определенно не удался 112.
19 сентября Хрущев и его спутники встали до рассвета, чтобы по дороге в аэропорт осмотреть Гарлем и прибыть в Лос-Анджелес до обеда. Долгий жаркий день («в Лос-Анджелесе пекло, как в Сахаре», – вспоминает Лодж) окончился речью Хрущева, произнесенной около полуночи. К этому времени советский руководитель едва держался на ногах от усталости.
В аэропорту советскую делегацию встречали мэр и другие высокопоставленные лица. Помощник мэра Виктор Картер, русский эмигрант, которому было поручено сопровождать Хрущева, говорил по-русски «с заметным акцентом, примерно так, как говорят евреи, живущие в СССР», вспоминал Хрущев. Узнав, что Картер вырос в Ростове, где до 1917 года жили лишь богатые евреи, Хрущев заключил (и сообщил Лоджу), что отец его, должно быть, был богатый торговец, один из тех, с кем Красная Армия, в рядах которой воевал в окрестностях Ростова сам Хрущев, «не успела разобраться после революции» 113.
За обедом в «Кафе де Пари» на студии «XX век Фокс» собрались сливки Голливуда – Керк Дуглас, Фрэнк Синатра, Гэри Купер, Элизабет Тейлор. Рональд Рейган от приглашения отказался. Мэрилин Монро, которую организаторы попросили надеть «самое обтягивающее и сексуальное платье» и оставить дома мужа, потом рассказывала горничной: «Я определенно понравилась Хрущеву. Когда нас знакомили, мне он улыбался намного шире, чем всем остальным…» 114
Обед оплачивала компания «Фокс» 115. Поэтому роль хозяина приема играл Спирос Скурас, киномагнат греческого происхождения; в своей речи он решил объяснить высокому гостю, что такое американская мечта на собственном примере, поведав, как он выбился из нищеты. «Словом, – умозаключали авторы книги „Лицом к лицу с Америкой“, – его речь строится по тому самому кем-то и где-то определенному плану: во что бы то ни стало переспорить, переспорить Н. С. Хрущева!» После обеда слово взял Хрущев. К этому времени, вспоминает Лодж, «от жары, вызванной погодой, низким потолком в помещении и обилием прожекторов, находиться в зале стало почти невыносимо» 116. Тем не менее Хрущев был полон решимости переиграть Скураса. «Я начал работать, как только научился ходить. До пятнадцати лет я пас телят, потом овец, а потом коров у помещика… Потом работал на фабрике, принадлежавшей немцам, а потом – в шахте, принадлежавшей французам… а теперь я – премьер-министр великого Советского государства».
– Так мы и знали! – крикнул кто-то.
– И что с того? – воскликнул в ответ Хрущев. – Я своего прошлого не стыжусь!
Раскрытие своих скромных корней перед голливудскими знаменитостями, по всей видимости, принесло Хрущеву двойственные ощущения – и стыд, и удовлетворение. Он собирался, сообщил он слушателям, произнести «короткую и не слишком эмоциональную речь» – однако «не могу молчать, когда кто-то наступает на мою любимую мозоль, пусть и через ботинок» 117.
В Диснейленд Хрущева не пустили, заявив, что полиция Лос-Анджелеса не может гарантировать его безопасность, если только дирекция не согласится на время посещения советской делегации закрыть от посетителей весь огромный парк. Советская служба охраны согласилась с американцами, но это не смягчило удар 118.
С мезонина, выходившего на съемочную площадку номер 8 киностудии «Фокс», чета Хрущевых наблюдала съемки фильма «Канкан» с участием Фрэнка Синатры, Ширли Маклейн и Мориса Шевалье. Не выдержав, Хрущев спустился вниз: поначалу он широко улыбался, затем, спохватившись, постарался принять вид сурового достоинства. Телекамеры канала Кей-ти-эл-эй запечатлели его рядом с танцовщицами: выглядит он очень довольным. Однако фотографам, которые попросили одну из девушек приподнять юбки, Хрущев сделал выговор: «У нас в Советском Союзе мы привыкли любоваться лицами актеров, а не их задами» 119. На следующий день во время бурной встречи с лидерами профсоюзов Сан-Франциско, когда разговор перешел на повышенные тона, Хрущев встал, повернулся к собеседникам задом и, подняв полу пиджака, изобразил канкан. «Вот что у вас называется свободой – свобода показывать задницу! А у нас это называется порнографией!» 120
«Она стояла рядом со мной, – вспоминал Хрущев, – и, видимо, тот тип просто хотел получить более пикантный снимок… Мы не привыкли к такому жанру и считали его непристойным. Почему же я на этом должен фокусировать свое внимание?.. Фотографию же мы, кажется, получили» 121. Раз Хрущев не отказался от «непристойной» фотографии – возможно, она не так уж его возмутила. Во всяком случае, у переводчика из Госдепартамента США Александра Акаловского, находившегося в это время рядом с Хрущевым, сложилось впечатление, что советский лидер «был в полном восторге» 122.
Поскольку с Диснейлендом ничего не вышло, советская делегация убивала время до ужина, по его словам, практически бесцельно катаясь два часа по пригородам Лос-Анджелеса в бронированном «кадиллаке» 123. В какой-то момент они заметили на тротуаре женщину, одетую в черное, с черным флагом и плакатом: «СМЕРТЬ ХРУЩЕВУ, ПАЛАЧУ ВЕНГРИИ!»
– Если Эйзенхауэр позволяет меня оскорблять, – раздраженно заметил Хрущев, – зачем он вообще пригласил меня в Соединенные Штаты?
– Неужели вы думаете, что этот протест согласован с президентом? – возразил Лодж.
– В Советском Союзе эта женщина могла бы появиться на улице только по моему распоряжению, – ответил Хрущев, едва ли понимая, насколько саморазоблачительно звучат его слова.
Эта встреча усилила его дурное расположение духа: Хрущев ворчливо заметил, что ничто в США его не удивило и не потрясло – он прекрасно знал, с чем здесь столкнется. Его разведка сообщает обо всем, что происходит в Соединенных Штатах, даже о конфиденциальных посланиях Эйзенхауэра к главам других государств. Лодж, «наверное, и не знает», что во время китайско-индийского пограничного конфликта Эйзенхауэр направил секретное послание Неру. А он, Хрущев, не только знает, но и может «сделать для вас копию». Что же касается «мистера Аллена Даллеса» – Хрущеву приходится просматривать столько его «писанины», что, «право, иногда думаешь, лучше бы какой-нибудь хороший роман почитать» 124.
В тот же вечер сливки Лос-Анджелеса собрались в бальном зале отеля «Амбассадор». «Обстановка была парадной, – писал позже сам Хрущев, – столы накрыты, зал нарядно убран, горели свечи». Справа от него сидела женщина средних лет, которая, «видимо, была как раз человеком богатым и обладала крупным капиталом, иначе не смогла бы попасть туда». Высказывалась она «по-доброму и в адрес делегации, и в мой лично», вспоминает Хрущев, однако «хотела посмотреть на гостя, как на экзотического медведя из России, где их по улицам водят. Ее удостоили сидеть с ним рядом, а он почему-то не рычит» 125.
Хрущев и так был не в лучшем расположении духа, и мэр Лос-Анджелеса Норрис Поулсон, несомненно, совершил большую ошибку, в своей «приветственной» речи напомнив о его пресловутой фразе: «Мы вас похороним». «Вам не удастся нас похоронить, господин Хрущев, – предупредил мэр, – и не стремитесь к этому. Если будет нужно, мы будем сражаться насмерть» 126.
«Я возмутился, – вспоминал Хрущев. – Поскольку речь его адресовалась мне, я имел право сделать вид, что я не понял. Но решил демонстративно отреагировать и дать ему публично отпор, чтобы объясниться тут же» 127. Начал он так: «Вы знаете, что я приехал сюда с добрыми намерениями, но некоторые из вас, по-видимому, не относятся к этому всерьез». Возможно, кому-то он сам и его делегация представляются «бедными родственниками, приехавшими просить миpa». Может быть, его сюда пригласили, чтобы «„поставить на место“, показать… силу и мощь Соединенных Штатов, чтобы… колени подогнулись». Если так – его здесь ничто не держит. В конце концов, отсюда до СССР всего десять часов лету 128.
По залу пробежал шепоток ужаса – слишком уж реальными выглядели угрозы Хрущева. Позже, у себя в роскошном «президентском» номере отеля, Хрущев сбросил пиджак и, собрав вокруг себя семью и помощников, принялся обсуждать с ними прошедший ужин. «Он не скупился на резкие фразы, – вспоминает Сергей Хрущев. – Временами голос его повышался до крика; казалось, ярость его не знает границ». Наконец он встал, смахнул пот со лба и приказал Громыко «идти к Лоджу и передать ему все, что я сейчас сказал».
Было уже далеко за полночь. Лодж диктовал ежедневную телеграмму Эйзенхауэру о событиях этого дня, когда к нему в номер постучался Громыко – в пиджаке и брюках поверх кальсон, растрепанный и явно смущенный. Нет сомнений, что он не стал передавать Лоджу послание своего патрона слово в слово 129.
Позднее Хрущев объяснял свое поведение так: «Я-то как раз держал свои нервы в руках и просто выражал возмущение для ушей хозяев. Я ведь был убежден, что там поставлены подслушивающие аппараты и что Лодж, расположившийся в той же гостинице, слушает меня в своем номере» 130.
То, что казалось «взрывом эмоционального человека», на самом деле представляло собой «холодный расчет», подтверждает Сергей Хрущев. Но если так, почему, когда Громыко отправлялся к Лоджу, его жена Лидия умоляла его: «Андрюша, будь с ним повежливее!» – а потом бросилась искать для Хрущева валерьянку? И чего «испугалась» дочь Хрущева Рада? 131
Конечно, Хрущев хорошо понимал, что делает; но трудно сомневаться и в том, что он действительно испытывал гнев – гнев не только на американцев, но и на свой собственный промах. В конце концов, неудачная фраза «Мы вас похороним», которую теперь швыряли ему в лицо, действительно принадлежала ему. Это подтверждает и Аджубей: по его словам, «после всех многочисленных объяснений Хрущеву вновь навязывали эту тему, спекулировали на его оплошности – вот как он это понял» 132.
Приступ ярости Хрущева принес некоторый положительный эффект: правда, на следующее утро никто из лос-анджелесской администрации не явился на вокзал его проводить, но само путешествие поездом до Сан-Франциско прошло как нельзя лучше. «Мы решили организовать ваш маршрут по образцу поездок кандидатов в президенты», – объяснял Лодж. Так оно и получилось. В Санта-Барбаре и Сан-Луис-Обиспо «кандидат» целовал детей, любезничал с дамами, пожимал руки мужчинам и сиял улыбкой при аплодисментах толпы. «Видите, простым американцам я понравился! – гордо говорил он Лоджу. – Не нравлюсь я только ублюдкам из окружения Эйзенхауэра». Когда поезд проезжал мимо Ванденберга и из окон открылся вид на базу ВВС США, Хрущев воспринял эту «провокацию» совершенно спокойно – а потом «по секрету» сообщил журналистам, что «у нас таких баз больше, чем у вас, да и оборудованы они лучше» 133.
Ко времени, когда поезд достиг Золотых Ворот, мэр Поулсон остался для Хрущева лишь забавным воспоминанием. «Хотел пукнуть, да только штаны обмарал», – заметил о нем Хрущев Лоджу 134.
Мэр Сан-Франциско Джордж Кристофер встретил высокого гостя куда гостеприимнее, чем его лос-анджелесский коллега 135. Запланированные мероприятия – в том числе посещение завода «Ай-би-эм» и торжественный банкет – прошли как нельзя лучше, хотя директор «Ай-би-эм» Томас Уотсон, выполняя рекомендации, полученные из Вашингтона, старался не улыбаться в ответ на шутки гостя. Хрущев совершенно успокоился и даже позволил себе выразить восхищение – не компьютерами «Ай-би-эм» (компьютеров, сказал он, и у нас хватает), а сияющими пластмассовыми покрытиями на столах в заводской столовой, так не похожими на вечно серые и заляпанные скатерти в заведениях советского общепита. «Смахиваешь крошки, протираешь тряпкой – и стол снова чистый!» – восторгался Хрущев 136.
Единственным мероприятием, прошедшим не совсем гладко, стала встреча с президентом Объединения рабочих автомобильной промышленности Уолтером Рейтером и другими профсоюзными лидерами. Когда Хрущев обвинил Соединенные Штаты в эксплуатации других стран, ему ответили, что он сам эксплуатирует восточногерманских рабочих. «Имеете ли вы право говорить от лица рабочих всего мира?» – поинтересовался Рейтер. «А вы какое имеете право совать нос в Восточную Германию?» – отвечал Хрущев.
Собеседники заговорили на повышенных тонах, перебивая друг друга и перескакивая от темы к теме. «Болтаете такую чепуху – и уверяете, что представляете рабочих! – восклицал Хрущев, обращаясь к главе профсоюза портовых грузчиков Джозефу Каррену. – Что у нас здесь – дискуссия или базар?»
– Вы, кажется, боитесь моих вопросов? – съязвил Рейтер.
– Ни черта я не боюсь! Велика вы птица – вас бояться! – презрительно отвечал Хрущев 137.
И много лет спустя Хрущев оставался в обиде на Рейтера. «Этот человек предал классовую борьбу, – писал он, – он боролся за свою выгоду, а не за победу рабочего класса». На Хрущева произвел самое невыгодное впечатление председатель союза пивоварных рабочих, «старый и, похоже, выживший из ума», с золотыми часами на обеих руках; всю встречу он «пил пиво, лил его в себя, как в бочку, поедал абсолютно все, что лежало на столе», и производил впечатление «мещански ограниченного человека, с которым вести какие-либо разговоры бесполезно». Встреча с профсоюзными лидерами не была публичной (хотя впоследствии американцы опубликовали стенограммы выступлений), так что Хрущев позволил себе выпустить пар, не опасаясь реакции широкой публики. Как ни парадоксально, «предательство» американских рабочих он воспринял куда спокойнее, чем презрение могущественных капиталистов.
Из Сан-Франциско Хрущев отправился в Айову, на ферму к Росуэллу Гарсту. Журналисты осаждали Гарста и его гостя, не давая им покоя даже на кукурузном поле: кончилось тем, что взбешенный Гарст начал швырять в толпу репортеров кукурузными початками. Оттуда Хрущев вылетел в Питсбург, а затем, 24 сентября, вернулся в Вашингтон, чтобы отправиться оттуда в Кемп-Дэвид, где должно было определиться дипломатическое значение его путешествия.
25 сентября, в пятницу, после полудня, оба лидера великих держав вылетели на вертолете в Мэриленд. Эйзенхауэр был простужен и чувствовал себя «паршиво». Хрущев, плохо спавший прошлой ночью, с наслаждением вдыхал прохладный воздух Кейтоктинских гор. Поужинали ростбифом с красным перцем; затем Эйзенхауэр показал гостю документальный фильм о Северном полюсе, отснятый с американской ядерной подводной лодки «Наутилус» – несомненная «шпилька», пусть и не такая грубая, как демонстрация фильмов о ядерных взрывах, которую устроил Хрущев для Тито. В полночь, пожелав друг другу спокойной ночи, оба политика разошлись по своим спальням.
На следующее утро Хрущев поднялся рано, надел брюки и вышитую украинскую рубашку и вместе с Громыко отправился прогуляться по лесу, а заодно обсудить тактику переговоров (говорить об этом в помещении он опасался, предполагая, что там имеются подслушивающие устройства). За обильным завтраком с Эйзенхауэром в Аспен-Лодж в 8.15 утра советский руководитель много и оживленно рассказывал о своих военных приключениях, но почти ничего не ел. Позже он пожаловался Джону Эйзенхауэру на свои больные почки и другие недомогания 138.
В 9.20 оба лидера и их ближайшие помощники начали обсуждение германской проблемы. Хрущев сразу заявил, что главная проблема – не в Берлине. Да и формального признания ГДР от Соединенных Штатов тоже не требуется. Им достаточно подписать с Западной Германией мирный договор, а СССР подпишет такой же договор с обеими Германиями. Эйзенхауэр отвечал столь же уступчиво: Соединенные Штаты не станут возражать против подписания Москвой договора с обеими Германиями, «если мы получим гарантию, что это не изменит нашего положения в Берлине». Однако Хрущев назвал это условие «неприемлемым». Он может гарантировать лишь то, что, став «вольным городом», Западный Берлин останется «мирным и процветающим». Но, возможно, стоит заключить промежуточное соглашение, которое «снимет с повестки дня берлинский вопрос, не нанося ущерба престижу США».
Хрущев напомнил Эйзенхауэру о происходящих в СССР реформах. Настойчиво, но не повышая голоса, он перечислил вопросы, по которым нынешнее правительство «изменило курс, принятый Сталиным», напомнил об отставке Молотова и других консерваторов, о повороте во внутренней политике и закрытии лагерей. И вот теперь он, лидер-реформатор, облеченный народным доверием и поддержкой, приехал в США, «чтобы улучшить отношения между нашими двумя странами, а также с вами лично». Слишком долго переговоры по ключевым вопросам – таким, как разоружение – «не сходили с мертвой точки». Что касается германской проблемы – до сих пор, когда о ней заходила речь, США смотрели на Советский Союз «свысока». Настало время для прорыва: именно стремясь к прорыву, советское правительство установило для решения берлинской проблемы временной срок.
После этой пространной и, по-видимому, искренней речи Эйзенхауэр предложил сделать получасовой перерыв. Хрущев пригласил президента прогуляться, но Эйзенхауэр отклонил предложение: «погода сегодня не слишком хороша», а он все еще чувствует себя больным и хотел бы использовать перерыв для посещения врача 139.
После перерыва, за столом для игры в бридж в углу террасы, Эйзенхауэр представил своему собеседнику проект «постоянного консультационного механизма», включающего в себя регулярные саммиты и встречи министров иностранных дел – не только по Германии и Берлину, но и по многим другим вопросам. Предварительным условием для таких встреч являлся «отказ от односторонних действий, способных нарушить процесс мирных переговоров» 140.
Хрущеву это предложение не понравилось. Что же получается – «ничего нельзя будет сделать, пока министры иностранных дел не покопаются в своих архивах»? Ведь это означает, что «решение проблем будет отложено лет на десять – пятнадцать, а то и навсегда». Говоря попросту, президент требует, чтобы Советский Союз не подписывал мирный договор с Германией. И кто же теперь ставит «ультиматум»?
Реакция Хрущева была понятна и объяснима, хотя и довольно наивна по форме. Да, ему нужен был «прогресс» по берлинскому вопросу – но кто сказал, что Эйзенхауэр обязан идти навстречу его желаниям? В конце концов, заметил президент, если он даже согласится по истечении какого-то срока уйти из Берлина, ему «придется немедленно выйти в отставку», ибо «это предложение неприемлемо для американского народа».
Собеседники помрачнели, хотя никто не повышал голоса. За обедом Никсон, желая снизить напряжение, спросил, как предпочитает охотиться Хрущев – с винтовкой или с ружьем. Вице-президент не знает, о чем говорит, раздраженно отвечал советский лидер: на птиц охотятся только с ружьем, на лосей и оленей – только с винтовкой. Досталось и Громыко, которого Хрущев обвинил в том, что тот «в магазине покупает» уток, которыми потом хвастает как своей охотничьей добычей. Громыко возразил: его жена бывала с ним на охоте и видела, как он стрелял уток, – на что Хрущев ответил, что и жене его не доверяет 141.
Эйзенхауэр поспешил перевести разговор на другую тему: пожаловался, что ему и во время отпуска докучают беспрерывными телефонными звонками, спросил, как с этим обстоит дело у Хрущева. Тут Хрущев, «совершенно разъярившись, объявил, что у него на даче телефоны установлены даже на пляже, где он купается, и что он может нас заверить, очень скоро в СССР телефонов станет больше и они будут лучше, чем в Америке» 142.
Хрущев готов был взорваться. Эйзенхауэр, вспоминает советник Белого дома по научным вопросам Джордж Кистяковски, «был очень сердит и с трудом держал себя в руках». Громыко и его помощники «сидели с каменными лицами» 143.
После обеда президент отправился вздремнуть. Хрущев тем временем мрачно мерил шагами сад. Выйдя из дому около четырех часов дня, президент пригласил гостя посетить его ферму в Геттисберге. В президентском вертолете «все были погружены в уныние, – писал позднее Кистяковски. – Было чувство, что переговоры закончились полным провалом и скорее ухудшили, чем улучшили отношения между двумя странами» 144.
Но Геттисберг помог разрядить напряжение. Хрущев восхитился домом Эйзенхауэра («дом богатого человека, но не миллионера»), его скотом (одного бычка президент попросил «прямо здесь и сейчас» принять в подарок) и его внуками (которых Хрущев пригласил в СССР вместе с дедом). В половине седьмого, когда оба лидера вернулись в Кемп-Дэвид на коктейль и ужин, Хрущев казался «куда более спокойным и довольным» 145.
Однако на следующее утро после завтрака все началось сначала. Заместитель госсекретаря Дуглас Диллон заверил Хрущева, что товары, в импорте которых заинтересована Москва (в том числе оборудование для производства обуви), не имеют стратегического значения и потому доступны для продажи. В ответ Хрущев заявил, что приехал в Соединенные Штаты «не для того, чтобы учиться тачать ботинки или делать колбасу». Это советский народ и так умеет, «может, еще получше американцев». А если мистер Диллон в этом сомневается, пусть взглянет на ботинки Хрущева и увидит сам 146.
В десять пятнадцать президент и председатель Совета министров вместе со своими помощниками снова сели за стол переговоров. Сперва беседа коснулась ядерной войны (причем Хрущев заявил, что не боится ее, а Эйзенхауэр ответил: «А я боюсь – и считаю, что всем нам следует ее бояться»), затем советский лидер упомянул о Китае. Вместо того чтобы сыграть на советско-китайских разногласиях, Эйзенхауэр повторил стандартные американские обвинения в адрес Китая, вынудив Хрущева принять сторону своего союзника; взгляды руководителей СССР и США на Китай, – заметил, выслушав его, президент, – настолько расходятся, что «нет смысла обсуждать вопрос подробнее». Единственным результатом этого разговора стала реплика Хрущева, вскоре обострившая его и без того натянутые отношения с Мао: он заявил, что ничего не знает о пятерых американских летчиках, которых Пекин держит в заключении, однако пообещал «выяснить этот вопрос с китайским руководством» 147.
Но что будет с Берлином и всей Германией? В конце концов двое лидеров вроде бы пришли к соглашению. Хрущев отозвал свой ультиматум, а Эйзенхауэр заявил, что готов к переменам в положении Берлина. Как подытожил Эйзенхауэр, Соединенные Штаты «не пытаются удержать берлинскую ситуацию в ее нынешнем состоянии, а господин Хрущев соглашается не выдавливать западные державы из Берлина силовыми методами» 148. Кроме того, президент согласился участвовать в четырехсторонней конференции лидеров мировых держав – от чего в предшествующие несколько месяцев отказывался, требуя предварительного достижения дипломатического прогресса. Теперь же он заявил, что «достижение ситуации, в которой он не должен действовать под давлением, может рассматриваться как прогресс» 149.
Договорившись об этом, двое лидеров тут же снова заспорили – на сей раз из-за совместного коммюнике. Эйзенхауэр предложил обойтись без коммюнике, поскольку переговоры были заявлены как неформальные. Хрущев настаивал на демонстрации результатов. После обеда он потребовал, чтобы из текста была исключена главная его уступка – отказ от ультиматума по Берлину. По существу он на это согласен, заявил Хрущев, но опасается, что включение этого пункта в коммюнике приведет к «предвзятым и неверным истолкованиям», особенно со стороны Аденауэра, который хотел бы затянуть переговоры лет на восемь и теперь начнет кричать о своей «великой победе» 150.
Теперь взорвался Эйзенхауэр: «С меня хватит! Если так, я не поеду ни на саммит, ни в Россию!» 151Президент твердо стоял на своем, и Хрущев предложил компромисс: Эйзенхауэр устно сообщит о том, что фиксированный срок решения берлинской проблемы отменен, а он (Хрущев) не станет это опровергать. Президент неохотно согласился.
Установленное время визита подошло к концу: двое лидеров уже выбились из расписания. На лимузине президента они поспешили в Вашингтон, пожали друг другу руки на ступенях Блэр-Хауз, где остановился Хрущев, тепло попрощались до следующей весны. Тем же вечером Хрущев обратился к американцам по телевидению: назвал их «добросердечным и дружелюбным народом», а президента (который уже назвал Хрущева «своим другом») – «человеком, который искренне желает улучшения отношений между нашими странами», и заключил по-английски, с сильным акцентом: «До свидания! Удачи, друзья!»
В тот же вечер советская делегация вылетела в Россию.
Не отрицать, что ультиматум, по крайней мере на время, отменен – вот все, на что согласился Хрущев в Кемп-Дэвиде. Неудивительно, что у Эйзенхауэра «был вид человека, который побывал в проруби: он вымок, и с него стекает вода» 152. Но чего достиг Хрущев? Согласия Эйзенхауэра на четырехсторонние переговоры было недостаточно: требовалось еще согласие его союзников. И все же Хрущев наслаждался своим триумфом 153. В сущности, слово «триумф» слишком слабо для того, как было обставлено в СССР его путешествие и торжественное возвращение домой. Он не просто позволил советской пропагандистской машине нарисовать фантастическую картину своих состоявшихся достижений и будущих перспектив, но и сам в это поверил.
Утомительное путешествие по Америке было окончено. Впереди ждала столь же изнурительная поездка в Китай. Однако даже в самолете Хрущев не стал предаваться отдыху: едва Ту-114 поднялся в воздух и взял курс на Москву, глава государства вызвал двух стенографисток и принялся за работу. Через час после прибытия, в 16.00 по московскому времени, он должен был «отчитаться» о своей поездке перед тысячами москвичей на стадионе «Лужники».
Во Внуковском аэропорту Хрущева встречал весь Президиум. И не только Президиум: казалось, здесь собрался едва ли не весь партийно-государственный аппарат вместе с дипломатическим корпусом. Пионеры преподнесли Хрущеву и его родным букеты цветов. Десятки тысяч москвичей махали из окон многоэтажек правительственному кортежу, мчавшемуся по Ленинскому и Ломоносовскому проспектам. «Я видел, какой гордостью светилось лицо Хрущева, – вспоминает Аджубей. – Он даже отказался заехать отдохнуть после полета» 154.
Толпы москвичей ожидали Хрущева на стадионе. После исполнения гимна СССР и приветствия от первого секретаря Московского горкома с приветственными речами выступили: рабочий автомобильного завода («Никита Сергеевич с мощью ледокола разбивает лед холодной войны»), знатная доярка («Тучи холодной войны рассеиваются; и жить, и трудиться становится веселее»), академик и студент – «от лица всей советской молодежи» 155.
В своей речи, ровно пятьдесят раз прерванной бурными аплодисментами, Хрущев обещал слушателям новую эру мира и процветания. Эйзенхауэр, сказал он, проявил «государственную мудрость», «мужество и решимость». Президент пользуется «полной поддержкой своего народа» (заявление, радикально противоречащее официальной коммунистической пропаганде). Разумеется, Эйзенхауэр и Хрущев не могли «решить все проблемы холодной войны за один присест». «Силы зла» в Америке «вертятся, как черти на раскаленной сковороде», чтобы не допустить улучшения отношений между двумя странами. Однако президент «искренне желает положить холодной войне конец» и «готов употребить все свои силы на достижение между нашими странами соглашения».
Хрущев совершил серьезную политическую ошибку – возбудил у народа ожидания, которые едва ли могли исполниться. Однако психологически его слова очень понятны. По свидетельству сына, после путешествия в Америку он находился в такой «эйфории», что надеялся разрешить все противоречия с Китаем, просто обменявшись несколькими словами с Мао 156.
Переговоры с китайцами обернулись полным провалом, но это Хрущева не смутило – напротив, упрочило желание доказать, что его «личная дипломатия» приносит достойные плоды. Самым драматическим следствием этой эйфории стало заявление Хрущева в январе 1960 года о сокращении Советской Армии еще на миллион человек. Кроме того, он предсказал, что вопрос Западного Берлина будет улажен «на основе мирного соглашения». А в феврале Политический консультативный совет стран Варшавского договора объявил, что мир вошел в «фазу переговоров», призванных уладить все «глобальные международные проблемы» 157.
Если бы такие заявления делались только «для внешних» целей, их можно было бы списать на пропаганду. Однако то же самое говорилось и дома, особенно с началом подготовки к ответному визиту Эйзенхауэра. Предполагалось, что президент США прибудет 10 июня, проведет в России неделю, посетит Москву, Ленинград, Киев и Иркутск, затем поплывет на корабле вниз по Ангаре и 19 июня морем прибудет в Токио.








