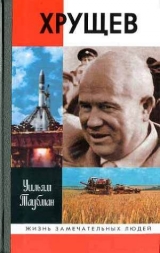
Текст книги "Хрущев"
Автор книги: Уильям Таубман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 69 страниц)
Эйзенхауэр полагал, что капитуляция перед Хрущевым дестабилизирует положение в ФРГ, расколет НАТО и ударит по престижу США. Однако он, как и Хрущев, страшился эскалации международной напряженности и стремился к разрядке. Его пугала перспектива ядерной войны, в которой, по оценкам американских военных, при первом же ракетном ударе будет убито или ранено до 65 % процентов населения США и полностью разрушена инфраструктура страны 25.
Надо заметить, что эти цифры были сильно преувеличены: расчеты основывались на блефе Хрущева, а не на реальном состоянии советских ядерных вооружений. В этом плане уловка Хрущева отчасти удалась; правда, ему не удалось обмануть Даллеса – но Эйзенхауэр поверил ему и искренне надеялся, что советский руководитель «предпочтет дружбу» 26.
К началу 1958 года Эйзенхауэр чувствовал себя не слишком уверенно. США проигрывали пропагандистскую войну и, что еще хуже, теряли шанс на примирение с СССР. 9 февраля Эйзенхауэр признался Даллесу, что он «в отчаянии». Может быть, пригласить Хрущева в США? Не стоит, возразил Даллес; «никто не поверит, что вы не собираетесь вести с ним переговоры». Тогда, продолжал Эйзенхауэр, может быть, пригласить других лидеров КПСС, не занимающих государственных постов? С ними никаких официальных переговоров быть не может: «просто покажем им страну». В ответ Даллес процитировал закон, запрещающий въезд в страну коммунистам без санкции генерального прокурора или государственного секретаря. Наконец Эйзенхауэр предложил пригласить десять тысяч советских студентов для обучения в американских учебных заведениях. «Мы не сможем уследить за таким количеством молодежи», – ответил Даллес, и Эйзенхауэр вынужден был с ним согласиться – однако продолжал «искать любые средства, способные снизить напряженность» 27.
Наконец, не уделял Хрущев должного внимания и своему восточно-германскому союзнику. У Ульбрихта были свои интересы: он стремился к признанию на Западе, но еще больше стремился заполучить Берлин. Западный Берлин был для него не политическим рычагом, как для Хрущева, а желанным призом. Ульбрихт постоянно требовал от СССР экономической помощи – и Советский Союз помогал, чем мог, при том что его собственная экономика находилась не в лучшем состоянии. Благодаря особым внутригерманским соглашениям Восточная Германия получила доступ к западным рынкам. Потеря этой возможности больно ударила бы не только по режиму Ульбрихта, но и по положению самого Хрущева – не говоря уж о том, что эскалация конфликта потребовала бы повышения расходов на оборону. И это в то самое время, когда Хрущев стремительно сокращал Вооруженные силы!
Лидеры западных держав не знали, блефует ли Хрущев, и предпочли принять меры, чтобы доказать ему, что они-то точно не блефуют. Они подтягивали к границам Германии войска и готовились прокладывать себе путь на Берлин. Но Хрущев был уверен, что, даже если начнется стрельба и беспорядки, как в ГДР образца 1953 года, войны удастся избежать. А если нет? Его общая стратегия (если она вообще заслуживает такого названия) была странной с самого начала. Однако больше года такая тактика действовала.
Поначалу реакция Запада на берлинский ультиматум Хрущева была осторожной. Ни Великобритания, ни Франция не были готовы к применению силы – пусть и в ограниченных масштабах. В любом случае, они предпочитали сперва испробовать мирные средства. Эйзенхауэр и Даллес готовы были рассматривать восточногерманских пограничников как советских агентов, но после возражений со стороны ФРГ отступили. Вопрос о том, в каком случае и в каком объеме применять военную силу, требовал расширенных консультаций союзников. Но прежде всего, как заявил Эйзенхауэр 11 декабря, «главная наша задача – понять, чего хочет Хрущев» 28.
Сенатор Губерт Хэмфри попытался это выяснить. Его встреча с Хрущевым, затянувшаяся на восемь часов, по его собственным словам, была, наверное, самой бурной в истории холодной войны.
1 декабря 1958 года сенатор Хэмфри прибыл в Кремль для разговора с Хрущевым, который, по расписанию, должен был начаться в 15.00 и продолжаться час. В разговоре Хэмфри пытался понять, чего хочет Хрущев, а Хрущев, по словам Трояновского, столь же решительно пытался выяснить желания и намерения Эйзенхауэра и Даллеса 29. Оба оратора отличались кипучим темпераментом, и ни один не хотел заканчивать разговор, не добившись четкого ответа на свои вопросы. Через полтора часа Хэмфри заметил, что время переговоров истекло, но Хрущев настоял на продолжении беседы. Сидя друг против друга за длинным столом в кремлевском кабинете, в присутствии одного лишь Трояновского, они проговорили без перерыва до семи часов вечера. Хрущев приказал подать ужин, затем вызвал Микояна – и беседа продолжалась до одиннадцати.
Когда разговор наконец был окончен, несгибаемый Хэмфри едва сдерживал свою радость. Во-первых, он выжил. «Я – единственный американец, который три раза за один день ходил в туалет в Кремле», – шутил он впоследствии. Во-вторых, ему понравился Хрущев. «У этого парня отличное чувство юмора, и он очень умен, очень умен. Поверьте мне, вы не с ничтожеством имеете дело. Ему палец в рот не клади». Особенно когда дело доходит до США: «Этот парень так разбирается в наших делах [имеется в виду политическая ситуация в Нью-Йорке, Калифорнии и Миннесоте, в том числе выборы Юджина Маккарти, которого Хрущев назвал „этим новым Маккарти“], как хотел бы разбираться я сам!» В какой-то момент хозяин Кремля разразился «длинной речью – хотел бы я ее запомнить или записать! Это была лучшая антирасистская речь, какую я когда-либо слышал!.. Мы с ним поладили. Он мне понравился, несмотря ни на что».
Мы не знаем, вызвал ли Хэмфри ответное восхищение у Хрущева. Однако известно, что встреча была вовсе не безоблачной. Порой переговоры принимали жесткий и даже пугающий характер. Во время спора Хрущев выдал «секрет, о котором еще ни один американец не слышал» – что СССР недавно взорвал пятимегатонную водородную бомбу. А еще у Советского Союза есть новая ракета с такой дистанцией полета (9 тысяч миль), что ее негде испытать. Лукаво улыбнувшись, Хрущев спросил у Хэмфри, где тот родился, и, встав из-за стола и подойдя к висящей на стене большой карте США, обвел Миннеаполис голубым карандашом. «Чтобы я не забыл приказать пощадить этот город, когда мы пустим ракеты», – объяснил он.
Хэмфри извинился за то, что не может ответить такой же любезностью и распорядиться пощадить Москву.
Раз двадцать или больше советский лидер возвращался к Берлину: называл его «колючкой», «раковой опухолью», «костью в горле» – разве что не назвал «яйцами Европы», как в 1962 году 30. «Мы здесь не в игрушки играем», – говорил он Хэмфри; да и советские войска в Восточной Европе «не картишками балуются». Хрущев не повышал голоса, но наклонялся вперед, стучал кулаком по столу, маленькие глазки его гневно сверкали, голос звучал резко и отрывисто.
Но Хэмфри оказался не из тех, кого легко запугать. Он без видимых усилий парировал шпильки в адрес своей страны (например, на замечание Хрущева об экономических проблемах в США пожал плечами и спокойно ответил: «Честное слово, не понимаю, о чем это вы»), на шутки отвечал шутками, на резкости – резкостями. Хэмфри заметил, что такие полушутливые перепалки Хрущеву нравятся; однако, когда он сказал, что США не позволят угрожать Берлину, Хрущев принял это на свой счет и несколько раз сердито повторил: «Вы мне не угрожайте!»
Хэмфри обнаружил, что Хрущев «держит в памяти список всех американских генералов, сказавших о нем хоть одно дурное слово» – особенно рассуждавших о том, что и как будут делать американцы, если начнется война. «Всякий раз, когда вы говорите что-то подобное, – заметил Хрущев, – я должен отвечать». Однако сам он понимал, что этот обмен оскорблениями непродуктивен, и стремился перейти к более спокойному разговору; поэтому и в его беседе с Хэмфри жесткие слова и угрозы соседствовали с предложением «жить дружно». Надо только решить берлинскую проблему, говорил он, – тогда «все наладится». Если Запад недоволен советскими предложениями – «пусть выдвигает встречные. Мы готовы принять любое разумное предложение. Что вы предлагаете?»
Он «очень хочет саммита и мечтает о приглашении в Америку», – рассказывал позже Хэмфри высокопоставленным лицам из администрации президента. Разумеется, советский лидер не говорил об этом прямо – но темы, выбираемые им для светской беседы, говорили сами за себя. Он любит путешествовать; ему очень понравилось в Англии; Микоян (которого Хрущев постоянно поддразнивал) был в Америке и узнал там много интересного. «Представляю, сколько я смогу узнать, если туда поеду», – добавил Хрущев.
Личные впечатления сенатора от Хрущева были двойственны. «Этот человек не уверен в себе, он убежден, что мы – большая, богатая страна, и… это не дает ему покоя». Он «защищается, нападая, борется с неуверенностью в себе, демонстрируя сверхсамоуверенность, но выдает себя преувеличениями». Любимые слова Хрущева, замечал Хэмфри, – «дурацкий» и «дурак». Он несколько раз повторил, что «в современном правительстве дуракам не место». Например, таким дуракам, как «антипартийная» группа: «„Они думали, что со мной справятся!“ – говорит он, расплывшись в улыбке. И принимается об этом рассказывать – точь-в-точь охотник, который хвастает добычей. „Знаете, что я сделал? – говорит он. – Сразу собрал пленум ЦК: и я вам скажу, сенатор, я был так убедителен, что даже эти семеро [которые сначала голосовали против него] в конце концов проголосовали 'за'“».
Больше всего Хрущев боялся, что американцы примут его за дурака. Хэмфри рекомендовал администрации внимательно изучить личность Хрущева и составить его психологический портрет: «Рассказы тех, кто с ним общался, следует изучать не дипломатам, а психоаналитикам». Однако те же качества Хрущева, которые требовали осторожности, открывали для американцев блестящие перспективы: «Этот человек нам подходит… Именно такой человек, с которым сможет вести дела кто-нибудь вроде Айка».
Угрожая Эйзенхауэру, Хрущев в то же время опасался, что американский президент примет его угрозы слишком уж всерьез. Скоро Гвоздев передал вице-президенту Никсону новое послание: «Не беспокойтесь о Берлине. Войны из-за Берлина не будет». А месяц спустя, в декабре, заметил, что Хрущев «очень заинтересован» в визите Никсона в СССР и «возлагает большие надежды на этот визит в свете решения берлинской проблемы». Вскоре от администрации президента пришел ответ: Никсон может приехать, если на берлинском фронте «наступит период относительного спокойствия» 31.
Два месяца после объявления ультиматума не принесли никакого прогресса. «Прошла треть отмеренного срока, – пишет Сергей Хрущев, – и ничего не изменилось. Отец начал нервничать». По словам Трояновского, Хрущев «оказался как бы на перепутье: ему было неясно, что же делать дальше». Теоретически он мог использовать переговоры как предлог для оттяжки срока исполнения ультиматума. Однако после высказанных им угроз переговоры казались невозможными 32. Как заставить Эйзенхауэра начать переговоры, не отзывая своих угроз? Ни советский посол в США Михаил Меньшиков, ни министр иностранных дел Громыко не подходили для выполнения такой деликатной задачи, и Хрущев остановил свой выбор на давнем кремлевском коллеге – умном и проницательном Анастасе Микояне. Вот кто поедет в Вашингтон! «Ты эту кашу заварил, ты и расхлебывай! – резко ответил ему поначалу Микоян. – Да меня никто туда и не приглашал». – «Нет, я ехать не могу, – возразил Хрущев. – Я глава страны. А ты поедешь как личный гость Меньшикова» 33.
Микоян отправился в Америку в начале января. Помимо Вашингтона, его маршрут включал в себя Нью-Йорк (где он встретился с представителями деловых кругов), Чикаго (где его забросали яйцами), Лос-Анджелес (где демонстранты несли открытый гроб с надписью «Для Микояна»). Микоян дал бесчисленное множество пресс-конференций, вопросы на которых можно назвать как угодно, только не «дипломатичными». «Представляю себе, как бы реагировал на это Хрущев!» – восклицает Трояновский, сопровождавший Микояна в США. «Но у Микояна был свой стиль – ирония, сарказм, юмор или спокойное опровержение» 34.
В переговорах с Эйзенхауэром, Даллесом и Никсоном Микоян пытался снизить градус международной напряженности. Он почти умолял их понять, как изменился СССР со времен смерти Сталина, заверял, что Москва не собирается подрывать позиции Запада в Берлине, уверял, что новые предложения СССР – не ультиматум и не угроза. Кремль, говорил он, хочет только переговоров – однако «не встречает со стороны США ничего нового» 35.
Из Америки Микоян привез двойственные вести. Видные бизнесмены, с которыми он встречался (например, Аверелл Гарриман и Джон Дж. Маклой), мыслили вполне трезво. Даллес намекнул, что свободные выборы – не единственный путь к объединению Германии, а Эйзенхауэр положительно отнесся к идее встречи министров иностранных дел. Однако президент отказался от саммита и ни на дюйм не сдвинулся по отношению собственно к Берлину. По словам Сергея Хрущева, эти переговоры «не только разочаровали отца, но и заставили его ощутить свою уязвимость». Однако «рассказы Микояна о США он вспоминал с улыбкой. Рано или поздно, говорил он, американцы согласятся сесть за стол переговоров» 36.
Следующей надеждой Хрущева стал Гарольд Макмиллан. Британский премьер-министр страшился войны и готов был на многое, чтобы ее избежать; поэтому он напросился в Москву, воспользовавшись приглашением, которое сделали его предшественнику Хрущев и Булганин еще во время своего визита в Англию в 1956 году.
Вашингтону эта инициатива пришлась не по вкусу. Эйзенхауэр и Даллес опасались, что британцы «готовы размякнуть». Макмиллан позже настаивал, что получил от американцев карт-бланш на переговоры; на самом деле Даллес заявил, что, если Макмиллан поедет в Москву, пусть говорит только от своего имени 37.
Хрущев встретил гостя со всей теплотой, какая только была возможна в заснеженной Москве. 21 февраля, когда Макмиллан (в черном зимнем пальто и белой шапке-ушанке, в которой он ходил еще в 1940-м, когда работал в английском посольстве в Хельсинки) прилетел в Москву, Хрущев встречал его в аэропорту 38. После роскошного обеда в Кремле они отправились в Семеновское, где катались по заснеженным полям на тройке, стреляли куропаток и даже съехали вдвоем на санках с ледяной горы. Хрущев с удовольствием демонстрировал свое гостеприимство. Позже изысканно вежливый Макмиллан замечал, что катание на санках «одни восприняли с улыбкой, а другие – с изумлением. По мнению экспертов, это означало высокую степень близости» 39.
Макмиллан лестно отозвался о деятельности Хрущева во время войны; тот встретил его комплименты «сияющей, почти пиквикской улыбкой» 40. Но когда премьер начал защищать права западных держав в берлинском вопросе и отверг идею летнего саммита, Хрущев вспылил. Если Запад не желает принимать советскую позицию, заявил он за обильным (не только едой, но и выпивкой) обедом, «то переговоры придется вести мертвецам с мертвецами». Обычно сдержанный Макмиллан ответил не менее резко: «Не пытайтесь нам угрожать, иначе развяжете Третью мировую войну». Тут Хрущев вскочил на ноги с криком: «Вы меня оскорбили!» 41
И в ответ оскорбил Макмиллана сам. Советский лидер собирался сопровождать премьер-министра в Киев, «увлеченно расписывал гостеприимство киевлян и красоту Днепра». А теперь вдруг объявил, что в Киев не поедет, потому что у него разболелся зуб. «Страшно болит зуб, – пожаловался Хрущев, – а что толку от главы государства с зубной болью?» Зубная боль не помешала ему в тот же день принять иракскую делегацию. Британские таблоиды окрестили это происшествие «зубным оскорблением», а одна из газет охарактеризовала всю поездку Макмиллана как «монументальный провал» 42.
Макмиллан признал необходимость пойти на уступки. Переговорив со своим секретарем по иностранным делам Селвином Ллойдом, он решился на серьезный разговор с самим Хрущевым. («Вообразите себе, – писал он позже, – двое пожилых, если не сказать, старых политиков, закутанные до бровей в меховые шубы, в меховых шапках и неизбежных галошах, в сопровождении советников бродят взад-вперед по засыпанному снегом саду, погруженные в долгий и нелегкий разговор! Это было бы смешно, если бы вся ситуация не была столь опасна».) Во время того разговора Макмиллан сформулировал два ключевых пункта своей позиции и попросил Хрущева «хорошенько их обдумать. Во-первых: ситуация в Германии опасна и может окончиться трагически для всех нас. Во-вторых: этой трагедии можно избежать, если мы согласимся сотрудничать друг с другом и прислушиваться к голосу разума» 43.
«Наступила пауза, – продолжает Макмиллан, – во время которой Громыко и Микоян поглядывали то друг на друга, то на своего босса». Неудивительно! Премьер-министр озвучил именно ту точку зрения, которую повторял едва ли не в каждой своей речи сам Хрущев. Если именно с этой мыслью Макмиллан вернется домой, Москва сможет сказать, что его поездка принесла пользу.
В результате этого визита Хрущев сумел, не теряя лица, отказаться от назначенного первоначально срока ультиматума – 27 мая. Если Западу не нравится 27 мая, заметил он с показной небрежностью, пусть назначат другое число, которое их больше устраивает – в июне или в июле: «Нам торопиться некуда» 44. Если на саммит Запад не согласен – как насчет встречи министров иностранных дел, которая начнется где-нибудь в конце апреля и продолжится не менее двух-трех месяцев? Если к 27 мая переговоры будут идти вовсю, срок ультиматума отодвинется автоматически.
Англичане были буквально заворожены поведением Хрущева. Он «подавлял всех своих коллег», кроме Микояна, который «держался со спокойным достоинством второго человека в государстве», в то время как прочие «поглядывали на него с осторожным почтением». Хрущев «говорил без бумаг, не делал записей и, кажется, совсем не консультировался со своими коллегами». Он «прекрасно схватывал детали», однако «изложение сложной или тонкой логической аргументации не всегда ему удавалось». Он проявлял «определенную враждебность к интеллектуальности» и «заметную эмоциональность» в своих реакциях. В нем чувствовалось «острое сознание своей силы» наряду с «глубоко засевшим комплексом неполноценности… Чрезвычайно чувствительный к любым мелочам», он едва не взорвался, когда Макмиллан и Ллойд проявили невежливость, позволив себе шептаться друг с другом, пока переводчик переводил им слова Хрущева 45.
Высококультурный и дипломатичный Трояновский был «изумлен» тем, как «агрессивно и провокационно» вел себя Хрущев со своим гостем. После одного заседания, где Хрущев открыто и резко нападал на Макмиллана, он довольно заметил своему помощнику, что «отымел [он употребил более грубое слово] англичанина», а затем добавил, словно извиняясь: «Вы человек культурный, вам, должно быть, неприятны такие выражения» 46.
Хрущев не мог не понимать, что перенесение сроков ультиматума, по сути, означает поражение. Его блеф удался лишь наполовину, и, хотя он и стремился убедить себя и коллег в своей победе, «глубоко в душе», по словам сына, понимал, что проигрывает 47.
Министры иностранных дел собрались в Женеве 11 мая. В тот же день, произнося речь на Украине, Хрущев позволил себе эйфорическое заявление: «Обязательно состоится встреча глав государств». Макмиллан, продолжал Хрущев, уже согласен, а Эйзенхауэр и де Голль непременно согласятся. Международное положение Советского Союза «стало лучше, чем когда бы то ни было раньше» 48.
Однако к середине июня министры иностранных дел зашли в тупик. Западные державы были готовы освободить Берлин из-под своей «опеки» (они по-прежнему требовали проведения в Германии свободных выборов) и изменить свою роль в Берлине, сократив гарнизоны и подписав новые соглашения; однако не желали ни отказываться от своих основных прав, ни признавать Восточную Германию. СССР готов был признать промежуточное соглашение, оставляющее за Западом прежние права на время переговоров между двумя Германиями, однако Громыко не мог гарантировать, что эти права останутся в неприкосновенности после достижения соглашения – что означало, что угроза аннулировать права Запада по-прежнему висела в воздухе.
Еще до 11 мая Эйзенхауэр объявил необходимым предварительным условием саммита достижение прогресса на переговорах министров. Он не определил, что именно понимает под прогрессом: однако то, что в Женеве никакого прогресса достигнуть не удалось, сомнений не вызывало. Спрашивается: почему Хрущев не предложил сделку? В Женевской конференции участвовали наблюдатели от Восточной Германии (после мучительных споров о форме стола, за которым они должны были сидеть вместе с наблюдателями от ФРГ) – это говорило о фактическом признании. Более того, Ульбрихт рассматривал встречу министров как достижение, что же до окончательного урегулирования (как он говорил Хрущеву в марте) – для этого потребуются годы, может быть, даже десятилетия. Хрущев, а не Ульбрихт, торопил созыв саммита 49. Если очевидно, что урегулирования ждать еще как минимум год или два, – почему бы не гарантировать Западу, что о его правах никто не забудет?
Возможно, у Хрущева было искушение так и поступить. Согласно госсекретарю США Гертеру, до 7 июня позиция СССР была достаточно гибкой, а затем вдруг ужесточилась. После своих громких угроз Хрущев не мог сдать назад – это выглядело бы как сдача позиций. Из-за собственной тактики он оказался в ловушке; однако из этой ловушки виделся выход. Никакого кризиса нет, объявил он 7 июня. Если министры иностранных дел не придут к согласию, возможно, оно будет достигнуто на саммите. Если и там ничего не выйдет – что ж, пусть решает «мировое общественное мнение». «Если это необходимо, – великодушно добавил Хрущев несколько дней спустя, – я с удовольствием встречусь не один раз с главами правительств западных держав» 50.
23 июня Хрущев принял у себя Аверелла Гарримана и имел с ним еще один долгий разговор, начавшийся в Кремле в 13.00. Хрущев встречал гостя в мешковатом сером пиджаке с тремя наградами на груди – двумя слева и одной справа, – в галстуке в серый и красный горошек и с большими красными запонками на рукавах; выглядел он «усталым» 51. Через полтора часа встречу перенесли на дачу Хрущева в Ново-Огарево, где она и продолжалась до половины одиннадцатого, причем последние пятнадцать минут Хрущев простоял в дверях, не желая, чтобы за гостем оставалось последнее слово.
В разговоре с глазу на глаз Хрущев был далеко не так безмятежен, как в публичных выступлениях. Зная, что Гарриман происходит из хорошей семьи и очень богат, он, по-видимому, ощутил необходимость защитить себя и потому начал с характеристики своих бывших соперников и нынешних коллег. «Сам я шахтер», сообщил он, отец Микояна был «водопроводчиком», а Козлов, «хотя он и не из таких низов, как мы», был «беспризорником». Маленков – «дерьмо, цыпленок», Берия тоже «был дерьмом»; один Молотов заслуживал уважения. Многие считают Кириченко очевидным наследником Хрущева; однако Хрущев предостерег Гарримана от подобных умозаключений. «Я к своим прерогативам отношусь очень ревниво, – искренне объяснил он, – и буду руководить партией, пока я жив. Не надейтесь меня похоронить!»
– Но ведь ваше слово для Президиума закон, верно? – спросил Гарриман.
– Верно, – ответил Хрущев, – но нет такого закона, который нельзя было бы обойти.
Такую же пылкость он проявил и в международных отношениях. «Не думайте, что Советский Союз все еще в лаптях ходит, как в те времена, когда царь вам Аляску продал. Мы готовы драться». СССР хочет дружбы с Америкой, «но не от слабости. Если вы попытаетесь говорить с нами с позиции силы – мы ответим тем же».
Как обычно, от обороны Хрущев быстро перешел к нападению. Для Бонна «хватит» одной бомбы, для Англии, Франции, Испании и Италии – трех, четырех или пяти. Если Гарриман в этом сомневается, пусть сравнит грузоподъемность ракет: американская ракета поднимает боеголовку всего в 22 фунта, а советская – в 2860 фунтов.
К чести Гарримана, он не молчал. Угрозы Хрущева он назвал «чудовищно опасными». Он выразил надежду, что на следующей встрече министров, которая состоится 13 июля, господин Громыко будет более уступчив. На это Хрущев проворчал, что Громыко будет проводить позицию советского правительства – иначе его «уволят и назначат нового». И начался новый раунд угроз: Западную Германию «уничтожим за десять минут». Одной бомбы хватит: «Бонн и Рур – это вся Германия, Париж – вся Франция, Лондон – вся Англия. Вы окружили нас своими базами, но наши ракеты их уничтожат. Если вы начнете войну, мы, возможно, погибнем, но ракеты запустятся автоматически».
«Можете передать кому хотите, – продолжал Хрущев, – что мы никогда не признаем Аденауэра представителем Германии. Он – круглый ноль, ничтожество. Спустите с Аденауэра штаны и посмотрите на него сзади – увидите, что Германия разделена. Посмотрите спереди – увидите, что Германия не устоит».
И далее: «Да, мы намерены ликвидировать ваши права в Западном Берлине. Зачем вам в Берлине одиннадцать тысяч вооруженных солдат? Если дойдет до войны, мы их проглотим одним глотком… Ваши генералы говорят, что будут защищать Берлин танками и пехотой. Да одна бомба от них ничего не оставит!»
На бумаге тирады Хрущева выглядят совсем по-гитлеровски. Однако, по рассказу Гарримана, советский лидер «во время разговора был настроен добродушно, постоянно улыбался, часто произносил тосты – пил он в основном коньяк, и в немалом количестве – и беспрерывно восхвалял [Гарримана] как великого капиталиста». И все же продолжал угрожать войной. Другой на его месте побоялся бы дразнить США – сам Сталин старательно избегал блефа, ставшего визитной карточкой его преемника, – однако Хрущев знал (или думал, что знает), как далеко можно зайти с Эйзенхауэром.
8 июля, когда состоялась пресс-конференция Эйзенхауэра, в прессе уже появились первые отчеты о встрече Гарримана с Хрущевым. Когда президента спросили, что он думает о поведении Хрущева, тот спокойно ответил: «Честно говоря, ничего об этом не думаю. Я не верю, что ответственный человек станет позволять себе что-то хоть отдаленно похожее на ультиматумы или угрозы. Таким путем мирные решения не достигаются» 52.
Правда, спокойствие президента было обманчивым. От непредсказуемости Хрущева его бросало то в жар, то в холод. Когда Макмиллан предлагал организовать встречу на высшем уровне, Эйзенхауэр заявил, что не позволит «силком тащить себя за стол переговоров». Однако, «судя по тому, что происходит, – добавил он 7 апреля своим советникам, – у нас нет надежды на будущее, если мы не достигнем успеха с помощью переговоров – а ведь со встречи в Женеве прошло уже четыре года» 53.
Эйзенхауэр не понимал поведения Хрущева. «Вы читали эту [хрущевскую] речь? – спросил он репортеров на пресс-конференции в феврале 1959 года. – Что он говорит о нашем народе!..» На вопрос, как оценивает президент поведение Хрущева во время визита Макмиллана, Эйзенхауэр ответил, что сам «долго искал ответ на этот вопрос» 54.
Президент гордился своим умением распознавать людей в беседе с глазу на глаз. Накануне визита Микояна он надеялся, что «мы проникнем в мысли друг друга и поймем, каковы наши истинные намерения. Скрываются ли за всем этим честные мотивы и искреннее стремление к миру? В самом ли деле для нас обоих столь тяжело бремя, которое мы несем, что мы хотим найти выход… из этой дилеммы?» 55В марте он подумывал о том, чтобы пригласить Хрущева в Америку «для спасения ситуации». Вскоре после этого президент приказал Госдепартаменту «с соблюдением строгой секретности» подготовить доклад о возможности пригласить Хрущева в США. В середине июня, когда переговоры в Женеве зашли в тупик, Эйзенхауэр сказал своей личной секретарше Энн Уитмен, что «ему осталось одно – пригласить господина X. сюда и переговорить с ним с глазу на глаз». Месяц спустя, когда министры иностранных дел вновь собрались в Женеве, президент одобрил план приглашения Хрущева в Соединенные Штаты, надеясь, что этот визит «прорвет плотину» на конференции министров.
По плану Эйзенхауэра, приглашение зависело от достижения конкретных успехов в Женеве. Помощнику госсекретаря США Роберту Мерфи было поручено передать приглашение (вместе с условием) Козлову, присутствовавшему в Нью-Йорке на открытии Советской выставки научных и культурных достижений. 13 июля Козлов должен был вернуться в Москву. Мерфи предстояло сказать ему, что, если переговоры в Женеве пройдут успешно, два лидера смогут неофициально пообщаться в Вашингтоне, а затем, если Хрущев пожелает, ему организуют турне по стране. Однако Мерфи, что-то перепутав, передал приглашение безо всяких условий – а 21 июля Эйзенхауэр узнал, что Хрущев это приглашение принял. Президент оказался «в чрезвычайном затруднении», «не понимал, что теперь делать» – так сообщил он самому Мерфи 22 июля. Теперь ему придется участвовать во встрече, которая ему «глубоко неприятна», не понимая даже, «достижению каких целей она послужит» 56.
Поверить в эту историю трудно; некоторые историки и не верят 57. Сам Хрущев был поражен, когда узнал о приглашении, которого безуспешно добивался уже несколько месяцев. В июле он в очередной раз сообщил делегации американских губернаторов, что не отказался бы съездить в Соединенные Штаты и в ответ принять американского президента в СССР 58. Однако к этому времени, по словам Сергея Хрущева, его отец уже потерял надежду и «пал духом» 59.
Такова была ситуация июльским воскресным утром, когда вернулся из Нью-Йорка Козлов. Хрущев отдыхал у себя на даче: Козлов позвонил туда, а затем немедленно приехал. «Признаюсь, я сначала даже не поверил, – рассказывал позже Хрущев. – Это произошло так неожиданно, мы были вообще не подготовлены к этому. Наши отношения были тогда столь натянутыми, что приглашение с дружеским визитом главы советского правительства и первого секретаря ЦК КПСС казалось просто невероятным! Но факт оставался фактом: Эйзенхауэр пригласил правительственную делегацию, а я ее возглавлял… Как это понимать? Что это, поворот в политике?» 60
Хрущев принял новость «с глубоким удовлетворением», – вспоминал его сын. «Я бы даже сказал, с радостью. Он воспринял это как знак того, что США наконец-то признали нашу социалистическую страну. Он станет первым советским руководителем, официально приглашенным в США». Похоже, добавляет Трояновский, наметился тот самый «прорыв», которого ждал Хрущев, конкретный результат давления на западные державы по берлинскому вопросу 61.








