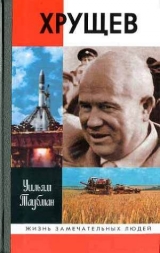
Текст книги "Хрущев"
Автор книги: Уильям Таубман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 69 страниц)
Популярность при советской системе управления не имела такого значения, как положение во власти – однако она тоже шла Хрущеву на пользу. Особенно это касалось популярности в кругах интеллигенции. В 1956 году молодой Андрей Сахаров, спрашивая своего знакомого, нравится ли ему Хрущев, добавлял, что ему – «в высшей степени [нравится], ведь он так отличается от Сталина» 46. Упрочившееся положение доставляло и материальные блага, от которых Хрущев никогда не отказывался, хотя порой и выражал недовольство, – например, новая резиденция, в которую он переехал с семьей в конце 1955 года 47. Новый дом был возведен вместе с четырьмя другими на Ленинских горах, напротив спорткомплекса «Лужники» и неподалеку от величественного здания МГУ. Особняк, окруженный высокой бело-желтой оградой, с многочисленной охраной, стоял на крутом берегу Москвы-реки, откуда открывался великолепный вид на Москву: при нем имелся небольшой парк с дорожками для прогулок и уютными полянами (на одной из которых Хрущевы обычно играли в теннис без сетки); с западной стороны имелся фонтан, а дальше извилистые тропы вели в густой сосновый бор. Сам дом представлял собой массивное двухэтажное здание: просторный холл с мраморными колоннами, большая гостиная с деревянным полом и роскошной чешской люстрой, не менее впечатляющая столовая, где за длинным столом легко можно было рассадить двадцать человек. На втором этаже располагались несколько спален, кинозал (он же бильярдная) и обшитый дубовыми панелями кабинет, в котором Хрущев почти не бывал, предпочитая работать и принимать посетителей в столовой 48.
По соседству с Хрущевыми поселились Микояны, Булганины и Кагановичи. Молотову и Ворошилову новых резиденций не досталось; правда, у них имелись роскошные квартиры в центре города и великолепные дачи, так что в этом им едва ли приходилось завидовать Хрущеву. У старших товарищей было множество других оснований недолюбливать Хрущева – а непредвиденные последствия секретного доклада предоставили им возможность действовать.
Доклад недолго оставался секретным. Хрущеву этого и хотелось 49. «Очень сомневаюсь, что отец хотел держать это в тайне, – писал Сергей Хрущев. – Наоборот! Его собственные слова подтверждали обратное – он хотел, чтобы его доклад стал известен народу. В противном случае все его усилия были бы бессмысленны. Секретность заседания была лишь формальной уступкой с его стороны…» 50
1 марта Хрущев отправил в Президиум отредактированный вариант доклада, который, «если не возникнет возражений, будет разослан партийным организациям» 51. Четыре дня спустя Президиум одобрил распространение доклада – в виде брошюрки в красной обложке с пометкой, гласившей сначала «Совершенно секретно», а в окончательном варианте «Не для печати», – парткомитетам страны, которые, в свою очередь, должны были «ознакомить всех коммунистов и комсомольцев, а также беспартийных активистов, включая рабочих, служащих и колхозников» с его содержанием 52. Иными словами, в следующие несколько недель доклад Хрущева читался на заводах, в госучреждениях, в колхозах, в институтах и даже в старших классах школ; с ним ознакомились семь миллионов коммунистов и восемнадцать миллионов комсомольцев 53.
Коммунистические лидеры восточноевропейских стран услышали доклад в ночь с 25 на 26 февраля: им его зачитывали советские послы, причем очень медленно, чтобы те успевали делать заметки. Делегация ГДР была поражена, но ее руководитель Вальтер Ульбрихт быстро оправился; когда на следующее утро его спросили, что же теперь говорить молодым восточным немцам, обучающимся в партийных школах СЕПГ, Ульбрихт цинично ответил: «Скажите им, что Сталин – больше не классик». Правда, в дальнейшем выяснилось, что доклад потряс Ульбрихта больше, чем он хотел показать; он скрывал эту информацию от своего народа, пока она не просочилась в ГДР через западную прессу 54.
Поляки оказались не столь осторожны. Их Политбюро позволило членам ЦК и ведущим партийным активистам зачитать русский текст на партийных собраниях. Меньше месяца спустя по всем польским партячейкам был распространен официальный перевод. Вначале было напечатано около трех тысяч нумерованных копий, но типографии по своей инициативе допечатали еще около пятнадцати тысяч. Хрущев «дал нам понять, что доклад можно опубликовать, – вспоминал Эдвард Моравский, руководитель отдела пропаганды, занимавшийся распространением доклада. – Многие в руководстве были против, и это меня не удивляло. Нужно было идти на [партийные] собрания, отвечать на вопросы; эти люди чувствовали себя преступниками» 55.
Одна из польских копий в начале апреля попала через израильскую разведку в Израиль, а затем и в ЦРУ. В конце мая Госдепартамент США передал копию «Нью-Йорк таймс», и 4 июня 1956 года она была опубликована 56. Советские власти не подтверждали, но и не отрицали ее подлинность. В ответ на вопрос западных репортеров Хрущев шутливо отослал их к шефу ЦРУ Аллену Даллесу 57. В самом СССР доклад распространялся так широко, что ни о какой секретности речи уже не шло, однако официально опубликован так и не был. Формально Сталин оставался «великим вождем», и его портреты по-прежнему висели повсюду. Новый югославский посол Велко Мичунович, прилетевший в СССР в конце марта, заметил во Львовском и Киевском аэропортах «огромные портреты Сталина, выполненные в ярких красках и с позолотой на всех возможных местах… как будто не было ни XX съезда, ни секретного доклада Хрущева».
Тот же театр абсурда происходил и в самом Кремле. Первая встреча Хрущева с Мичуновичем продолжалась четыре часа (вместо запланированных пятнадцати минут), и большую часть этого времени Хрущев произносил гневную филиппику в адрес покойного диктатора, портрет которого все еще висел у него в приемной. Если такое творится в Кремле, спрашивал себя Мичунович, «что же происходит в остальном Советском Союзе? Если Хрущев не в силах избавиться от Сталина в собственном кабинете – как избавится от него Россия?».
Другие советские руководители, с которыми встречался Мичунович, о Сталине почти не упоминали. Молотов избегал любых неудобных тем, «даже не намекнул на то, что десять лет между нашими странами длилась идеологическая и политическая война, которую сам Молотов и начал…». Ворошилов, по-прежнему номинальный глава государства, которого Хрущев описал Мичуновичу как «развалину», ограничился несколькими дипломатическими любезностями. Речи Кагановича звучали совершенно по-старому. Из всех русских, с которыми встречались с 27 марта по 18 апреля Мичунович и его подчиненные, «ни один (кроме, разумеется, Хрущева и Булганина) не отзывался об осуждении Сталина с чувством личного удовлетворения или с убежденностью, что это было сделано правильно» 58.
Открытая публикация доклада могла бы способствовать более решительному разрыву со сталинистским прошлым. С другой стороны, полное замалчивание могло бы предотвратить разразившуюся вскоре смуту. Хрущев стремился к большей публичности, остальные – к меньшей: в результате был принят компромиссный вариант. Но Хрущева раздирали противоречивые эмоции. «Благодаря Сталину он поднялся на вершину, – говорит его дочь Рада. – Его героизм состоял прежде всего в том, что он сумел преодолеть Сталина в себе… Но во многих вопросах он считал Сталина правым, потому что и сам думал, как Сталин» 59. Сразу после доклада, по словам Алексея Аджубея, «Хрущев… почувствовал, что своим докладом нанес слишком сильный удар. До поры до времени он еще вел линию на разоблачение сталинского произвола, приводил в своих выступлениях на различных собраниях и заседаниях новые факты, поддерживал разоблачение кровавого террора, но чем дальше, тем больше не хотел, чтобы рамки критического анализа расширились. Не хотел, чтобы шла „стенка на стенку“» 60.
«Теперь арестованные вернутся, – сказала в марте 1956 года поэтесса Анна Ахматова, – и две России взглянут друг другу в глаза: та, которая сажала, и та, которая сидела» 61. На многочисленных собраниях, где зачитывался и обсуждался доклад, критика Сталина выплескивалась за установленные Хрущевым рамки. Антисталинисты касались самых больных мест, которых избегал Хрущев: почему о преступлениях Сталина так долго молчали? Где были в то время нынешние члены Президиума? А сам Хрущев? Почему он молчал и начал критиковать Сталина только после его смерти? Почему Хрущев не оплакивает тех из жертв Сталина, которые не были коммунистами? А может быть, вся советская система ошибочна?
На некоторых собраниях предлагались и даже принимались резолюции по вопросам, не обсуждавшимся публично до конца 1980-х: необходимость реальных прав и свобод, а также многопартийных выборов как гарантии свободы. Собрание в МГУ превратилось в хаос, когда местные партийные руководители попытались изгнать с собрания беспартийных, пришедших послушать доклад Хрущева. В термотехнической лаборатории Академии наук кто-то выкрикнул с места: «Власть принадлежит кучке негодяев! Наша партия заражена духом рабства!» – эти слова были встречены аплодисментами. Председательствующий попытался прервать собрание, но почти половина присутствующих, презрев «партийную дисциплину», проголосовала за его продолжение. Прокурор Кабардинской АССР, возможно, не получив соответствующих указаний Хрущева (или, наоборот, получив их), сообщил местным партактивистам число людей, арестованных и расстрелянных в республике в 1937 году, описал пытки, применявшиеся для выбивания признаний, и назвал имена виновных. В Сибири молодой комсомольский функционер, зачитав доклад Хрущева на студенческом собрании, не знал, что к нему добавить; он беспомощно повернулся к секретарю партийной организации – но тот тоже не знал, что сказать, и в конце концов взять слово пришлось преподавателю физкультуры 62.
В апреле КГБ сообщал о случаях самовольного сноса или уродования памятников и бюстов Сталина, о том, что на одном собрании коммунисты постановили считать Сталина «врагом народа», а на другом – потребовали, чтобы его тело было изъято из Мавзолея. Однако еще больше было тех, кто Сталина защищал. Среди тех, кто присылал сообщения, мы встречаем имя молодого комсомольского работника Михаила Горбачева. Он делал доклад о XX съезде в сельском райкоме неподалеку от Ставрополя. Когда функционер Ставропольского обкома предупредил его: «Народ не поймет, люди этого не примут», Горбачев предположил, что он имеет в виду партаппаратчиков, а не простых людей. Однако последующие две недели заставили его пожалеть о своей самоуверенности. Молодые и образованные люди, особенно те, кто сам пострадал от Сталина или близко знал пострадавших, встречали доклад Хрущева с удовлетворением. Вторая группа «отказывалась верить… или отвергала его утверждения», а третья спрашивала: «К чему это? Зачем полоскать грязное белье на публике?» Но самая неожиданная реакция последовала от простых граждан: они восхваляли Сталина за то, что тот «наказывал» партийных чиновников, которые жестоко их угнетали. «Поплатились они за наши слезы!» – говорили слушатели Горбачева. «И это, – вспоминал он, – в регионе, по которому в полную силу прокатилось кровавое колесо 1930-х!» 63
Ни в одном регионе не пролилось крови больше, чем в родной Сталину Грузии, – и ни один регион не оставался так непоколебимо верен его памяти. На третью годовщину его смерти грузины собрались на улицах Тбилиси и некоторых других городов. Мирная траурная демонстрация в память о Сталине превратилась в четырехдневные массовые протесты против доклада Хрущева. Более шестидесяти тысяч человек принесли цветы к памятнику Сталину в Тбилиси; сотни других разъезжали по городу с портретами Сталина на грузовиках. Люди скандировали лозунги: «Слава великому Сталину!», «Долой Хрущева!», «Молотова в Председатели Совета Министров!», «Молотова – в Генеральные секретари!» Некоторые демонстранты требовали даже отделения Грузии от СССР. Когда они двинулись к зданию радиостанции, правительство пустило в ход войска и танки. Произошло два столкновения, одно из них – у памятника Сталину: в нем пятнадцать человек были убиты, пятьдесят четыре – ранены, пятеро впоследствии умерли от ран. В конце концов общее число убитых составило двадцать человек, а раненых – шестьдесят. Многие были арестованы и оказались за решеткой. Когда беспорядки только начинались, вспоминает Сергей Хрущев, его отец надеялся, что молодежь «побуянит немного и успокоится». Однако в конце концов «пришлось вмешаться очень жестко», – говорил Хрущев послу Югославии Мичуновичу. Несколько человек, сказал он, были убиты и ранены; другие одумались и разошлись по домам. Теперь, добавил Хрущев, «мы будем настороже» 64.
Бурное собрание в термотехнической лаборатории вызвало обращение Президиума к коммунистам страны. В нем осуждались «вражеские выходки», все участники собрания в лаборатории были уволены и исключены из партии; вернуться было позволено «только тем, кто способен не только на словах, но и на деле проводить генеральную линию партии…» 65. «Правда» клеймила неких не называемых по именам коммунистов за «клеветнические фабрикации», «антипартийные выступления» и «непартийные высказывания» и требовала положить конец «чрезмерно либеральному отношению» к «антипартийным клеветникам». 7 апреля официальная газета ЦК КПСС перепечатала обращение из китайской прессы, призывающее молодых коммунистов изучать и хранить работы Сталина и его «историческое наследие». Отступление Хрущева достигло кульминации 30 июня, когда ЦК в своей резолюции фактически переписал его секретный доклад так, как хотелось бы коллегам-сталинистам: в сухом, безличном тоне, обвиняя Сталина лишь в «серьезных ошибках», отвергая любые попытки «найти источник этого культа в самой природе советского общественного строя», а под конец восхваляя «истинных ленинцев», которые «взяли курс на решительную борьбу с культом личности… немедленно после смерти Сталина» 66.
Ни одно из этих посланий не остановило реабилитацию и восстановление в правах жертв Сталина; напротив, этот процесс ускорился. До съезда было реабилитировано около семи тысяч человек – после съезда счет пошел на сотни тысяч. Продолжалось и освобождение заключенных: около сотни комиссий Верховного Совета СССР разъезжали по лагерям «с целью проверки основательности вынесения приговоров политического характера» 67. Однако от реабилитации известных жертв Хрущев воздерживался. Комиссия, назначенная в 1955 году для пересмотра дела маршала Тухачевского и других высокопоставленных военных, закончила свою работу, и в январе 1957 года было объявлено о их реабилитации. Однако другая комиссия, разбиравшая дела Зиновьева, Каменева и Бухарина (председателем ее был Молотов, а членами – Ворошилов и Каганович), прозаседав несколько месяцев, объявила, что для пересмотра дел «нет оснований», поскольку обвиняемые «вели антисоветскую деятельность» 68. В июле 1957-го, после разоблачения заговора, Хрущев обещал вернуться к этим делам – но так и не вернулся, видимо, не желая дискредитировать иностранных коммунистических лидеров, которые, как и он сам, приветствовали эти приговоры 69.
Хрущев хотел продолжать десталинизацию, пусть и более умеренными темпами. Однако, когда 30 июня Молотов настоял на принятии резолюции ЦК, Хрущев вынужден был с этим согласиться. За два месяца до того, на банкете по случаю праздника Первого мая, югославский посол Мичунович заметил признаки напряженных отношений между советским руководством. После парада на Красной площади советские лидеры и иностранные гости сели за роскошный стол. Хрущев как хозяин произнес больше дюжины импровизированных тостов. Затем он вдруг обрушился на Сталина, перемежая свою речь едва замаскированными намеками в адрес Молотова и Ворошилова. По видимости он защищал своих коллег (Молотов – честный коммунист; Ворошилов вовсе не был, как утверждал Сталин, английским агентом), но на самом деле обвинял их в близости к покойному диктатору. После того как Булганин попросил его держаться ближе к теме, Хрущев объяснил, зачем произнес свой секретный доклад, – в пересказе Мичуновича это звучало так: «Он [Хрущев] человек немолодой, может уйти в любой момент» и потому, «прежде чем покинет этот мир, хотел рассказать всем, что он сделал и как».
Послы, тронутые очевидной искренностью Хрущева, зааплодировали. Реакция его коллег была нескрываемой и выразительной. Явно поддерживали Хрущева только Булганин и Микоян. Молотов, Маленков и Каганович «все это время оставались пассивными». Особенно поразил Мичуновича Молотов, сидевший за столом с ним рядом: «Временами мне казалось, что Хрущев поворачивает нож у него в открытой ране». Ясно было, что члены Президиума чисто по-человечески «не выносят друг друга». Молотов и Маленков с трудом терпели «восторг и наслаждение, с которыми Хрущев играл роль хозяина и повелителя» 70.
В июне Хрущев нанес своим критикам ответный удар. 1 июня, в день, когда президент Югославии Тито прибыл в СССР для двадцатитрехдневного визита, Молотов был вынужден уйти с поста министра иностранных дел, который занимал с 1939 года (не считая четырехлетнего перерыва в последние годы жизни Сталина), передав его ставленнику Хрущева Шепилову. Несколько дней спустя Каганович оставил пост председателя Госкомитета по ценам. Оба остались в Президиуме, однако их отставки ясно показывали, что Хрущев пережил бурю. Переговоры Хрущева с Тито прошли великолепно, начиная с импровизированного визита двух руководителей в кафе-мороженое на улице Горького (причем оказалось, что у обоих нет в кармане ни копейки) и вплоть до роскошного приема, на котором все советские руководители, не исключая и Молотова, во всеуслышание порицали Сталина за его обращение с Югославией, а также поездки в Сталинград и на Черное море, куда Хрущев лично сопровождал Тито 71. Однако триумф был лишь внешним; югославы отвергли давление Хрущева, направленное на сближение Югославии с Россией. А через два дня после отъезда Тито рабочие в польском городе Познань начали восстание под лозунгом «Хлеб и Свобода», окончившееся лишь после гибели по меньшей мере пятидесяти трех человек, расстрелянных польской армией 72. Пять месяцев спустя аналогичные, но гораздо более страшные события развернулись в Венгрии.
Истинные корни послевоенных беспорядков в Восточной Европе лежали в глубоко укоренившейся среди поляков и венгров неприязни к русскому правлению, и особенно – к навязанной им после Великой Отечественной войны власти Сталина. Ни в одной из этих стран коммунисты не смогли бы прийти к власти в результате честных выборов. Коммунистическое руководство Польши, возглавляемое Болеславом Берутом, старалось смягчить худшие стороны сталинизма, включая насильственную коллективизацию, и воспротивилось физическому уничтожению репрессированного коммунистического лидера Владислава Гомулки. Венгр Матьяш Ракоши действовал иначе – он подражал Сталину во всем, в том числе и в организации показательного процесса и казни своего соперника Ласло Райка.
После смерти Сталина польский и венгерский режимы зашатались. Варшавское руководство некоторое время оставалось неизменным – это дало ему время и возможность приспособиться к новшествам без особых потерь для себя. Ракоши Москва позволила остаться у власти, но навязала ему в качестве премьер-министра либерально мыслящего Имре Надя. Ракоши составил заговор с целью изгнания Надя из правительства и в 1955 году, сыграв на падении Маленкова в Москве, преуспел. Обвиненный, подобно Маленкову, в «правом уклонизме» Надь был изгнан из правительства и из партии; однако в результате Венгрия превратилась в пороховую бочку, к которой поднес спичку секретный доклад Хрущева 73.
Впервые Хрущев познакомился с лидерами обоих государств в 1945 году, затем несколько раз посетил Польшу. И Польшу, и Венгрию он неплохо знал, и ему казалось, будто то, что хорошо для СССР; будет хорошо и для них. Во время своего визита в Варшаву в 1955-м он попытался убедить поляков пустить четыре миллиона акров под кукурузу. «Можете мне поверить, – вспоминал позже заместитель министра сельского хозяйства Стефан Сташевский, – Политбюро буквально впало в отчаяние». Особенное уныние навел на них красочный рассказ Хрущева о своей бабушке, у которой росла замечательная кукуруза; «у вас ведь у всех есть бабушки», говорил он польским колхозникам и агрономам. Когда одна польская специалистка по агрокультуре возразила, что Хрущев напрасно разговаривает с ними, словно с ничего не знающими невеждами, тот взорвался и начал кричать Сташевскому, который ему на этой встрече переводил: «Слышите?! Слышите, что они говорят?! Вот вам поляки: всегда думают, что все знают лучше всех!» 74
Консультироваться с иностранными руководителями перед оглашением секретного доклада Хрущев не стал. Как сам он позже признавал, «особенно болезненно доклад был воспринят в Польше и Венгрии». Польский руководитель Берут читал доклад, лежа с воспалением легких в кремлевской больнице. У него произошел сердечный приступ, и 12 марта он умер. (Интересно, что и сам Хрущев в то время болел. «Только я оказался сильнее его», – говорил он позже Сташевскому 75.) Доклад «грянул словно удар молотком по голове», – вспоминал преемник Берута Эдвард Охаб. Польские партсобрания, на которых он зачитывался, превращались в антисоветские и антирусские митинги 76.
Заигрывания Хрущева с Тито, который был с венгерским лидером на ножах, подорвали авторитет Ракоши еще до XX съезда, а секретный доклад едва его не прикончил. Хотя Хрущев позже признавал, что было «большой ошибкой» «полагаться на этого идиота Ракоши», Москва позволила ему оставаться на своем месте до лета. Волнения, вызванные докладом Хрущева, в июне выкристаллизовались в бурное собрание в «Кружке Петефи», интеллектуальном форуме, который организовал Ракоши в марте того же года для партийной молодежи, но который скоро превратился в центр оппозиции; на заседании 27 июня, которое советские руководители позже называли «идеологической Познанью» и «Познанью без оружия» (имея в виду июньские волнения в Польше), была принята резолюция, осуждающая сталинизм 77. На заседании Президиума 12 июля его члены клеймили события в Познани и в «Кружке Петефи» как «идеологическую диверсию империалистов», призванную «разделить [социалистические страны] и уничтожить их по очереди». На следующий день в Будапешт срочно вылетел Микоян. Он рекомендовал Ракоши выйти в отставку; по решению Политбюро его сменил Эрне Гере, впрочем, не более Ракоши способный удержать власть в стране 78.
Следующие четыре месяца волнения в Польше и Венгрии продолжались, не давая покоя Хрущеву и его коллегам. Ставки были высоки и поднимались все выше. Однако советские руководители не видели выхода. Позволить событиям развиваться своим чередом значило привести к крушению социалистического строя; оккупировать Польшу и Венгрию – дискредитировать коммунизм. Кремлевские соперники Хрущева возлагали всю вину на него. Он отчаянно стремился разрешить кризисы, вызванные десталинизацией, продолжая десталинизацию. Провал этой линии означал бы немалый риск и для него самого.
Уже в марте 1956 года беспорядки в Польше потребовали личного присутствия Хрущева. Он отправился в Варшаву на похороны Берута и оставался там, пока ЦК польской компартии не выбрал Беруту преемника. «Мы думали, – замечает по этому поводу Сташевский, – что свободного времени у генерального секретаря великой партии не так уж много». Однако Хрущев не только оставался в Польше гораздо дольше, но и говорил гораздо больше необходимого: он старался объяснить полякам, почему начал десталинизацию, обращаясь не столько к ним, сколько к самому себе, пытаясь говорить в терминах морали, но постоянно сбиваясь на политические клише, беспрерывно противореча самому себе, как только речь заходила о его личных отношениях со Сталиным.
«Мы освободили тысячи, десятки тысяч, мы реабилитировали своих друзей, – гордо начал он. – А потом – что мы могли им сказать? Просто отводить глаза и говорить, что ничего особенного не случилось?.. Мы решили зачитать весь доклад членам комсомола, восемнадцати миллионам молодых людей с горячими сердцами; если они не будут знать всего, то не поймут нас, просто не поймут. А также собраниям рабочих, не только членам партии, но и беспартийным, чтобы они почувствовали, что мы им доверяем… Вот почему растет солидарность народа с ЦК… И в результате этой нашей работы, товарищи, – я абсолютно в этом уверен, в сущности, головой за это отвечаю, – мы добьемся беспрецедентного смыкания и рядов внутри партии, и людей вокруг нашей партии.
Это была трагедия, – продолжал он, говоря о сталинских временах. – Если вы спросите, товарищи, как мы теперь оцениваем Сталина, кто такой был Сталин, что он из себя представлял, был ли он врагом партии и рабочего класса – ответ „нет“, и в этом-то, товарищи, и заключается трагедия. Это был не враг – это был жестокий человек, убежденный, что вся его жестокость, несправедливости, злоупотребления, все, что он творил, было необходимо для партии. – А через несколько минут, разведя руками, воскликнул: – Не знаю, не понимаю! Черт его знает, как объяснить гибель стольких людей!
Что бы вы сделали, товарищи, – спросил он дальше у своих слушателей, – если бы вам прислали подписанные признания? Что бы вы сказали, прочтя их? Вы были бы в негодовании. Вы бы сказали: да, это враг народа. [Голос из зала: „Нет!“] Нет? Нет, товарищи? Говорите, вы бы так не подумали? Что ж, я не обижаюсь. Потому что вы это говорите в 1956 году, после моего доклада. Как говорится, на ошибках учатся». Если бы он, Хрущев, стал защищать жертв Сталина при его жизни, «меня самого объявили бы врагом… Если ты с ним [со Сталиным] не ешь и не пьешь – значит, враг. Если бы он не был так опасен, мы бы его давно привели в чувство – сказали бы: слушай, голубчик, хватит пить, иди работай, на нас весь народ смотрит. Почему мы не действовали раньше? Товарищи, у меня маленький внук, он все время спрашивает, почему то, почему это. Знаете, были обстоятельства, с которыми приходилось считаться…».
И снова возвращаясь к Сталину: «Думаете, он был глупее нас? Нет. Умнее нас? Как марксист, он был сильнее. Надо отдать ему должное, товарищи. Но Сталин был больной человек, он злоупотреблял властью». И все же «он всем сердцем и душой хотел служить обществу. В этом я абсолютно убежден. Вопрос в путях и средствах. И это отдельный вопрос. Как увязать все это вместе? Сложно ответить. Очень сложно. Каждый должен все это сам переварить… Мы сейчас пересматриваем темную сторону истории. Но, товарищи, Сталин – хотел бы я рассказать о его светлой стороне, о том, как он заботился о народе. Это был настоящий человек, революционер. Но у него была мания, понимаете, мания преследования. Вот почему он не мог остановиться, казнил даже собственных родственников» 79.
Хрущев проговорил несколько часов. Надеясь, что он наконец уедет, поляки объявили двухчасовой перерыв. Хрущев остался. Подали чай. В ответ на вопрос об отношении Сталина к евреям Хрущев с неожиданным одобрением отозвался о «процентной норме», негласно принятой в Советском Союзе и ограничивающей число евреев на высоких постах. Этот вопрос сам по себе являлся табу, пишет Сташевский; но Хрущев «начал говорить об этом так, что мы чуть не попадали с кресел». «У нас два процента, – брякнул он, – в министерствах, в университетах, везде – два процента евреев. Вам нужно это знать. Я не антисемит, и у нас есть министр-еврей… и мы его уважаем, но всему есть предел». В этот момент экономист Хиларий Минц, еврей, наклонившись к Сташевскому, прошептал «с ужасом в голосе»: «Остановите его, ради бога, прекратите это, он же ничего не понимает, ничего! Прекратите это!» 80
Хрущев не замечал чувств, обуревавших его слушателей – «голубчиков», как он один раз обратился к ним в своей речи. Много раз он хвастал своей способностью читать по лицам – однако сейчас не вглядывался в них, не понимая, что его болтливая откровенность не укрепляет империю, а лишь усиливает тенденции, грозящие ее разрушить.
В июне, после познаньского мятежа, польские коммунисты впали в отчаяние. В октябре они приняли решение избрать главой государства недавно выпущенного из тюрьмы Гомулку и снять советского маршала Константина Рокоссовского, которого Москва навязала им в качестве министра обороны. Гомулка поднялся «на волне антисоветизма, – вспоминал Хрущев. – Польша могла отколоться от нас в любой момент». Понимая, что «времени терять нельзя», он потребовал себе приглашения в Варшаву 81. Поляки отказались, однако 19 октября в 7.00 утра в Польшу вылетела делегация в следующем составе: Хрущев, Молотов, Каганович, Микоян, Жуков, командующий объединенными военными силами стран – участниц Варшавского договора маршал Конев и еще одиннадцать советских генералов. Присутствие Молотова и Кагановича ясно показывает, насколько был подорван кризисом авторитет Хрущева. В аэропорту, по словам Хрущева, произошла «бурная сцена». Если верить полякам, это еще мягко сказано.
Зная свой характер, Хрущев попросил говорить от имени советской стороны Микояна; однако, выйдя из самолета и увидев, что Рокоссовский держится в стороне от поляков, а те демонстративно не обращают на него внимания, он взорвался. «Он еще издали начал грозить нам кулаком», – рассказывает Охаб. Подойдя ближе, Хрущев «стал размахивать кулаком у меня перед носом». Он кричал: «Мы знаем, кто здесь враг советской власти! Нам уже известно, что Охаб – предатель! Этот номер у вас не пройдет!» Позже Гомулка заметил своим коллегам: «Это за пределами моего понимания. Весь разговор шел на таких повышенных тонах, что его слышали все, кто находился в аэропорту, даже шоферы» 82.
Все еще крича, Хрущев вошел во дворец «Бельведер», где советской делегации пришлось почти два часа ждать, пока в соседнем зале соберется польский Центральный Комитет. Поляки демонстрировали, что не желают видеть русских, и Хрущев воспринимал это «как плевок в лицо». После провала советско-польских переговоров (если это можно так назвать) 83советские войска двинулись на Варшаву. Поляки в ответ мобилизовали собственные силы безопасности. У Гомулки, вспоминал позже Хрущев, «пена на губах появилась» – но он все-таки сумел выдавить из себя нужные слова: «Товарищ Хрущев, прошу вас остановить движение советских войск. Вы думаете, что только вы нуждаетесь в дружбе с польским народом? Я как поляк и коммунист клянусь, что Польша больше нуждается в дружбе с русскими, чем русские в дружбе с поляками. Разве мы не понимаем, что без вас мы не сможем просуществовать как независимое государство? Все будет у нас в порядке, и вы не допустите, чтобы советские войска вошли в Варшаву, потому что тогда будет сверхтрудно контролировать события» 84.








