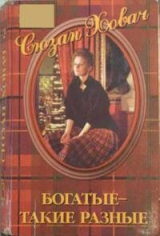
Текст книги "Богатые — такие разные.Том 2"
Автор книги: Сьюзан Ховач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 30 страниц)
Я слушала по радио Черчилля, как и все мы. Его голос был для нас гласом девяти столетий, простиравшихся за нашими спинами в полном испытаний коридоре времени. За прошедшие девять веков на нашу землю не ступала нога завоевателей.
В субботу, двадцать пятого мая, я залила в бак автомобиля остатки бензина и поехала на ленч к Джеффри. Находиться в Мэллингхэме мне было просто невыносимо, но и по возвращении домой меня не оставляла тревога. Джордж ушел на чай к какому-то приятелю. Дом был пуст и, казалось бы, располагал к спокойствию, но ко мне вновь вернулось обычное беспокойство, и я снова вышла, села в парусную лодку и отправилась по Мэллингхэмскому озеру. Погода была прекрасная, дул устойчивый и не слишком сильный ветер. Поверхность воды искрилась солнечными бликами, над зарослями камыша щебетали птицы. Я доплыла до плотины и даже подумывала, не пойти ли дальше, в сторону Хореи Миар, но инстинкт подсказал мне, что следовало вернуться домой.
Я увидела его еще с середины озера.
Он сидел на террасе. Он ждал меня, совсем как я когда-то ждала его, и внезапно весь мой страх уступил место облегчению от сознания того, что нашему ожиданию приходил конец.
Он был одет в безупречный черный костюм.
Ветер шевелил мои волосы, и, почувствовав прилив бодрости, я решительнее, чем когда-либо, маневрировала парусом, и лодка, подпрыгивая, победно неслась по сверкавшей поверхности озера. Сойдя на причал, я привязала лодку и ненадолго задержалась, глядя на парившую в небе чайку. На мне были поношенные широкие брюки, свитер-джерси и никакого макияжа, но мне и не нужно было ничего другого, ведь я была на своей земле, передо мной за лужайкой высился мой дом, источник всех моих радостей и трагедий, стоявший здесь уже больше шести веков, полностью сохранившийся, нетронутый временем, мерцавший под дымкой прекрасного дня поздней весны.
Я откинула назад волосы, выпрямилась и повернулась лицом к террасе.
Не двигаясь мы окинули друг друга долгими взглядами, и я пошла через поляну к нему.
Он встал и снял шляпу. В его светлых волосах путались лучи солнца, превращая их в чистое золото.
Я уверенно шагала по поднимавшейся к дому поляне, глядя мимо него на стены, построенные моими предками во времена, когда на месте Америки расстилалось царство дикой природы. Дойдя до террасы, я поднялась на шесть ступенек и оказалась рядом с ним. Мы были совершенно одинакового роста, и мне показалось, что это странное сходство символизировало не только физическое подобие, но и то, что мы оба наследники Пола, поставившего наконец нас лицом друг к другу череп четырнадцать лет после своей смерти.
Я стояла, не шелохнувшись. Нарушив эту немую картину, он шагнул ко мне, и я увидела утраченную невинность в чертах сто романтического лица поэта и тень продажности, говорившую о том, что продаться он мог только самой устрашающей силе.
– Мисс Слейд, – проговорил он.
Это был не просто промах, а рассчитанная оговорка, и я поняла, что он всегда думал обо мне, как о мисс Слейд, совершенно так же, как я всегда называла сто про себя по имени.
Мы так долго, так долго знали друг друга…
– Добро пожаловать в Мэллингхэм, Корнелиус! – приветствовала я его самым светским тоном. – Пойдемте же в дом… Могу ли я предложить вам чаю?
Он одарил меня очаровательной мальчишеской улыбкой.
– О, благодарю вас! – ответил он голосом, привлекавшим чистейшим американским произношением. – Это было бы совсем не плохо.
Первое соприкосновение резко оборвалось. Мы вошли в дом, и началась наша последняя схватка.
Глава седьмая
Мы были зачарованы друг другом. После долгих лет кривотолков желание сравнить плоды нашего воображения с действительностью было непреодолимо, и мы оба поддались этому соблазну.
Наконец Корнелиус рассмеялся.
– Может быть, нам следовало потратить эти первые пять минут на то, чтобы рассмотреть друг друга под микроскопом! – заметил он, и уже одно это замечание выявило пропасть между жившим в моем воображении его образом и реальным человеком.
Никто никогда не говорил мне о том, чтобы у Корнелиуса было хотя бы что-то похожее на чувство юмора.
Ни одна из фотографий его каменного лица не отражала действительности. Они прекрасно повторяли его изящные скулы, невероятный оттенок его волос и прелесть его серых глаз за черными ресницами, но на них не было и намека на искры его иронического ума и абсолютную мужественность. Мужчины могли находить его женоподобным, но можно было с уверенностью сказать, что пи одна женщина никогда не допустила бы такой ошибки. Роста он был действительно невысокого, но сложен превосходно. Будь он голливудским актером, было бы достаточно подобрать для него невысокую кинозвезду, и любая женщина в зале поклялась бы, что в нем все шесть футов.
Что больше всего меня нервировало, так это хотя и не полное, но несомненное фамильное сходство с его дядей-дедом. Я узнавала не только красивые прямые губы Пола, но и таинственную уверенность сто движений, природное изящество атлетической мускулатуры. Подобно своему приятелю, Сэму Келлеру, он был невероятно привлекательным мужчиной.
Я внезапно вспомнила, что на мне широкие штаны и грязный пуловер и что я, вероятно, своим видом напоминаю ему обломок упавшей звезды.
– Мы выпьем чаю наверху, в моей гостиной, – сказала я. Извините меня, я должна распорядиться. – Я оставила его в холле и отправилась на кухню в поисках миссис Окс. Потом я провела его в гостиную и извинилась снова: Я никогда не принимаю гостей в штанах, и мне нужно переодеться. Я оставляю вас не больше чем па пять минут. Присаживайтесь, пожалуйста.
Я оставила его наедине с фотографиями Пола, Стива и детей и, добравшись до своей комнаты, замерла, припав спиной к двери, чтобы перевести дыхание. Впервые с тот момента, как увидела Корнелиуса, я почувствовала страх, но овладела собой и стала переодеваться. К косметике я едва прикоснулась, но заплела в пучок волосы и надела обычный костюм деловой женщины – классический гладкий черный жакет, сшитый у портного, юбку и белую шелковую блузку. На шею нацепила нитку жемчуга. Я машинально надела пару туфель на высоком каблуке, но, к счастью, вспомнила о его росте и тут же их скинула. Не следовало заставлять его чувствовать себя неловко. Я все еще пыталась отыскать в шкафу туфли без каблука, когда услышала, как миссис Окс прошла в гостиную с подносом.
Войдя в комнату через пару минут, я уже не застала там миссис Окс. На столе стоял внушительный серебряный чайник, а Корнелиус рассматривал мою самую любимую фотографию Элфриды.
– Ваша дочь очень мила, – проговорил он. – По-моему, они почти ровесницы с моей девочкой.
– Кажется, Элфрида чуть старше Викки. – Я уселась и стала разливать чай, обратив внимание па то, как он мимоходом взглянул на фотографии моих сыновей. Фотографии Пола и Стива были у него за спиной. Вы приехали повидаться с Тони? – спросила я, когда он опустился на софу напротив меня.
– Нет, я приехал повидаться с вами, – с улыбкой отвечал Корнелиус. – Я должен извиниться, что не позвонил перед приездом, но чувствовал, что вы сможете принять меня без предупреждения. Кстати, как дела у Тони?
– Очень хорошо. Я подумала, что, может быть, Эмили попросила вас убедить его вернуться в Америку.
– Она просила, но я не намерен делать ничего подобного. Я рад, если Тони здесь хорошо. В Штатах ему, разумеется, было плохо, и, честно говоря, мне было его жаль. Я сделал все, что мог, но ему не стало лучше.
– Как странно – не правда ли? – заметила я, подавая ему чашку, – что вам пришлось заботиться о детях Стива.
– О, со Скоттом проблем не было. Что же до девочек… – он пожал плечами, демонстрируя этим не то чтобы безразличие, а, скорее, спокойную невозмутимость. – Поскольку брак Эмили со Стивом был на моей совести, вполне естественно, что я должен нести ответственность за его результаты. «Жернова Господни мелют медленно, – неожиданно добавил Корнелиус, – но чрезвычайно мелко. Он ждет терпеливо, но перемалывает все до последнего зернышка».
– О, да, – согласилась я. – Это из «Синнгедихте» Фридриха фон Логау. Перевод Лонгфелло всегда казался мне очень тяжеловесным… Вы давно в Англии?
– Двадцать четыре часа. Я приехал вчера после долгого, лишенного комфорта путешествия из Германии, где мне пришлось разорвать некоторые связи, которые в прошлом году Сэм опрометчиво завязал в Европе. – Корнелиус вздохнул. – Как это ни неприятно, я должен был это сделать. Я не говорю по-немецки, там никто не хотел говорить по-английски, и все приходили в ужас, думая, что я шпион, бежавший из концлагеря. Все это было очень утомительно. Я даже не мог получить свежего апельсинового сока к завтраку, – раздраженно заметил он.
– Но почему вы не послали Сэма исправлять его собственные ошибка?
– Я подумал, что ему будет лучше остаться дома, сохраняя нейтралитет. – У Корнелиуса был угрюмый вид. – Я больше всего боялся, что если бы Америка вступила в войну, то его бы сразу же интернировали. Один Бог знает, что бы я делал без Сэма в доме на углу Уиллоу и Уолл-стрит. Мне и думать об этом не хочется.
– Стало быть, вы предвидите, что Америка вступит в войну?
– Но ведь мы обычно поступали именно так, разве нет? В конце концов, мы в нее ввяжемся. Единственная разница между этой войной и предыдущей в том, что после нынешней Pax Britannica станет трупом, и забрезжит рассвет Pax Americana. – Он задумчиво потянул чай. – Европа превратится в музейный экспонат, – продолжал он, – но, возможно, по-прежнему будет пространством для американской экономической экспансии. Я подумываю о том, что, в конечном счете, займусь инвестициями в индустрию туризма. У вас такие замечательные старые здания, поистине совершенно необычные. Я могу понять, почему вы тратите столько времени, оглядываясь на прошлое, вместо того, чтобы сосредоточиться на настоящем и готовиться к будущему.
– Мы – это завтрашнее прошлое, – отвечала я, доставая сигарету, – а будущее не больше, чем продолжение того, что происходило раньше… У вас есть спички?
– Я не курю.
Но Корнелиус вскочил на ноги, взял коробок с каминной доски и поднес горящую спичку к моей сигарете.
Мы сквозь огонь посмотрели друг на друга.
– Почему вы явились сюда? – спокойно спросила я, когда спичка погасла.
Положив спички обратно, он помолчал у каминной доски.
– О, вы не поверите, – печально проговорил он, – но я приехал, чтобы еще раз помахать оливковой веткой мира.
– Все той же оливковой веткой?
– Именно той же самой. Послушайте, Дайана, этот дом никому не нужен, и теперь, когда Стив умер, я считаю все это печальное дело закрытым. Извините меня, может быть, мне следовало бы выразить свои соболезнования, но в этих обстоятельствах я действительно считаю их неуместными. Я ненавижу лицемерие, – сказал Корнелиус, глядя мне прямо в глаза своими затененными черными ресницами серыми глазами, – и не хотел бы оскорблять ваши чувства словами о том, как я был огорчен известием о Стиве.
– Понимаю.
– Мне жаль, что вы сравниваете эту случайную смерть в катастрофе с самоубийством Джейсона Да Косты. Я действительно считаю, что их сравнивать нельзя. Однако… – Он откашлялся, прочищая горло, – я согласен с тем, что у вас есть основания сердиться на меня, и мне хотелось бы сделать все, что я могу, чтобы изменить ситуацию. Вы не можете не быть озабочены судьбой ваших детей и опасностью неминуемого вторжения немцев. Кроме того, может быть, у вас есть и финансовые затруднения. Так вот, я могу сказать, что у вас больше нет необходимости обо всем этом беспокоиться… достаточно одного вашего слова, и я устрою вам отъезд из этой страны и работу в Америке до окончания войны. Я знаю, что мы могли бы делать большие деньги, если бы работали вместе, и предлагаю вам встретиться на этой неделе в Лондоне, чтобы с помощью наших адвокатов подготовить соответствующее соглашение. Позвольте мне еще раз заверить вас в том, что мое предложение о создании для вас новой фирмы в Нью-Йорке является вполне добросовестным и честным.
Я поднялась на ноги перед Корнелиусом. Он распрямил спину и слегка оперся на каминную доску.
– Я могу выбирать? – спросила я.
– О, разумеется! Вы можете сказать «да»: Или можете сказать «нет». Но, – заметил Корнелиус со вздохом, отойдя к окну и уставившись на Мэллингхэмское озеро, – я действительно не советовал бы вам говорить «нет». – Он провел указательным пальцем по стене и еще раз вздохнул. – Такой восхитительный, такой очаровательный дом, – продолжал он. – Мне бы не хотелось, чтобы с ним что-нибудь случилось, Дайана, в самом деле, не хотелось бы. Надеюсь, что он переживет войну.
Я была абсолютно спокойна. Он как во сне повернулся ко мне. Движения его были томными, а прекрасные глаза сияли. Он был отравлен своим триумфом, упивался своей властью.
Я, наконец, проговорила:
– Как я могу быть уверена в том, что он переживет войну?
– Я могу организовать тщательный уход за ним на время оккупации.
– О, но немцы сюда не придут, – возразила я. – Разве вы этого не поняли?
– Расскажите об этом английской армии во Франции! Но вам действительно не придется ни о чем беспокоиться, Дайана, – проговорил Корнелиус, извлекая из внутреннего кармана пиджака длинный коричневый конверт.
Потом его вскрыл. Он вынул из него документ о передаче права собственности на Мэллингхэм. И стал непринужденно обмахиваться им, не спуская с меня глаз.
– Не могу ли я налить вам еще чашку чая? – учтиво спросил он, когда я опустилась в кресло.
Я не ответила. Он налил чай нам обоим, тщательно упрятал документ обратно в карман и снова уселся напротив меня на софу.
– Если я соглашусь на ваше предложение уехать в Америку, – спокойно спросила я, наконец, – гарантирует ли это сохранность Мэллингхэма?
– Естественно, Дайана! И если дела пойдут хорошо, я даже передам вам право собственности. Но это, разумеется, – улыбнулся мне Корнелиус, – будет зависеть от того, насколько… покладисты вы будете в Нью-Йорке.
Я увидела выражение его глаз и прочла его мысль с такой же легкостью, как если бы это была надпись на рекламном щите высотой в пятнадцать футов. Это не было наивным желанием следовать по стопам Пола. Это было приемом сексуального подавления ради мести. Он подверг бы меня в Нью-Йорке унижениям, опозорил бы перед моими детьми, и все равно превратил бы Мэллингхэм в руины. Никакие его обещания не гарантировали бы мне сохранность моего дома.
Я всегда думала, что меня охватит ужас, когда я получу неопровержимые свидетельства его окончательного плана.
Но теперь с удивлением обнаружила, что точное знание о нем неожиданно придало мне смелость. Я всегда была полна решимости перехитрить Корнелиуса, теперь же во мне укрепилась фанатическая убежденность в том, что я не позволю ему меня раздавить.
Такие люди, как Корнелиус Ван Зэйл, заслуживали публичного унижения. Я никогда не смогу позволить ему восторжествовать над собой. Это было бы возмутительным оскорблением.
Я подумала о «Возмездии» сэра Ричарда Гренвилля, призывавшего своих людей к борьбе, и улыбнулась.
– Дорогой Корнелиус! – воскликнула я. – Вот это предложение! Как это похвально! Мне никогда раньше не делал предложения красавец-миллионер моложе меня на семь лет! Я положительно чувствую себя помолодевшей! – Он продолжал пристально смотреть на меня, а его жесткий, узкий ум рассчитывал шансы на успех, проницательно оценивая мельчайшие детали. Он вовсе не был простаком, которого легко одурачить. С падающим сердцем я заставила себя простодушно посмотреть на его крепкие скулы, обтянутые бледной кожей, на жесткую линию рта и заглянуть в ледяные, как камень, серые глаза. – Но стоит ли мне этому удивляться? – иронически добавила я. – Вы же всегда верно следовали по стопам Пола, разве не так?
– Пол умер, – возразил он, и на какую-то долю секунды мне стало видно через окно его глаз, в полном мраке, всю сложную путаницу его чувств, вызванных этой утратой.
У меня было такое ощущение, словно я увидела какое-то ужасное увечье. Пытаясь справиться с потрясением, я с большим трудом погасила сигарету, разгладила юбку на коленях и отпила чай.
– Когда мы можем встретиться в Лондоне, чтобы подписать это соглашение? – резко спросила я.
Его успокоил деловой тон моего голоса.
– В понедельник? – предложил он, машинально скрестив ноги.
– Боюсь, что мне не удастся уехать отсюда раньше вторника. Вы сможете подождать?
– Я уверен, что дело стоит того, чтобы подождать! – галантно ответил Корнелиус с наилучшей мальчишеской улыбкой. – Может быть, мы после этого пообедаем вместе? Я остановился у американского посла, но, может быть, стоит снять на один вечер номер в «Клариджез». Мне кажется, что новое партнерство заслуживает небольшого торжества.
– Превосходно! – отозвалась я. – Но что, если я предложила бы номер в «Савое»? Оттуда так приятно ранним утром смотреть на реку, встречая солнце, восходящее за собором святого Павла.
Я достала Корнелиуса. Я видела, как очарование вползало обратно в его глаза, обнажая животный интерес и плохо скрываемую похоть.
– Я не против, – ответил он.
Я задержала на лице улыбку и поднялась на ноги.
– Я спущусь вниз, чтобы увидеть, как вы уезжаете, – решительно объявила я. – Вам предстоит долгий путь в Лондон.
Он вручил мне карточку поверенных банка «Ван Зэйл» в гостинице «Линкольн».
– Вас устраивает – в два тридцать, во вторник, по этому адресу? Я приду к этому времени, если вы не сообщите об изменениях.
– Хорошо. Это прекрасно.
Крепко зажав карточку в руке, я проводила его вниз и потом через холл до входной двери.
В начале аллеи его ждал лимузин с шофером.
– Машина из посольства, – объяснил Корнелиус, помолчав перед прощанием. – Посол принял меня очень гостеприимно.
Он протянул мне руку. Я пожала ее без колебаний. Ощутив, как по телу побежали мурашки, я подумала про себя, что то была моя первая и последняя встреча с Корнелиусом.
– Пока, Дайана. Было прекрасно, наконец, с вами встретиться. Я рад, что мы можем работать вместе.
– До вторника, Корнелиус! – Я посмотрела, как он отъехал, и, когда автомобиль скрылся из виду, медленно повернулась лицом к дому.
Я смотрела на дом, пока не почувствовала боль в глазах от ослепительного солнца. А когда контуры дома стали расплываться, перед моим мысленным взором четко возникла лишь цитата из «Возмездия», когда-то давно выписанная Полом на форзаце томика Теннисона. Я почти на ощупь вошла в дом, и все время, пока медленно шла в библиотеку, в моих ушах звенел голос Пола:
«Утопи мой корабль, шкипер Ганер, – утопи его, расколи его надвое!
Отдадимся в руки Господа, но не Испании!»
Я долго раздумывала над этой цитатой, а потом, много позже, когда часы в холле пробили полночь, а я все еще в тревоге ходила вокруг дома, мое сознание замкнулось на определенном решении, и я поняла, что обратного пути не было. Прошло уже несколько часов, я перестала плакать и теперь была совершенно спокойна. Я с поразительной ясностью видела прошлое, настоящее и будущее, и в их слиянии мне открылись истины, которые я никогда раньше к себе не подпускала, и идеалы, которые считала умершими. Но теперь знала, что они способны ожить и наполнить мое решение смыслом.
Я думала о Мэллингхэме. Даже если бы мне удалось каким-то образом спасти его от Корнелиуса, что сталось бы с ним в этом смелом, новом мире Pax Americana, с таким наслаждением предсказанном Корнелиусом? Война всегда вызывает громадные социальные потрясения. Я слишком хорошо помнила послевоенный мир начала двадцатых годов, чтобы не понимать, какое будущее ожидает Европу, снова оказавшуюся в руинах. В ней будут царить нищета, безработица и всеобщее стремление разграбить уцелевшее от войны достояние. Потом возьмет свое социалистическая, если не коммунистическая, партия, и мы узнаем, что такое уравниловка, станем свидетелями крестового похода против унаследованных состояний, искоренения аристократии, безразличия, а то и прямой враждебности к уцелевшим сельским имениям. По натуре консерватор, я с глубокой тревогой всматривалась в эту перспективу, но как социалистка, приняла ее давно и покорно. Величие Англии было построено в предшествовавшие столетия тяжелым трудом миллионов, на радость удачливому меньшинству, но в двадцатом веке эти миллионы неизбежно должны потребовать равенства. И что тогда будет с Мэллингхэмом? Его реквизирует государство? Или его снесут с лица земли и построят на этом месте бунгало для пролетариата? А может быть, Мэллингхэм превратят в многоквартирный дом? Или в отель? Я ясно понимала, что если Мэллингхэм не разрушат ни Корнелиус, ни немцы, то будущие англичане сделают это почти наверняка. Все изменяется. Ничто не вечно. Долгая, блистательная жизнь Мэллингхэма подошла к концу, и мой долг, долг последней Слейд, на которой лежала вся ответственность за этот дом, увидеть, как он умрет, не бесславно, но достойно и величественно.
Думая о Мэллингхэме, я не могла не думать и о себе. Я понимала, что компромисса с Корнелиусом быть не может. Но даже если бы Корнелиуса и не было, разве смогла бы я вернуться к захватывающей мысли о создании второго состояния, которое позволило бы спасти Мэллингхэм от разрушительной силы изменившегося социального строя? Я умела делать деньги. Я уже давно доказала себе это. Но я доказала себе и то, что, жертвуя временем и способностями в погоне за деньгами, я мало видела своих детей, еще меньше этот вот самый Мэллингхэм и растеряла те идеалы, в которые начинала верить со всей страстностью своей матери. Меня привели в такой ужас обстоятельства смерти матери, и я потратила годы на то, чтобы расстаться с ее идеализмом, по, как и говорила Стиву, теперь я смотрела на се борьбу по-иному. Отделив то, за что она боролась, от риторики, очистив от эмоционального сексуального раскольничества, я поняла, что боролась она не столько за избирательное право, сколько за справедливость, за равенство перед законом, за принципы, которые отстаивал Перикл двадцать пять столетий назад, применяя их не к какому-то одному полу, а ко всему человечеству. Я не хотела всю оставшуюся жизнь бить поклоны перед алтарем Мамоны, а хотела работать во имя этих идеалов демократии. Не хотела постоянно жертвовать собой ради Мэллингхэма, а хотела состояться как личность, приносящая пользу другим. Наконец, я хотела, чтобы мои дети росли, не считая меня жаждущей денег незнакомкой, готовой продать свою душу за этот дом, а видя во мне спокойного, близкого человека, с непродажными идеалами, чью любовь не мог бы разрушить никакой цинизм.
Я думала о предсмертных словах Стива: «Мэллингхэм – это как банк, Дайана, он нереален, не воплощен во плоти и крови».
Стив знал истину.
Я слышала решительный голос Элана – голос Пола: «Погоня за деньгами ради самих денег нравственно недопустима, и идеологически отвратительна».
Пол вполне мог в свое время сказать то же самое, но, когда я его узнала, он слишком глубоко увяз в зыбучих песках своей морали, чтобы свободно бороться. Он утратил способность к борьбе с продажностью, и именно поэтому оставил меня в Мэллингхэме еще до рождения Элана. Но я не растерялась. Я была так же глубоко, как и он, втянута в гонку за состоянием и властью, но мне повезло в том, что удалось освободиться от этих зыбучих песков, совершенно так же, как ему повезло встретиться со мной. Потом он упустил этот шанс, и, в конце концов это его уничтожило. Но я смогла сохранить свой шанс и была готова им воспользоваться. Я так и поступила, и выжила.
Пусть Корнелиус держится за свое богатство и за власть! Пусть живет в окружении богов, выбранных им самим! Но перед тем как наши пути навсегда разойдутся, я покажу ему, что против меня он бессилен, и что ни за какие богатства на свете ему не купить мести, о которой он мечтал.
Я должна была победить. Теперь я это знала. Я была на пути к победе, и ничто не могло повернуть меня вспять.
Это понимание меня преобразило, и, встречая рассвет над Мэллингхэмским озером, я с наслаждением разработала план своей великой победы над Корнелиусом.
Пожар, разумеется, будет выглядеть как несчастный случай. Я вовсе не хотела навлечь на себя обвинение в поджоге с целью уничтожения дома, который юридически мне не принадлежал. Однако Корнелиус поймет, что пожар не был случайным. В этом-то и был гвоздь всего плана. Он поймет это, но никогда не сможет доказать, и всю оставшуюся жизнь будет сознавать, что, хотя и является владельцем нескольких акров пепелища в Норфолке, но так и не получил, и никогда не получит пи одной частички меня.
Не помню, когда я подумала о радиоприемнике Элана, с его поврежденным проводом. Должно быть, эта мысль пришла мне в голову в какой-то момент за завтраком, потому что, когда я покончила с кофе, есть я ничего не могла, – то пошла в его комнату, где на столе стоял приемник. В свернутый провод была вложена записка: «Мама, не забудь, пожалуйста!»
Но я забыла. Все выглядело так, как будто я знала, что воспользуюсь приемником, но, разумеется, знать этого не могла.
Я воткнула провод в розетку и стала ждать. Через десять минут я почувствовала запах гари, когда начал тлеть шнур. Тут же выключив приемник, я выдернула вилку, уничтожила записку Элана и унесла приемник в свою гостиную на втором этаже.
Потом я сошла вниз, чтобы переговорить с Нэнни и миссис Окс.
– Будет лучше, если вы увезете Джорджа на Запад, ведь немцы уже почти вышли па французский берег, сказала я Нэнни. – Лэди Гэрриет давно предлагала мне поселиться в ее коттедже в Кройд Бич, и я сейчас позвоню ей, чтобы убедиться в том, что он свободен. Думаю, что вы сможете быстро собраться, не так ли? Я довезу вас до Нориджа и посажу на лондонский поезд…
Что же до миссис Окс, то я мягко сказала ей:
– Я решила запереть па время Мэллингхэм и отослать Джорджа с Нэнни в Девон. Не огорчит ли вас и мистера Окса, если придется уехать в этом году к Мэри немного раньше, чем обычно? Вечером я могу отвезти вас к ярмутскому поезду.
К счастью, все горничные и служанки были местными, и я просто выдала им зарплату за месяц и обещала выплачивать ее ежемесячно, пока дом будет закрыт. В то время повар был уволен, а нового еще не было, и поэтому больше мне беспокоиться было не о ком.
Потом я поговорила с Джорджем.
– Джорджи, тебе будет хорошо на море. Я не смогу сразу поехать с тобой и приеду к вам с Нэнни позднее.
– Можно мне взять с собой мои книжки?
– Да, конечно, дорогой.
– И леденцы в дорогу?
– Разумеется, и леденцы.
Джордж был удовлетворен. Я поцеловала его темные волосы и попрощалась с ним перед тем, как в двенадцать с минутами поезд отошел от нориджской станции.
К вечеру я была в Мэллингхэме уже одна.
Я принялась упаковывать вещи, необходимые мне для предстоявшего визита в Лондон. Я подумала, что будет лучше, если я выкажу готовность встретиться с Корнелиусом, хотя и не собиралась появляться в отеле «Линкольн». Потом это могло оказаться полезным при возможном следствии в связи с пожаром. Я решила, что остановлюсь в доме Гэрриет, пожалуюсь на нездоровье, а в последний момент отменю встречу. Позднее, когда Корнелиус объявит, что его терпение иссякло, я напишу ему записку о том, что по-прежнему думаю о его предложении, он бросится в Мэллингхэм и не найдет там ничего, кроме пепла. Дом стоял на отшибе, вдали от деревни. Кто-то, вероятно, увидел бы пожар, но на расстоянии не мог бы определить, откуда он начался, и у меня было бы полное алиби.
Я хотела упаковать все мои фотографии, но поняла, что это было бы неосторожно. Если бы следователи увидели, что я увезла все самое ценное, они, естественно, заподозрили бы меня. Я положила в чемодан только свои любимые фотографии Пола и Стива.
Почти всю долгую ночь я бродила по дому, из одной комнаты в другую и уснула лишь ненадолго. Грезы мои настолько смешались с окружавшей меня действительностью, что я подумала, не превратилась ли в лунатика, пока не разобралась в том, что было явной реальностью, а что фантазией. Окружавшие меня стены времени словно исчезли. Я была с Полом и Стивом – как странно было видеть их обоих вместе в Мэллннгхэме! Но там были и другие: мой отец и его отец, и какие-то чужие, незнакомые мне люди. Но меня они все знали и все мною гордились, я видела их улыбки, а когда наступил рассвет, мой последний рассвет в Мэллингхэме, я была уже во внутреннем дворике, окруженная средневековыми стенами своего дома, а Годфри Слейд отправлялся в крестовый поход, чтобы сражаться за свои убеждения с могущественными сарацинами. Я пыталась поговорить с ним, но он говорил на каком-то непопятном мне языке, и, хотя я понимала, что могла общаться с ним на латыни, латинские слова от меня ускользали. А потом снова появился Пол, цитировавший мне любовные стихи Катулла, и небо над нами было таким пронзительно-голубым, что я была способна только восхищаться: «Какое волшебное лето!»
Но, глядя в небо, я слышала рев немецкого самолета и понимала, что это лето – лето разрушения, что эти пронизанные солнцем дни 1940 года застали меня над пропастью на самой кромке мира.
Картина прошлого рассеялась. Я снова была в Мэллингхэме в понедельник, двадцать седьмого мая 1940 года, и близился час моей победы.
Я вывела из гаража автомобиль и положила в багажник чемодан. Бензина в баке было ровно столько, сколько требовалось, чтобы доехать до ближайшей станции.
Когда я вернулась в дом, зазвонил телефон.
– Дайана? – услышала я напряженный голос.
– Джеффри! Что случилось?
– Вы слышали новость?
– Я несколько часов уже не слушала радио. А в чем дело?
– Около семи вечера передали сообщение о том, что должна начаться операция «Динамо». Я сам узнал об этом только что. Это значит, что английская армия эвакуируется с французского побережья.
В начале года правительство предусматривало возможность использования частных лодок в помощь флоту при определенных обстоятельствах, а четырнадцатого мая в девятичасовых новостях Би-Би-Си всем владельцам судов длиной от тридцати футов предлагалось представить подробные сведения о своих плавсредствах. Моя яхта была меньше тридцати футов, и я ее не регистрировала, но мы с Джеффри подумали, что и она может пригодиться. У нас обоих были друзья, зарегистрировавшие свои суда.
– Говорят, что им годится все, что может плавать, – продолжал Джеффри. – Я только что разговаривал с одним из своих клиентов из Довера, он говорит, что гудит весь юго-восток. Кажется, нужно мелкие суда гнать в Рамсгитский порт, там их ожидают, заправляют горючим и отправляют.
– Где же сейчас армия?
– Один Бог знает. Разумеется, ни в газетах, ни по радио ничего не сообщается – все делается совершенно секретно.
– Если суда собирают на Рамсгите, то место назначения где-то между Калэ и Дюнкерком. – Я попыталась обдумать ситуацию. – Моя яхта может быть готова через час. Как скоро вы можете быть здесь?








