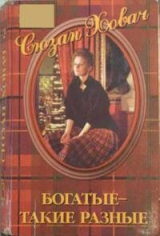
Текст книги "Богатые — такие разные.Том 2"
Автор книги: Сьюзан Ховач
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
– Пол был, несомненно, сильным человеком, – согласился Стив, – и, несомненно, ему нравилось создавать у всех впечатление, что он крепок, как сталь. Но, Иисусе! Под этой оболочкой, внутри он был мягким, как масло, разве нет? Разумеется, он прятал все это в себе, но если бы только Корнелиус мог видеть его в день убийства…
В палату заглянула дежурная.
– Пора, госпожа Салливэн, – любезно предупредила она.
– Еще пять минут! – взмолился Стив, и она с улыбкой закрыла дверь.
– Стив…
– Да, в то утро он раскис, как кисель, говорил, что все бросит и поедет вслед за тобой в Англию. Мужчина уже в летах, погнавшийся за девушкой вдвое моложе себя, – прости, дорогая, но именно так я представлял себе все это в то время! И когда я подумал об этой его внутренней борьбе, я решил убедить его воздержаться от передачи тебе того последнего письма, которое он написал…
По мере того как в моем воображении и так, и сяк поворачивался напоминавший сложную головоломку образ Корнелиуса, я видела, как во мраке мягко проступали отсутствовавшие ранее детали.
– Этого письма так и не нашли, не правда ли? – спросила я.
– Да, мы знали, что Пол должен был спрятать его перед смертью и что Мейерс сжег папку с его личной перепиской.
– Стив, этого-то мы как раз и не знаем. А что, если Корнелиус прочел это письмо и понял, что его тотемный столб был обманом?
– Это, конечно, могло бы объяснить несоответствие между тем, что я помню, и картиной, нарисованной тебе Сэмом. Но, Дайана, совершенно исключено, чтобы Корнелиус мог увидеть это письмо. Он даже еще не начал работать в банке «Ван Зэйл», когда был убит Барт Мейерс, и, значит, он никак не мог видеть эту папку.
– Если только она не уцелела, – по моему телу пробежала дрожь, – эта папка с документом о праве собственности на Мэллингхэм, Стив…
Он вскочил с кровати, обнял меня и прижал к себе.
– Успокойся, дорогая. Я знаю, тебя постоянно терзают кошмары в связи с этим проклятым документом, но послушай меня. Если бы эта папка уцелела, я бы давно ее нашел… но если бы я ее каким-то образом не заметил и ее нашел бы Корнелиус, он не мог бы наткнуться на эту бумагу. Никто из нас не знал наверняка, что она в папке, и это лишь подтверждает, что ее могло там не быть. Подумай хоть минуту: неужели ты можешь серьезно предположить, чтобы Корнелиус, получив в свои руки такое оружие, спрятал бы его в тайник, как реликвию, вместе с коллекцией женского белья? Нет, он давно бы уже хватил им нас по голове.
Долгое молчание предшествовало моим тихим словам:
– Да, боюсь, что это такой вопрос, на который нет ответа. Должно быть, ты прав.
– И, разумеется, прав. Если бы ты бросила меня и уехала в Нью-Йорк, Корнелиус измыслил бы дюжину различных способов прибрать тебя к рукам – во всех смыслах этого слова, – но у него нет никакой возможности когда-нибудь отнять у тебя твой дом.
Я стала чувствовать себя лучше. Когда снова пришла дежурная, чтобы выпроводить меня из палаты, я нашла в себе силы спокойно попрощаться со Стивом, и, хотя пообещала прийти к нему опять, он сам попросил меня больше не приезжать.
– От Сэма вполне можно ожидать, что он будет тайно следить за тобой, – сказал он, хотя я и не рассказала ему про историю с «фордом». – Не оставляй ему никаких шансов, Дайана.
Я пообещала писать каждый день. Из лечебницы отправилась домой, и со мной туда же вернулись мысли о Корнелиусе. Его тень плавала на поверхности моего сознания, как масляное пятно на воде. У меня было такое чувство, словно я заболевала смертельной болезнью. На короткое время я забывала о нем, но потом снова чувствовала, как это постоянное отвратительное давление на мою память становилось все сильнее. Я стала думать о том, что мы должны встретиться. Вряд ли действительность оказалась бы более угнетающей, чем судорожные всплески моего воображения.
Я часто думала и о Сэме Келлере, и с интересом читала донесения своего детектива. Сэм был все время занят делами. Он ежедневно приходил на Милк-стрит, уик-энды проводил за городом у своих клиентов, а вечерами тратил много времени на обеды с какой-то американской актрисой, с которой, как говорили, познакомился в Нью-Йорке. Он никогда не напивался и не терял голову. В личной жизни он проявлял осмотрительность, а в делах был безупречен, и, по мере того, как сворачивались дела представительства банка «Ван Зэйл» в Лондоне, я неизменно получала точные и содержательные отчеты о его очаровании и хороших манерах.
«Образцовый протеже Ван Зэйла», – писала я в одном из своих ежедневных писем Стиву.
Я несколько раз замечала маленький «форд», но поскольку больше не ездила в Хэмпстед, его водитель сэкономил много горючего. Мой шофер Джонсон проявлял слишком уж большой интерес к этой ситуации, и мне пришлось несколько раз резко напомнить ему, что это его не касается.
В конце марта Стиву разрешили вернуться из лечебницы домой, но я по-прежнему избегала появляться в Хэмпстеде, и мы приехали в Мэллингхэм поодиночке. В разгаре весенних дней Элдрид и Элан вернулись из школы домой. Стив выглядел лучше, но оставался очень подавленным, и, как ни старался с этим бороться, я чувствовала его мрачное настроение. Доктор велел ему оставаться в Мэллингхэме еще месяц, прежде чем приступить к работе, но я понимала, что он считал дни, мечтая поскорее вернуться в офис. А, кроме того, его одолевало желание выпить. Меня все тревожила мысль о том, как он справится с серьезными проблемами банка, ожидавшими его в Лондоне, когда Сэм Келлер нанес ему удар ниже пояса.
В популярных газетах появилась фотография.
Это был монтаж, подделка. Старую фотографию, на которой были мы со Стивом, наложили на фотографию Хэмпстедской лечебницы, а из подписи было ясно, что Стив в ней лечился. Слово «алкоголизм» не фигурировало, но поскольку мы всем говорили, что Стив в Америке и поскольку его привычка к выпивке уже давно стала предметом сплетен, только идиот мог бы не понять, что имелось в виду. Увидев эту фальшивку, я сразу поняла, что последствия окажутся катастрофическими.
Джонсон признался, что человек, ездивший на «форде», дал ему сто фунтов за то, что он назвал адрес, по которому единственный раз возил меня к Стиву. Я сразу же уволила Джонсона, но это ничего не могло изменить. Причиненное им зло было непоправимо. Стив находился в состоянии яростного гнева.
– Я в суд на него подам! – кричал он, отказываясь меня слушать, когда я говорила, что, подняв шум, мы только усугубим наше положение. Не терпевшие никаких сцен англичане немедленно сделают вывод, что Стив запил снова. Он не хотел ничего слышать. – Я должен что-то сделать. Я буду разорен, если не добьюсь публичного извинения…
Он был слишком далек от реальной действительности. Я пыталась его урезонить, но он сказал мне, чтобы я оставила его в покое. Этот ужас продолжался. В конце концов, я решила выйти в сад, чтобы успокоиться, но едва переступила порог, как услышала шум мотора и, подбежав к гаражу, увидела Стива за рулем «даймлера» с полбутылкой виски на заднем сиденье машины.
– Стив, прошу тебя! – разразилась я слезами. – Пожалуйста, будь благоразумен… пожалуйста, никуда не уезжай!
Он был неумолим. Он решил ехать в «Савой», чтобы заставить Келлера официально заявить о том, что фотография была фальшивкой.
Я попыталась вытащить из замка ключ зажигания, но Стив отстранил меня, вывел машину из гаража и покатил по аллее на дорогу.
Последовать за ним я не могла, так как другого автомобиля в Мэллингхэме не было. Машинально пробежав за ним несколько шагов по лужайке, я в отчаянии опустилась на землю и плакала, пока рядом со мной не появился Элан.
– Что мне делать? – рыдала я. Мне было стыдно своих слез перед сыном, но я не могла совладать с собой. – Господи, что же мне делать?
– Ты ничего не можешь сделать, ровно ничего, – резко сказал Элан, протягивая мне платок и обнимая за плечи.
Элану было шестнадцать лет. Хотя я зачастую считала его уже взрослым, он был еще школьником, и, страшно боясь оказаться ему в тягость, я сделала все, чтобы овладеть собою.
– Я должна быть благоразумной, – проговорила я, наконец, ровным голосом, – и реалистичной. – Рухнули все мои надежды на то, что Стив достаточно поправился, чтобы спасти свою репутацию. Но мы все же должны были найти какой-то выход. Спокойное затворничество в Мэллингхэме, мирная сельская жизнь…
– Боже мой, это так возмутительно! – проговорил Элан.
– О, Элан, дорогой мой…
– Прости меня, мама, но я страшно зол на него, и, когда он вернется, я прямо скажу ему об этом. Все это очень плохо для тебя и еще хуже для детей, – жестко добавил Элан.
– Но, Элан, он же болен – он ничего не может с собой поделать…
– Все это началось, – не слушая меня, продолжал Элан, – когда ему в голову пришла мысль стать королем Сити. Ему не следовало уходить из банка «Ван Зэйл».
– Дорогой мой, ты не должен позволять себе критиковать его, ничего не понимая в банковском деле!
– Да я и не хочу ничего о нем знать! – выкрикнул Элан, разгорячившись до предела. – Лично я считаю, что гонка за деньгами ради самих денег нравственно недопустима, а как идеология – просто непристойна!
– Да, дорогой, – беспомощно согласилась я. – Да.
– Как можно говорить о красоте, об искусстве, о мире. И… о, проклятие! – в отчаянии воскликнул Элан. – А ведь на протяжении всей своей истории человечество стремилось к красоте и миру.
Вскочив на ноги, он яростно сунул кулаки в карманы и зашагал через поляну к дому.
Войдя за ним в библиотеку, я увидела его за небольшим радиоприемником, подаренным мною ко дню его рождения.
– Что-нибудь случилось?
– Ничего особенного. Все те же разговоры о Гитлере. – Он выключил приемник. – Мне очень жаль, мама… я не должен был так уходить от тебя.
– Я зашла, чтобы поблагодарить тебя за то, что ты меня успокоил. – Я поцеловала Элана и ровным голосом добавила: – Мне жаль, что все это так тебя расстраивает.
– Все потому, что я не могу видеть тебя несчастливой…
– Я понимаю.
Я поцеловала его снова и вышла в холл, куда мы недавно перенесли телефон. Я подумала, что стоило предупредить Сэма, чтобы избежать неотвратимой сцены, но, когда позвонила в «Савой», мне сказали, что господин Келлер утром выехал и сел на пароход в Саутгемптоне.
Я долго раздумывала над тем, что случится, когда Стив поймет, что птичка улетела, но тревога моя была напрасной. Стиву не суждено было доехать до «Савоя». Он пил до самого Ньюмаркита, и, в конце концов, на совершенно пустом участке дороги потерял контроль над машиной и врезался на всем ходу в дерево.
Глава шестая
Когда я приехала в больницу, он был еще жив. У него были сломаны четыре ребра, позвоночник и сильно повреждены внутренние органы. Голова была забинтована, повязка закрывала и часть лица, но Стив был в сознании. Когда я вошла, он попытался улыбнуться, но это оказалось слишком трудно.
Я поцеловала Стива, взяла его руку и нашла в себе силы сказать:
– Поправляйся поскорее, чтобы мы могли увезти тебя в Мэллингхэм и там выходить как следует.
– Я так хотел бы этого, – проговорил он и шепотом закончил: – Мне очень жаль, Дайана. – Я продолжала держать его руку. Немного погодя он заговорил снова: – Мне прекрасно жилось здесь, в Англии. Ты… дети… и ничего другого. Как глупо разрушать все это…
– Все это будет, Стив, там, в Мэллингхэме.
– Мэллингхэм, – продолжал он, и казалось, что это слово уводило его куда-то, отклоняя и наш разговор в какое-то более мрачное, непроглядное русло. – Ах, Дайана, Мэллингхэм это как банк. Он нереален, не воплощен во плоти и крови. – Стив кашлянул и стал задыхаться. На рубашке появились мелкие пятна крови, и сиделка подошла ко мне, чтобы вывести из палаты. Но я не могла отойти от кровати, так крепко он вцепился в мою руку, да я и сама даже не пошевелила пальцами, чтобы ее высвободить. Я уже не надеялась, что он сможет заговорить снова, но, когда ему стало чуть легче дышать, он прошептал: – Мне лучше, да?
– Лучше…
– Я люблю тебя больше, чем раньше.
– Да, – ответила я, – и я тебя люблю, как никогда. Ты выкарабкаешься, Стив! Ты победишь!
По мере того, как он терял сознание, глаза его словно покрывала какая-то пленка. Рука Стива ослабла в моей ладони. Он, наконец, обрел покой, ясный и безмятежный, отступили все призраки и все тревоги.
Сиделка пощупала пульс. В палату вошел доктор. Появились и сестры. Кто-то профессионально-мягко проговорил:
– Госпожа Салливэн… Мне очень жаль…
Кто-то вывел меня из палаты. Я долго где-то сидела, пока больничный служитель не спросил, может ли кто-нибудь отвезти меня домой.
Я позвонила Джеффри Херсту.
Он сразу же приехал, расплатился с таксистом, который привез меня из Мэллингхэма, выполнил необходимые формальности, увел меня в ближайший паб и заказал для меня двойной бренди. Его жена тоже погибла в автомобильной катастрофе, и он понимал мое состояние, понимал, каким чудовищно искаженным представлялся мне окружающий пейзаж. Джеффри терпеливо вел меня вперед, пока все вокруг понемногу снова стало привычно знакомым, и я стала узнавать дорогу, которой уже не надеялась найти.
Я привезла Стива в Мэллингхэм, но похоронила его не со всеми Слейдами, а одного, в своем любимом углу церковного кладбища. Вместо обычного в Англии памятного камня я соорудила большой памятник из черного мрамора, экстравагантность которого была бы ему по душе. Я посадила цветы, которые должны были зацвести в будущем году, и вишню, чтобы она расцветала каждую весну в память о Стиве.
Дети долго плакали, но их слезы были для меня благом, вынуждая собраться с силами, чтобы их утешить. Я не могла потакать своей викторианской слабости, не могла улечься в шезлонг, меняя надушенные лавандой носовые платки и не притрагиваясь к пище, поэтому довольно скоро я почувствовала себя достаточно сильной. Я оплатила какие-то важные счета, объявила о продаже лондонского дома и принялась отвечать на многочисленные письма с выражениями соболезнования.
Пришло письмо и с Уиллоу-стрит, но у меня не хватило духа распечатать конверт. Не смогла я прочитать и письмо, полученное из Лонг-Айленда. Однако, покончив с ответами на другие послания, я вернулась к этим двум письмам из Америки и прочла их от начала до конца, вдумываясь в каждое слово.
Эмили писала:
«Дорогая Дайана, примите слово дружеской симпатии в вашем горе. Дети горько оплакивают Стива и с любовью вспоминают о вас и о Мэллингхэме. Тони говорит, что хотел бы приехать к вам этим летом, если это удобно, но готов вас понять, если вам трудно видеть в своем доме посторонних.
С наилучшими пожеланиями, искренне, Эмили».
Я осторожно разгладила письмо пальцами, прежде чем отложить его в сторону.
Из дома один по Уиллоу-стрит я получила не формальное, отпечатанное на машинке соболезнование Корнелиуса, а написанную от руки записку Сэма Келлера.
«Дорогая Дайана, выражая вам глубочайшую симпатию, я хотел бы, чтобы вы знали, что ни Корнелиус, ни я никогда не желали такого трагического конца Стиву. Естественно, первой вашей реакцией было обвинить нас в его смерти, но, возможно, позднее вы будете способны понять, что автомобильная авария это не то, что можно сделать по заказу. Я очень сожалею о гибели Стива. Такой печальный конец столь блистательной карьеры. Мне очень жаль и вас, потому что во время нашей встречи я понял, как вы были ему преданы. Но больше всего я сожалею о том, что мне нечем вам помочь, за исключением этих выражений сожаления.
Искренне ваш Сэм».
Ответить на это письмо было нетрудно. И я просто написала:
«Дорогой господин Келлер, некоторые люди похожи на Джейсона Да Косту: они приставляют к виску револьвер и спускают курок. А есть и такие, как Стивен Салливэн. Они мчатся по пустынной дороге и врезаются в дерево. Передайте Корнелиусу, что я никогда не забуду и никогда не прощу.
Дайана Салливэн».
На письмо Эмили ответить было гораздо труднее, потому что мои чувства к ней были слишком двойственны, но я все же написала:
«Дорогая Эмили, благодарю вас за письмо. С вашей стороны было очень благородно написать мне, и я надеюсь, что вы простите меня за то, что я долго не отвечала. Я хорошо понимаю, каким ударом для вас и для детей была эта ужасная новость.
Тони, разумеется, может летом остановиться у меня, но международное положение настолько ненадежно, что я не решаюсь уговаривать его приехать. Однако я уверена в том, что вы достаточно информированы и дадите Тони правильно понять, что может случиться, чтобы он мог принять окончательное решение и либо отказаться от своих намерений, либо подтвердить их. Мы будем очень рады его видеть, если он решит приехать.
Искренне ваша Дайана».
Покончив с письмами, я почувствовала себя лучше. Я сделала все необходимое для того, чтобы Элфрида была готова приступить осенью к занятиям в нориджской школе, и мы вернулись в Лондон, чтобы весенний семестр она смогла завершить в прежней школе.
Джордж и Нэнни приехали с нами. Джорджу было четыре года, он был вполне готов к детскому саду, и я пристроила его на три дня в неделю в Белгравийскую школу. Элдрид и Элан уехали обратно в свои школы. Жизнь продолжалась.
Никто не хотел покупать дом, так как не было никакой уверенности в том, чего можно было ждать в Лондоне, но я продолжала терзать агентов по недвижимости. Наш дом на Милк-стрит был освобожден и заперт. Я была этому рада, но поскольку подумывала, что мне было бы неплохо заняться какой-нибудь работой, то тешила себя мыслью о возвращении к своей отложенной карьере в области образования. Однако обстоятельства того времени были против меня, и в конце концов я хотела лишь уехать в Мэллингхэм и черпать силы в прошлом, наблюдая за тем, как Гитлер готовится разжечь пожар в Европе.
Я думала о прошлом Мэллингхэма, о тех сотнях лет, отделявших меня от дней, когда Годфри Слейд перестроил дом Элана Ричмондского.
Мои предки слышали, как стучались в английские двери и Наполеон, и Филипп Испанский, а также бесчисленные и безымянные французы, развязавшие Столетнюю войну.
Мой мир был очень старым и привыкшим к завоевателям, считавшим себя непобедимыми. В Мэллингхэме я могла думать о Гитлере без страха. Я могла с удовольствием слушать по радио Дж. Б. Пристли, читать в газетах о всяких совершенно безумных вещах и была готова встретить зловоние свастики, распространявшееся над водами Ламанша.
Наконец политика умиротворения испустила дух. Первого сентября Гитлер вторгся в Польшу, а двумя днями позднее, почти через двадцать пять лет после того, как по всей Европе после затемнения снова зажглись фонари, все вокруг опять погрузилось во мрак.
Я копалась в саду, когда пришло сообщение об объявлении войны. Садоводство было моим хобби, которым теперь, когда у меня появилось много свободного времени, я занималась с увлечением. Я сажала лук. Тщательно пропалывая почву, я думала о том, что будет с нами через год, но мое сознание отказывалось задерживаться на мыслях о будущем. Куда более спокойно было думать о прошлых столетиях, а все мои мысли о настоящем были сосредоточены лишь на том, как расположить цветы на клумбах, как трудно будет жить при нормировании бензина, и сможет ли Джордж посещать деревенскую школу. Меня тревожили также мысли о моем пасынке Тони. Он приехал в Англию в июне, все еще жил у нас и не хотел уезжать.
– Но, Тони, – начала я, считая, что нам нужно серьезно поговорить, – не лучше ли тебе теперь, когда началась война, быть у себя на родине? Когда вторгнутся немцы… – я остановилась. Мне никогда не случалось говорить словами Сэма Келлера. – Если немцы вторгнутся во Францию, в Европе жить станет труднее, и я уверена, что Эмили захотела бы, чтобы ты вернулся в Америку. Я просто удивляюсь, как это ты до сих пор не получил от Корнелиуса письма с приказом вернуться домой.
Он протестующе посмотрел на меня светло-голубыми глазами Стива.
– Корнелиус не входит в число моих друзей, – проговорил он.
Все выяснилось разом. Несмотря на всю доброту Эмили, он не был счастлив дома. Корнелиус, решивший заменить отца как дочерям Эмили, так и сыну Кэролайн, его не любил, а Алисия вообще едва его замечала.
– Это все потому, что я похож на папу, – говорил бедняга Тони, и он впервые прямо спросил меня, не считаю ли я Корнелиуса ответственным за смерть его отца.
– Да, – согласилась я.
– Скотт не хочет этому верить. Он думает, что папа сам был виноват во всем. В голове у Скотта большая путаница по этому поводу.
– Какие у него отношения с Корнелиусом?
– Очень хорошие. Корнелиус нравится Скотту. Корнелиус нравится всем, им все восторгаются, в особенности Эмили, и поэтому я не могу ничего сказать ей об этом, – очень быстро заговорил Тони, – но я больше не могу там жить. Я хотел приехать жить к вам, когда папа оставил Эмили. Мы со Скоттом очень огорчили тогда папу…
– Тони, не нужно чувствовать себя виноватым. Вы были еще слишком молоды, а положение было таким сложным… Стив понимал, что вам трудно. Ты не должен думать, что он этого не понимал.
– Я бы так хотел, чтобы папа был жив и чтобы я смог ему объяснить…
– Он был бы очень рад твоему желанию жить здесь, и я тоже этому очень рада. Хочешь, я сама напишу об этом Эмили?
Но он сказал, что не собирался писать Эмили. И больше не желает иметь никакого дела с Корнелиусом.
Некоторое время я старалась не думать о Корнелиусе, но, поскольку в первые дни 1940 года война текла довольно вяло, я решила, что могу, по крайней мере, дать волю своим воспоминаниям о недавнем прошлом. В феврале, за ленчем с Джеффри в Норидже, я даже поняла, что могу вспоминать о Стиве без слез.
– Я не буду советовать вам снова выйти замуж, – рассудительно заговорил Джеффри, – слишком уж горько произносить такие слова после смерти Джил. Но я рад тому, что ваши дела пошли лучше, Дайана.
– Я думаю о том, что должна делать что-то полезное во время войны…
Мы заговорили о будущем. Джеффри было уже за сорок, и хотя он попытался пойти добровольцем на фронт, но на его просьбу не обратили внимания. Пытался он и поступить на юридическую службу в армии, а тем временем по-прежнему работал в Норидже, где был уже старшим партнером в своей фирме.
– Мне больше хотелось бы носить военную форму, – говорил он, – потому что тогда у меня была бы хоть иллюзия какого-то движения вперед. Эта проклятая война, в которой ничего не происходит…
Однако когда мир был бесповоротно нарушен, и британская армия на материке стала терпеть одно поражение за другим, мои опасения все больше не давали мне покоя. Я чувствовала, как ко мне подкрадывалась не поддававшаяся постижению судьба, и, чтобы подавить страх перед будущим, я снова обратилась к прошлому. Я перечитывала один за другим сборники поэзии, а как-то вечером, поддавшись всплеску ностальгии, принялась разбирать фотографии Пола и Стива и увешала лучшими из них стены своей гостиной на втором этаже. Там уже давно висели мои любимые фотографии детей, так как эта комната долгое время была моим желанным прибежищем, и теперь я так наполнила ее памятными изображениями, что, едва переступив порог, погружалась в свои лучшие воспоминания о прошлом.
Элан заметил это изменение сразу же, как только приехал из Винчестера на Пасху. Они учились вместе с Тони, и оба намеревались потом уехать в Оксфорд, Элан собирался учиться там на стипендию, а Тони – на деньги, унаследованные им от Стива. Оба говорили о призыве на военную службу, когда им будет по восемнадцать лет, но Элану должно было исполниться восемнадцать лишь в марте 1941 года, и он настаивал на том, что начнет свою учебу в Оксфорде, даже если у него не будет надежды ее завершить. Я с болезненной тревогой думала о его будущем и благодарила судьбу за то, что Элдриду было всего десять. Он все еще учился в частной школе в Суссексе, что же касалось Элфриды, то я нехотя согласилась с тем, чтобы она была на недельном пансионе в своей нориджской школе. С транспортом становилось все труднее, а Мэллингхэм был слишком далеко от Нориджа, чтобы можно было ездить туда ежедневно. Джордж уже учился в деревенской школе. Ему там нравилось, и нас смешило его нориджское произношение, которое он немедленно усвоил. Однако я хотела, чтобы он тоже смог перейти в нориджскую школу, но убеждала себя, что для него полезно общение с детьми рабочих, хотя в частной школе он и расстался бы с этим деревенским акцептом.
– Не слишком ли снобистски ты ко всему относишься, мама? – спросил меня Элан, с любопытством глядя на то, как я украсила свою гостиную, и слушая мои вздохи по поводу обучения Джорджа.
– Да, дорогой, я безнадежный сноб. И думаю, что всегда была такой, но теперь мне не стыдно в этом признаться.
– Это выглядит слишком по-викториански, – заметил Элан. – В наше время никто не украшает комнаты таким образом.
– Да, совершенно по-викториански. Во мне много всего, чего я всегда старалась избежать – за единственным исключением. Я больше не ханжа.
Элан сдержанно улыбнулся, но промолчал. Я была рада тому, что все дети приехали домой на Пасху, потому что это избавляло меня от смутной тревоги. Но, в конце концов, оставались близнецы, а Элану и Тони было пора возвращаться в Винчестер.
Ночью накануне их отъезда я внезапно проснулась. Какой-то момент я оставалась без движения в постели, но потом уселась, выпрямив спину, на кровати. Нигде ничего не было слышно, но я опять почувствовала, что на горизонте нарастает какая-то неопределенная сила. Я рывком поднялась с кровати, набросила халат и поспешила вниз по лестнице. Я подумала, что было бы неплохо пойти на кухню и заварить себе чаю, но, сойдя с лестницы, остановилась в холле. Света я не включала. После смерти Стива меня постоянно мучила бессонница, и я привыкла пользоваться фонариком при ночных передвижениях по дому. При этом экономила керосин, никого не беспокоила и не нарушала правил затемнения.
Внезапно я с очевидностью почувствовала, что была не одна. Мне было ясно, что кто-то стоит в дальнем конце холла, но я не испугалась, а только пришла в возбуждение. Мэллингхэм был частью меня самой, и если в нем были призраки, то я сомневалась, чтобы они могли быть враждебными. Направив луч фонаря через холл, я заметила какое-то движение и шагнула вперед. Какая-то тень шевельнулась снова. Я увидела, как мелькнула белая кожа, сверкнули темные глаза, и фигура легко повернулась в мою сторону.
– Пол? – проговорила я.
Ночной гость был ошеломлен.
Снова нависла тишина. Нас разделяло расстояние футов в двадцать. Больше всего меня нервировало то, что я так хотела вернуть его обратно из небытия.
Я рассмеялась.
– Прости, Элан! – разочарованно подала я голос. – Я тебя напугала?
– Немного. С тобой все в порядке, мама?
– Да, я спустилась приготовить чаю. Выпьешь со мной?
– Хорошо, спасибо. Только пойду выключу радиоприемник, неожиданно согласился он. Для него нужен новый шнур, а старый может перегреться, если долго не выключать. Проснувшись, я подумал было, что не выключил его перед сном, поэтому и спустился с фонариком, который погасил, едва услышал твои шаги. Я подумал, что к нам пробрался вражеский агент. Как хорошо, что это оказался не он, а ты в роли леди Макбет!
Я снова рассмеялась, мы вошли в кухню, и я вскипятила чай.
– Меня что-то неприятно нервирует, – сказала я, усевшись напротив него за стол. Поэтому-то увидев тебя и подумав, – не смейся, пожалуйста, – что это призрак Пола, я почувствовала большое облегчение. У меня возникло такое чувство, как если бы ожидавшееся несчастье оказалось не катастрофическим, а всего лишь волшебным и возбуждающим. Возможно, это смерть Стива так расшатала мои нервы, а может быть, во мне заговорила моя необычная наследственность!
– Дорогая мама, – успокоил меня Элан, – ты самая разумная из всех, кого я знаю. Это мир обезумел, а вовсе не ты. Молока?
– Спасибо.
Мы молча потягивали чай. Внезапно он сказал:
– Каким он был в действительности? Но не говори ради Бога о том, что он был замечательным, мне хочется услышать вовсе не это.
– Пол? – переспросила я. – Пол был романтиком и идеалистом, принесшим в жертву весь свой романтический идеал во имя собственного честолюбия и мести.
– Любопытно, – задумчиво проговорил Элан. – Я рисовал его в своем воображении по-разному, но никогда не представлял себе Фаустом, ты действительно любила его? Теперь можно быть искренней, мама…
– Я любила его так сильно, как могла кого-то любить в то особенное время, но, вероятно, любила бы еще больше, если бы была старше. Все дело было в нашем возрасте, ты знаешь. Он всегда говорил, что мы разминулись с ним во времени.
Мы продолжали чаепитие. Наконец Элан попросил:
– Расскажи мне все – решительно все об этом.
И я рассказывала ему до рассвета. Где-то между нашими многочисленными чашками чая Элан спросил меня:
– Но что вселяет в тебя такую уверенность в том, что злосчастный документ о праве собственности на Мэллингхэм не находится с тех пор у Корнелиуса?
– Просто я не могу поверить в то, – отвечала я, – чтобы Корнелиус, получив этот документ, не пустил его немедленно в ход.
Снова наступило молчание. Наконец Элан осторожно заговорил мягким голосом:
– Мама, ты помнишь того хорошенького котенка. Кэлки, который был у меня, когда я был маленьким? Помнишь, в какого отвратительного кота он превратился, когда вырос? Ему нравилось ловить птиц и долго играть с ними перед тем, как нанести им наконец удар милосердия.
На этот раз молчание было более тяжелым, чем раньше, и я почувствовала, как к моему горлу медленно подступает тошнота. Отодвинув в сторону чашку, я поднялась из-за стола и быстро вышла в помещение для мытья посуды, ожидая, что меня вырвет.
– Мама… мне очень жаль…
– Все в порядке, Элан, – тошнота уже проходила. – Нее в полном порядке. Я рада, что ты напомнил мне о Кэлки. – Я остановилась, ухватившись за край раковины, и повернулась лицом к сыну. – Дорогой, думаю, что теперь нам нужно попытаться ненадолго уснуть до завтрака. У тебя впереди долгое путешествие, и я не хочу, чтобы ты приехал в Винчестер в состоянии полного изнеможения.
Элан ушел к себе. Я вернулась в свою комнату, но так и не уснула. После завтрака я посадила мальчиков на поезд.
– Не забудьте попросить Гримсби заменить шнур на приемнике, – напомнил Элан, целуя меня на станции.
Я обещала захватить исправленный приемник с собой, когда в середине семестра поеду навестить их в Винчестер.
Я поцеловала Тони, пожелала им счастливого пути и отошла от вагона, когда раздался свисток кондуктора.
– Береги себя, мама! – крикнул Элан, когда поезд тронулся.
Я вернулась домой и некоторое время не могла отделаться от мысли о Кэлки, но постепенно немцы вытеснили из моего сознания все опасения, связанные с Корнелиусом. Британские войска терпели поражение во Франции, и подступавшие со всех сторон немцы были готовы сбросить их в море.








