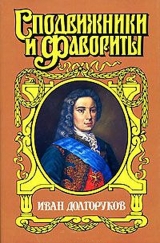
Текст книги "Две невесты Петра II"
Автор книги: Софья Бородицкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц)
Глава 12
Войдя утром в покои государя, князь Иван застал его грустным. Он стоял возле окна и что-то рисовал пальцем на запотевшем от ночной прохлады стекле.
Он не сразу обернулся к подошедшему князю Ивану, всё так же продолжая выводить на стекле замысловатые узоры.
– Батюшку всё же жаль, – не глядя на вошедшего, медленно проговорил государь.
– Жаль, – отозвался князь Иван, – неужто не жаль! А меня вашему величеству разве было не жаль, когда меня по воле батюшки разжаловали да от вас удалили? Хорошо ещё, в Сибирь не успели...
Молодой государь не дал ему договорить, бросился обнимать друга.
– Да, да, Ванюша, хорошо, что всё закончилось уже, и мы с тобой снова вместе, но, – погрустнев, добавил он, – как вспомню, что он свою рубаху разорвал, чтобы мне руку замотать, когда я её пилой поранил, так сердце и защемит.
– Его в том вина большая была: что ж это он необученному вьюноше пилу в руки сунул?
– Верно, верно, – оживился молодой государь, – забудем про него. Давай-ка, Иванушка, мы с тобой сейчас на охоту в Гатчину поскачем. Там, слышно, по полям да лесам зверья видимо-невидимо!
В то же самое время обеспокоенный князь Алексей Григорьевич, сидя напротив Остермана, говорил, сокрушённо качая головой:
– Видали, Андрей Иванович, как светлейший-то из столицы выезжал?
– Да, – коротко отвечал Остерман, по своей привычке не глядя на собеседника и едва заметно улыбаясь.
– Словно вельможа какой на прогулку собрался, а вовсе не опальный государев слуга в изгнание.
– А он и есть вельможа, – всё так же улыбаясь, произнёс Остерман.
– Как это? – удивился князь Алексей Григорьевич. – Он же в опале!
– В опале, – спокойно повторил Андрей Иванович, – но всё ещё вельможа, и очень значительный. Ведь его многие любят.
– Любят? – вновь удивился князь Алексей. – Да за что ж любить-то его?
– Есть за что, дорогой князь.
– За то, что неправедным путём богатства себе нахватал? За это, что ли?
– Нет, дорогой князь, богатство рождает не любовь, а зависть, а светлейшего любят за его прошлые большие заслуги в военных победах.
– Любят? – с иронией повторил князь Алексей Григорьевич. – «Любили» – хотел ты, наверно, сказать, Андрей Иванович.
– Нет, любят, – повторил Остерман. – Любят за его близость к государю Петру Великому, с которым и победы для России вместе добывал.
– Да-а, – протяжно согласился князь Алексей, – это верно, в военном деле храбрее его, почитай, и не было никого.
– Вот-вот, – медленно проговорил Остерман, – и я о том же толкую. Он хоть и в опале сейчас по указу государя, – тут он вновь тонко улыбнулся и помолчал, словно давая понять собеседнику, кому принадлежит заслуга свержения светлейшего, – но ещё очень, очень силён, – повторил он несколько раз задумчиво.
Ничего не понимающий князь Алексей Григорьевич вопросительно смотрел на Андрея Ивановича.
– Нам сейчас что важно? – прервав молчание, обратился Остерман к Долгорукому.
– И что же?
– Нам сейчас важно, – медленно и очень веско проговорил Остерман, – сейчас важно одно: удалить светлейшего князя из столицы вон. А там посмотрим, посмотрим, – протянул Андрей Иванович и умолк.
Он очнулся от сна в полной темноте покачивающейся повозки и несколько секунд никак не мог сообразить, где он находится и что с ним происходит. Услышав за стенкой кареты звяканье оружия караульных солдат, вспомнил всё случившееся, с тихим стоном отходя ото сна. Привалившись к углу кареты, он вновь закрыл глаза и углубился в свои мысли и переживания. Но цепкая его память никак не хотела вернуться к недавним событиям, ко всему тому, что случилось совсем недавно.
Откуда-то из затуманенного сознания выплыл недавний разговор со свояченицей Варварой Михайловной, которая в пылу ссоры назвала его трусом из-за того, что не обратился он за помощью к своим войскам, которые были ему подвластны и в которых он сам был уверен. Тогда в споре с Варварой Михайловной он не стал ей ничего объяснять, просто промолчал, но сказанное ею в запальчивости слово «трус» острой иглой застряло в его мозгу. И сейчас, перебирая события своей непростой жизни, покачивая головой, он произнёс почти вслух: «Нет, дорогая моя Варвара Михайловна, трусом-то я никогда не бывал».
Ему припомнились давние славные его молодые годы, годы бесконечных войн, где он рядом с другом-царём не струсил ни разу. Ни тогда, когда выводил войска из почти окружённого шведами Гродно, ни в самом жарком бою под Полтавой. «Полтава, Полтава», – повторил он несколько раз и видел себя молодым, здоровым, сильным, искренне привязанным к великому государю, любящим его.
Да что они знают о нём? Под словом «они» Александр Данилович подразумевал всех этих важных господ: Долгоруких, Голицыных, готовых на любую подлость ради своей выгоды. А он? Нет, он был не таков! Совсем не таким увидел себя Александр Данилович. Он увидел себя не опальным ссыльным, обременённым даже сейчас огромными богатствами, дворцами, имениями, а молодым, ловким, деятельным. Нет, не за прислужничество отличал его великий государь Пётр Алексеевич. Отличал он его за храбрость, смётку, ум. Разве поручил бы он ему написание «Артикула краткого для обучения солдат военному ремеслу», в котором предписывалось всем чинам от генерала до рядового изучать его правила, чтобы «совершенно ведать и оные исполнять и от объявленных вин остерегаться»? Это он, Меншиков, имел прямое касательство к повышению боевой выучки войска, что и тогда вызывало зависть у его врагов. Врагов? Их всегда было много. Это, в частности, и главнокомандующий русскими войсками в далёкой теперь уже Северной войне Огильви, который неоднократно безуспешно пытался поссорить его с государем. Только всё это было напрасно.
Вспоминая давно минувшие времена, своих давних врагов и друзей, свои победы и поражения, он, пожалуй, лишь сейчас, в темноте тряской кареты, понял одну простую вещь: в его нынешнем скорбном положении большую роль сыграла обычная всегдашняя человеческая зависть. Зависть к нему самому, к его умению быть близким с сильными мира сего без унижения, зависть к его богатству. «Богатству, богатству, – несколько раз повторил он про себя это слово. – Верно, богатству». Огромному богатству – он, наверно, даже и сам не имел понятия обо всём, чем владел.
Ещё не зная обвинения, которое ему будет предъявлено, он знал твёрдо одно: всем его бедам причина – его богатство и зависть к нему.
Думая о прошлом, размышляя о теперешнем своём положении, он то впадал в забытье, то вновь просыпался, с недоумением вглядываясь в темноту кареты, прислушивался к глубоким вздохам сидящей рядом жены и вновь забывался.
Но и в забытьи его мучили всё те же вопросы: отчего и почему всё так случилось. В одно из тревожных пробуждений он вдруг ясно осознал закономерность зависти к его богатству: он сам давал к этому повод своим всегдашним стремлением к нему.
С того самого времени, как он был приближен ко двору государя, когда увидел богатство и роскошь всех этих высокомерных вельмож, презиравших его, – уже тогда он твёрдо знал, что станет богатым – не просто богатым, а очень богатым. Он понял простую истину: есть только два разряда людей – это бедные и богатые, и тот, кто беден, всегда будет и безнравственным и виноватым во всём. Но как же так вышло? – задавал он сам себе вопрос. Как случилось, что ему не помогло всё его богатство. В чём причина? И как он ни копался во всех перипетиях последних дней, ответ был лишь один – зависть! Зависть не только к его богатству, но и к его влиянию на молодого, несмышлёного ещё государя, которым можно было управлять, как кому захочется.
Глава 13
Они ехали уже два дня, делая небольшие остановки в придорожных, деревенских домах, для того чтобы дать отдых лошадям, сопровождающей команде и самим опальным ссыльным.
Дождливая осенняя погода в день выезда из Петербурга неожиданно сменилась запоздалым теплом. Под яркими лучами уже нежаркого солнца всё преобразилось. За окном кареты мелькали убранные поля ржи, кое-где ещё дожинали овёс, поля которого блестели на солнце. По жнивью бродили стада коров, путались у них под ногами овцы; загорелые дочерна пастухи, завидев длинную вереницу карет и повозок в сопровождении солдат, застывали на месте и долго неподвижно смотрели вслед невиданному обозу.
11 сентября в Ижоре, когда они только-только успели войти в избу, чтобы отдохнуть, в неё вошёл догнавший их курьер от государя, гвардии адъютант Дашков с устным предписанием Верховного тайного совета отобрать у людей Меншикова оружие. Несмотря на отсутствие письменного распоряжения, начальник охраны ссыльных капитан Степан Мартынович Пырский принял к сведению и выполнению пересказанный гонцом указ.
Войдя в горницу, где за столом расположилось всё семейство Меншикова, капитан Пырский официально обратился к Александру Даниловичу и передал ему устный указ.
– Что ж так торопились там, в Совете, что даже бумагу с указом не изволили написать, – усмехнулся Александр Данилович.
– Не могу знать, – коротко ответил Пырский, – велено исполнить устный приказ.
К исполнению указа по изъятию у людей Меншикова оружия команда Пырского приступила в Тосно. Некоторые из вооружённых людей Александра Даниловича не желали отдавать своё оружие, требуя распоряжения самого хозяина. Рассерженный Пырский вошёл в избу, где остановились ссыльные. Александр Данилович, похудевший, бледный, лежал на широкой лавке, покрытой ковром. Возле него, меняя ему холодные примочки, суетились Дарья Михайловна и её сестра.
Выслушав жалобу на своих людей, Меншиков открыл глаза, повернул голову в сторону двери, возле которой стоял капитан, и приподнялся на локте. При этом движении мокрая повязка свалилась с его лба, а возле рта появилась кровавая полоска.
– Куда ж ты, Александр Данилович, – попыталась удержать больного обеспокоенная Дарья Михайловна. – Опять кровь хлынет горлом, что тогда делать станем?
– Не печальтесь, – через силу улыбнулся Меншиков, – чай, вся-то не выйдет, что-нибудь да останется.
– Всё шутки шутишь, – упрекнула его жена, но поняв, что мужа не удержать, отошла от него.
Встав с лавки, Александр Данилович поднял свалившуюся у него со лба мокрую повязку, обтёр ею лицо, отчего она сразу же стала розовой, окрасившись кровью, струящейся изо рта. Накинув на плечи тёплый кафтан, в котором ехал всё время из-за озноба, он вышел на крыльцо.
Несколько его человек, стоя в воинственных позах среди окруживших их солдат, замолчали, увидев хозяина.
– Что, ребята, – сказал Меншиков, обращаясь к ним, – жаль с оружием расставаться?
В ответ послышался неясный ропот.
– Ничего, ничего, отдавайте, или вы воевать надумали? – улыбнулся он.
– Да мало ли что приключится дорогой-то, – сказал один из людей Меншикова, вооружённый фузеёй[17]17
Фузея – старинное кремнёвое гладкоствольное ружьё.
[Закрыть]. – Зачем на войну? – продолжал он. – Лихих людей и по дорогам много – тогда как быть?
– Тогда как? – повторил его вопрос Меншиков. – А вот от лихих людей нас доблестные солдаты капитана оборонять станут. Так ведь, капитан? – повернулся Александр Данилович лицом к Пырскому.
Тот смущённо опустил голову и ничего не ответил.
– Так что, ребята, не бойтесь, защитят нас, защитят! Им велено нас живыми до места доставить, посему в обиду лихим людям не дадут.
Вооружённые люди Меншикова нехотя стали класть оружие на телегу, стоявшую возле крыльца избы.
В Тосно обозу пришлось задержаться, так как после инцидента с разоружением своих людей Александру Даниловичу стало хуже, вновь сильно пошла горлом кровь, он пошатнулся и, наверно, упал бы, если бы его не поддержал капитан. Увидев совсем бледного Александра Даниловича, переполошились женщины, и, опасаясь за его жизнь, Варвара Михайловна твёрдо сказала капитану, что они никуда не тронутся с места, пока к больному не будет привезён доктор Шульц, пользовавший его ещё в Петербурге и знавший всё про его болезнь.
На следующий день больному стало лучше настолько, что, сойдя с лавки, где проспал ночь, он подошёл к столу, за которым всю ночь, не смыкая глаз, просидела возле больного мужа Дарья Михайловна. Он хотел успокоить женщин. Александр Данилович сказал, что ему теперь много лучше и он желал бы, посоветовавшись с Варварой Михайловной, отправить прошение государю о милости к опальным.
– Правда, – улыбнулся он, – ещё толком всех вин своих не знаю.
Варвара Михайловна горячо поддержала его и, достав из походного мешка, с которым не расставалась, письменные принадлежности, принялась писать.
Они обдумали и написали три прошения: одно Верховному тайному совету, второе вице-канцлеру Андрею Ивановичу Остерману и третье по настоянию Варвары Михайловны – придворному лекарю Блюментросту, где она просила его не оставлять Александра Даниловича без лекарской помощи из-за очень плохого здоровья князя.
В этом письме, прося о присылке знатного лекаря Шульца, Меншиков сообщил: «По-прежнему имею мокроту с кровью». Никакого ответа на слёзные прошения о милости к опальным не последовало, да и не могло последовать, поскольку прошения не были доставлены адресатам, а затерялись среди многих бумаг Верховного тайного совета, куда по велению государя направлялась вся переписка ссыльных.
Правда, доктор Шульц был прислан, но никаких ответов на свои прошения лично Александр Данилович не получил.
Молчание бывших «друзей» и облагодетельствованных им придворных не то чтобы ожесточило Меншикова, но пробудило в нём, казалось, давно забытые чувства. Его взбунтовавшаяся гордость не позволила больше никому писать о милости и снисхождении. Даже когда об этом заговаривала Дарья Михайловна или её сестра, он сердито обрывал их, приказывая раз и навсегда ничего ни у кого не просить.
Потрясённый всем случившимся, ещё не до конца им осознанным, Александр Данилович сильно расхворался. Кроме кровохарканья его одолевала слабость, лихорадка, которая доводила его порой до беспамятства. За Тосно в одной из деревень на постоялом дворе с ним случился такой сильный приступ, что родные боялись за его жизнь. Расстроенная Дарья Михайловна умоляла капитана Пырского сделать в той деревне остановку, подождать, пока Александру Даниловичу не станет полегче. Молча выслушав слёзные моления княгини, Пырский отрицательно помотал головой и строго сказал, что он человек подневольный и ему не велено было нигде делать остановки.
Растерявшаяся Дарья Михайловна хотела было сунуть в руку Пырского снятое с пальца кольцо, чтобы задобрить его, но вокруг было много посторонних глаз, зорко следивших за всеми её движениями, и кольцо упало возле её ног в пожухлую траву, мокрую от недавно прошедшего дождя.
С трудом нагнувшись, она подняла его и, не глядя на Пырского, вернулась в избу к больному.
Отказав Дарье Михайловне в её просьбе задержаться в деревне, Пырский, всё же боясь за жизнь князя, велел солдатам из парусины, покрывавшей возы, сделать качалку, которую и привесили к двум лошадям, уложив в неё Александра Даниловича.
Пятого октября, почти через месяц со дня выезда из Петербурга, обоз со ссыльными прибыл в Вышний Волочок. Несколько дней спокойного отдыха и хлопоты лекаря Шульца поставили Александра Даниловича на ноги. Он стал меньше раздражаться, шутил даже с Пырским, благодарил за качалку, которую тот для него придумал, часто и подолгу бродил возле дома, где они остановились, с удовольствием вдыхая уже стылый, по-настоящему осенний воздух.
Холода наступили рано и неожиданно. Замерзшая за ночь земля звенела. Густой иней, словно снег, покрывал сухую траву, ветки кустов, опавшие листья. Александру Даниловичу всё время было холодно даже в шубе, которую для него достали из поклажи. Видя посиневшее лицо и замерзшие руки мужа, Дарья Михайловна сказала, протягивая ему большую тёплую шаль:
– На вот, Александр Данилович, покройся, потеплее станет.
– Нет, княгиня, – улыбнулся Александр Данилович, – что ж ты меня за бабу почитаешь?
– Я ведь так, – оправдывалась Дарья Михайловна, – студёно ведь на воле.
– Ничего, ничего, Бог даст, не замёрзну, – ответил Меншиков, глубже натягивая на уши тёплую соболью шапку.
Через десять дней довольно однообразного и спокойного пути ссыльные прибыли в Клин, где их уже поджидал новый гонец из Петербурга.
Сердце у Александра Даниловича замерло, потом часто и радостно забилось. «Одумались, одумались, – было первой ликующей мыслью князя, – велят обратно ехать, обратно», – весело думал он. И Дарья Михайловна, и её сестра, и нареченная невеста государя застыли в ожидании радостных известий.
Степан Мартынович Пырский, начальник охраны опальных ссыльных, за долгие дни пути вместе с семьёй князя привык к ним и даже по-своему жалел их.
Не зная, за что прогневался на Александра Даниловича государь, Пырский тоже питал надежду, что совсем не опасный, а даже очень приятный в обхождении князь получит монаршую милость, о чём он иногда и говорил с опальным. Появление гонца как будто бы поддержало в нём эту надежду.
Строгий официальный вид курьера, потребовавшего Пырского для разговора в особую, отведённую ему комнатку, не внушил уверенности. А когда Степан Мартынович прочёл протянутую курьером бумагу, ожидания лучшей участи для ссыльных вовсе рухнули.
Пырскому пришлось дважды перечесть бумагу, прежде чем он окончательно понял её трагический смысл.
В указе, подписанном государем, приказывалось ему, капитану Пырскому, изъять у Меншикова, его сына и дочерей все жалованные им ордена, а также говорилось об отправке Варвары Михайловны Арсеньевой в Александровский монастырь.
У нареченной государевой невесты княжны Марии Александровны Меншиковой требовалось изъять обручальное кольцо, поднесённое ей государем Петром Алексеевичем, а взамен вернуть ей то, что она дарила ему при обручении.
Возвращая прочитанную бумагу, Пырский молчал, глядя прямо в лицо курьера. Тот, не торопясь, достал из-за пояса небольшой кованый кошелёк, вынул оттуда золотое кольцо и, отдавая его Пырскому, сказал:
– Это надо передать.
– Хорошо, – согласно кивнул Пырский, принимая кольцо. – Как изволите: сами указ зачтёте или мне поручите?
Помолчав немного, всё так же строго курьер произнёс:
– Кольцо сами, Степан Мартынович, передайте, а указ я зачту, но в вашем присутствии. – И, вновь помолчав, добавил: – Кольцо вернёте, как я указ зачту.
– Как прикажете, – согласился Пырский.
Уже по лицам вошедших в горницу Пырского и курьера из Петербурга Александр Данилович понял, что хорошего ждать не следует. Он выпрямился, сжал кулаки, лицо его словно окаменело. Он ждал, что скажут вошедшие.
Обведя взглядом собравшихся, с нетерпением ожидавших его слов, офицер откашлялся, неторопливо достал свёрнутую бумагу, которую успел убрать после того, как прочёл её Пырскому, медленно развернул и так же медленно начал читать.
Ни единым словом, ни единым взглядом опальное семейство не прервало чтение указа, лишь в том месте, где говорилось о кольце, Маша вздохнула и тут же попробовала снять с пальца кольцо, которое никак не снималось. Из-за холода руки её распухли, и оно сделалось мало.
Варвара Михайловна с укором посмотрела на племянницу, и Маша, сжав руку в кулак, затихла.
Даже Варвара Михайловна, услышав приговор своей судьбе – об отправке её в монастырь, – не проронила ни слова всё время, пока Пырский и курьер, читавший указ, были в горнице, но как только они вышли, она прислонилась к перегородке, отделявшей огромную печь от избы, и разрыдалась.
Она плакала громко, отчаянно, безудержно, так что даже никто из близких не рискнул подойти к ней.
Прибывшим курьером велено было к утру следующего дня сложить всё требуемое на столе в горнице, а Варваре Михайловне быть готовой к отправке в определённый для неё монастырь.
– Ну, поди, рада, что свадьбы не будет? – недобро глядя на княжну Марию, сказала Варвара Михайловна. – Видала я, как ты кольцо-то с пальца сдёргивала! Обрадовалась небось, что свадьбе не бывать, – вновь повторила она.
Княжна Мария молчала, слушая тётку, и лишь едва заметная улыбка промелькнула на её лице.
– Рада, вижу, что рада, – продолжала зло шептать Варвара Михайловна.
– Оставь её в покое, – заступился за дочь Александр Данилович, – так, видно, Богу надо.
– Как же, как же, Богу! Да из-за неё, из-за упрямицы, всё и случилось.
– Что случилось? – не поняв свояченицу, переспросил Меншиков.
– Да всё это, – всё более распаляясь, продолжала Варвара Михайловна. – Думаешь, государю неведомо было, что он ей не по душе? Как же, дожидайся! Да ему, голубчику, этот Ванька Долгорукий небось все уши прожужжал, что она от любви к графу Петру Сапеге помирает, да, наверно, не без корысти – у самого-то сестрица на выданье, так думает: «Уговорю государя, благо мал ещё да глуп, одну бросить, а на другой жениться».
– Что ты такое говоришь! – возмутился Александр Данилович.
– Вот то и говорю, что так оно и случилось. Знаю я этих Долгоруких, всех этих змей подколодных! В глаза-то тебе смотрят да все улыбаются, а как отвернёшься, так и ужалят.
– Полно, полно, Варвара, перестань! Не говори не дело, – строго одёрнул свояченицу Меншиков, видя, что дочь от обиды готова расплакаться. – Какие Долгорукие? О чём ты говоришь? Старый-то князь дурак дураком, а сыночек хорош только девок за подолы хватать.
– Александр Данилович, что ты говоришь такое? Ведь здесь дочери твои, – взмолилась Дарья Михайловна.
К ночи, когда страсти немного улеглись и все направились спать, Александр Данилович окликнул у порога Варвару Михайловну и попросил её остаться. Та быстро подошла к нему, вопросительно глядя в глаза.
– Погоди, Варвара Михайловна, погоди, – повторил он задумчиво. – Есть мысль одна, хочу её с тобой обсудить.
Узнав содержание указа, доставленного курьером, Александр Данилович утратил мужество. Видя слёзы жены и дочерей, неистовство свояченицы, он испугался. Испугался не за себя, а за всех тех беззащитных родных, судьба которых представлялась теперь в самом чёрном цвете. Отбросив гордость, он решил ещё раз попытаться просить защиты у тех, кто был теперь в силе, у тех, кого он знал, кому помогал, когда сам был при власти.
Варвара Михайловна молчала: ждала, что скажет князь.
– Скажи, Варвара, – обратился он к ней кротко и ласково, – есть ли у тебя человек надёжный?
– Надёжный? – переспросила Варвара Михайловна.
– Да, такой надёжный, которому довериться можно?
– Довериться? – всё ещё ничего не понимая, переспросила свояченица. – В чём довериться? Неужто ты решил бежать? – со страхом спросила она.
– Да какое там бежать! – Меншиков безнадёжно махнул рукой. – Бежать раньше можно было, когда моих людей с оружием было вдвое больше, чем у Пырского.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Наконец Александр Данилович сказал, отводя взгляд в сторону:
– Нет, не бежать. Нужен надёжный человек, чтобы сейчас тайно отправить его в Москву да ещё кой-куда.
– В Москву? Это зачем же?
– Хочу послать гонца тайком с просьбой к генералу Михаилу Михайловичу Голицыну[18]18
Голицын Михаил Михайлович (1675—1730) – князь, полководец и флотоводец, генерал-фельдмаршал; с 1728 г. президент Военной коллегии, сенатор и член Верховного тайного совета; с воцарением Анны Иоанновны был отстранён от дел.
[Закрыть], Пусть похлопочет перед государем о милости, – он на секунду остановился, – да не мне, не для себя прошу милости, а для них, – он махнул рукой на дверь, за которой скрылись жена и дети.
Варвара Михайловна промолчала.
– Виноват один я, – продолжал Меншиков твёрдо, – так пусть меня одного и казнят. Их-то за что?
Варвара Михайловна, подойдя к нему совсем близко, крепко обняла его и, прижавшись всем телом, заговорила, жарко дыша в самое ухо:
– А я-то как же, дорогой ты мой Александр Данилыч, я-то как без тебя останусь?
Меншиков молча старался высвободиться из её крепких объятий.
– Друг ты мой дорогой, Сашенька, для меня весь свет белый не мил без тебя. Мне бы только рядом с тобой, всё равно куда, хоть в Сибирь, хоть на каторгу, лишь бы с тобой!
– Что ты, что ты, Варвара, – взволнованно прервал её Меншиков. – Ну будет, будет, успокойся.
– Ведь люблю я тебя, дорогой ты мой, – не обращая внимания на слова Александра Даниловича, продолжала Варвара.
– Знаю, всё знаю, – тихо проговорил он.
– Знаешь?! – удивлённо воскликнула Варвара Михайловна, отстраняясь от него.
– Конечно, знаю, не слепой же. Всё вижу и всё знаю.
После этих слов Александра Даниловича Варвара Михайловна отошла от него, провела рукой по лицу, будто стирая с него все те чувства, которые вдруг, помимо её воли, вырвались наружу. И словно не было между ними ничего, словно она не говорила ему только что те страстные слова, которые долгими одинокими ночами твердила сама себе.
Она спросила его по-деловому:
– Когда надо?
– Сейчас.
– Есть у меня один надёжный человек.
– Кто таков?
– Фёдор Фурсов.
– Фурсов? – удивлённо переспросил Меншиков. – Мой служитель, что по своей воле с нами отправился?
– Он самый.
– Хорошо ли знаешь его?
– Человек надёжный, – твёрдо ответила Варвара Михайловна.
Прячась от караула, Александр Данилович обдумал и написал прошения с просьбой о смягчении их участи не только Голицыну, но и губернатору Москвы Ивану Фёдоровичу Ромодановскому, а также давнему своему знакомому, сенатору Ивану Алексеевичу Мусину-Пушкину, которому Меншиков в своё время помог немало.
К утру все послания были написаны и запечатаны. Как только рассвело, Варвара Михайловна вышла из избы, где на ночлег остановилась вся семья опального вельможи, и направилась к небольшому строению, похожему на сарай, в котором ночевали люди Меншикова.
Фёдор только что проснулся и, потягиваясь, вышел на крыльцо. Увидев Варвару Михайловну, идущую к нему, он удивился и, спустившись с покосившегося низкого крыльца, пошёл ей навстречу.
– Ты-то мне, Феденька, и нужен, – обрадовалась Варвара Михайловна.
– Или случилось что с князем?
– Нет, с ним, слава Богу, всё хорошо. Я к тебе сама дело имею.
– Дело? – серьёзно спросил Фёдор.
– Притом тайное, – значительным шёпотом ответила Варвара Михайловна.
Фёдор молчал, глядя себе под ноги. Выждав несколько минут, Варвара Михайловна сказала:
–Уж такое важное дело, что лишь тебе, Феденька, и доверить берусь.
Тот по-прежнему молчал. Варвара Михайловна продолжала:
– Как сегодня поутру тронемся в путь, ты незаметно отстань да и скройся, когда лесочком вон тем проезжать будем. – Варвара Михайловна указала рукой на редкий берёзовый лесок, куда уходила дорога.
Фёдор всё ещё молчал, не зная, чего хочет от него Варвара Михайловна.
– В лесочек-то зачем? – наконец произнёс он, вопросительно взглянув на собеседницу.
– В лесочек-то? Да затем, чтобы скрыться, а потом и поехать.
– Куда ж ехать-то? – спросил Фёдор.
– В Москву поскачешь, – ответила Варвара Михайловна. – Да лошадь-то получше покорми перед дорогой: путь неблизкий, – добавила она строго.
– В Москву-то зачем?
– Письма тайные туда повезёшь.
– Письма? Кому же?
– Всё, всё тебе скажу. Ведь ты грамоту знаешь?
– Ну знаю.
– Нет, писать для тебя ничего не стану, так скажу, а ты запомни, кому какое письмо отдать. Исполнишь? – С последними словами Варвара Михайловна протянула Фёдору тяжёлый мешочек. – Это тебе на дорогу.
– Исполню, чего не исполнить. Давайте, что ли, послания.
Отойдя подальше от дома и завернув за угол, туда, где их не могли видеть, Варвара Михайловна передала ему три пакета, растолковав, кому что передать.
Внимательно выслушав её, Фёдор осторожно взял пакеты, сделал пометки на каждом из них и спрятал пакеты за пазуху.
– Ты уж постарайся, Феденька, сделай всё, как прошу, и я тебя не обижу как вернёшься – ещё денег дам.
– Постараюсь, – коротко пообещал Фёдор.
Но напрасно ждали Александр Данилович и Варвара Михайловна возвращения своего гонца. Добравшись благополучно до Москвы, Фёдор Фурсов не рискнул обратиться с посланиями опальных ссыльных к столь важным особам, решив про себя, что «то немалое дело».
Едва Варвара Михайловна вернулась в избу, где находилось всё семейство князя, там появились капитан Пырский и прибывший накануне курьер.
Увидев Варвару Михайловну уже на ногах, капитан попросил её позвать всех в переднюю горницу, захватив с собой все ордена, что когда-то были даны не только Александру Даниловичу, но и детям его.
Однако Варваре Михайловне не пришлось будить ни самого князя, ни Дарью Михайловну, ни детей: Марию, Александру и младшего сына Александра. Узнав ещё вечером причину, по которой их догнал курьер, Александр Данилович велел принести небольшой красного дерева сундучок, куда сложил все оставшиеся у него после изъятия в Петербурге награды. Сверху он положил обручальное кольцо, полученное княжной Марией от государя при обручении.
Кладя в сундучок кольцо дочери, понял: надежды на милость нет. Для него всё было кончено. В полутёмной заезжей избе вспыхивали и переливались огнями драгоценные камни, украшавшие награды.
Пырский осторожно вынимал из сундучка каждую вещь, передавал её курьеру, который в свою очередь внимательно оглядывал её со всех сторон, клал рядом с сундучком на расстеленную на столе бархатную подстилку, покрывавшую до того вещи в сундучке, ещё раз тщательно осматривал каждую вещь – нет ли где изъятых камней, – затем аккуратно записывал всё в толстый журнал.
Александр Данилович отрешённо смотрел на всё происходящее, словно видел всё в неясном смутном сне, словно происходило это совсем не с ним, а он только случайно попал сюда, в эту заброшенную полутёмную избу, где лишь блеск драгоценных камней напоминал ему о прошлом. Только однажды сердце его забилось сильнее: когда Степан Мартынович извлёк из сундучка последнюю лежавшую там вещицу. Это был нагрудный знак, полученный Меншиковым в давние времена, когда они с государем Петром Алексеевичем, оба молодые, весёлые, задорные, плотничали на Саардамских верфях. Он даже шагнул было вперёд, даже протянул было руку к этой простой, без украшений, но очень дорогой для него вещи, но, увидев недобрый блеск в глазах капитана и строгий взор курьера, остался стоять на своём месте.
– Что-то ваших орденов, Александр Данилович, недостаёт, – сказал вдруг курьер, сурово посмотрев на Меншикова.
– Это каких же? – с едва заметной усмешкой спросил тот.
– Ну как же! Вы были пожалованы орденом Андрея Первозванного, украшенным алмазами, а где ещё орден великого князя Александра Невского?
– A-а, этих, – всё с той же усмешкой проговорил Меншиков.
– Да, этих самых.
– Ну, об этом деле должны были вас в известность поставить.
– Так в чём же дело? – всё ещё не понимая, спросил курьер.
– Да их же ещё в Петербурге у меня изъяли, как только арест объявили. И заодно тогда же яхонт[19]19
Яхонт – старинное название рубина и сапфира.
[Закрыть] редкий забрали.
– Яхонт? – переспросил курьер.








