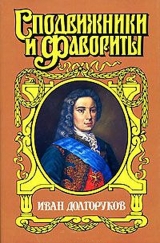
Текст книги "Две невесты Петра II"
Автор книги: Софья Бородицкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 28 страниц)
Глава 10
В середине июля 1727 года светлейший князь Александр Данилович Меншиков внезапно тяжело заболел. Он был так плох, что даже написал духовную – завещание – и несколько писем влиятельным сановникам с просьбой не оставить в беде его семью.
За время болезни Александра Даниловича неожиданно многое изменилось. Во-первых, уехал из города в Петергоф молодой государь. Там он почти совсем забросил занятия и большую часть времени проводил в бесконечных прогулках верхом, охоте, балах и прочих увеселениях. Однако веселье, постоянным участником которого был князь Иван Долгорукий, подчас оставляло в душе юного монарха глубокое разочарование.
Как-то раз, когда весь двор находился ещё в Петербурге и Пётр Алексеевич жил во дворце своего «батюшки» на Васильевском острове, поздно вечером, когда он уже собирался лечь в постель, отворилась заветная дверь, ведущая в покои его любимца, и сам князь Иван появился на пороге. Он вошёл с кем-то, кого государь не мог рассмотреть из-за полумрака в комнате.
– Ваше величество, – официально произнёс князь Иван, – я пришёл к вам не один.
– С кем же? – удивлённо спросил государь, стараясь рассмотреть незнакомца, пришедшего вместе с Иваном.
– Лизхен, – обратился Иван к спутнику, – подойди поближе.
– Лизхен? – ещё раз удивился Пётр Алексеевич. – Разве это женщина? – недоумевал он, разглядывая мужское платье незнакомца.
– Ну да, женщина, и очень хорошенькая, – смеясь, ответил князь Иван.
Незнакомка, которую князь Иван назвал Лизхен, подошла ближе к постели государя, и только тут Пётр Алексеевич увидел, что в мужском платье, ловко сидящем на ней, действительно была прехорошенькая девушка со светлыми волосами, которые рассыпались по её плечам, как только она сняла с головы шляпу, пухлыми щёчками и голубыми глазками. Всей своей статью она очень напоминала цесаревну Елизавету.
– Её зовут Лизхен? – переспросил государь.
– Да, ваше величество, – тихо ответила незнакомка, склоняясь в низком поклоне.
Некоторое время все трое молчали. Удивлённый государь переводил взгляд с Лизхен на князя Ивана, не зная что сказать.
– Лизхен, – почтительно произнёс князь Иван, – упросила меня познакомить её с вашим величеством.
– Её со мной? – всё так же удивлённо переспросил государь. – Но почему?
– Лизхен, – обратился к ней князь Иван, – скажи сама его величеству Петру Алексеевичу, зачем ты умолила меня привести тебя сюда.
– Затем, – в замешательстве сказала девушка, не глядя на молодого государя, – что я люблю вас.
– Ты любишь меня! – воскликнул Пётр Алексеевич.
Он подошёл к ней совсем близко, с любопытством рассматривая её смущённое лицо.
– Я полагаю, ваше величество, что мне лучше удалиться, чтобы своим присутствием ещё больше не смущать Лизхен.
Государь не успел ничего ответить, как дверь за князем Иваном бесшумно затворилась и он остался наедине с девушкой.
На следующее утро князь Иван, не дожидаясь появления государя в урочное время, тихо постучал в его дверь. Ответа не последовало. Он постучал ещё раз уже чуть громче. За дверью послышались какие-то звуки, похожие то ли на всхлипывания, то ли на вздохи. Решившись наконец открыть дверь, князь Иван заглянул в спальню.
На смятой постели ничком, уткнувшись в подушку, лежал государь, плечи его вздрагивали.
Удивлённый князь Иван подошёл ближе, склонился над государем и услышал, что он плачет. Девушки в комнате не было.
– Ваше величество, – обеспокоенно произнёс князь, – что случилось? Почему вы плачете?
Он слегка коснулся плеча государя, словно желая повернуть его к себе лицом.
– Ах, оставь, оставь меня!– неожиданно громко ответил Пётр Алексеевич, поворачиваясь к Ивану, но не открывая глаз.
Он сел, оперся локтями на подогнутые колени, опустил голову на руки и, мотая ею из стороны в сторону, проговорил скороговоркой:
– Гадко, гадко, всё гадко! Она была такая толстая, потная... Ах, как гадко, – повторял он, не переставая мотать головой.
Поняв, в чём дело, князь Иван присел на край постели, обнял плачущего молодого человека и, укачивая, будто маленького, начал говорить ему что-то тихо и ласково. Пётр Алексеевич, казалось, внимательно слушал его. Наконец он перестал качаться, слёзы словно высохли на его лице, он открыл глаза, посмотрел на своего друга, увидел его добрый, внимательный взгляд, уткнулся головой ему в грудь и затих.
Много позже, уже будучи в Москве, предаваясь вместе со своим наставником и другом всяким утехам, молодой государь, оставшись наедине с ним, иногда с улыбкой вспоминал и ту первую свою ночь с Лизхен, и свои слёзы поутру.
Во время болезни «батюшки» Пётр Алексеевич так отвык от его постоянной опеки, от мысли о необходимости женитьбы на нелюбимой Марии Меншиковой, что не мог даже представить себе возврата к прежней жизни.
Преодолев тяжёлую давнюю болезнь лёгких, Александр Данилович поправился и вновь принялся за разнообразные государственные и светские дела. Его особо заботило строительство своего загородного дома в Ораниенбауме, куда он уехал в конце августа 1727 года.
Молодой государь со всем двором и сестрой Натальей Алексеевной переехал в Петергоф.
30 августа в семье светлейшего князя Александра Даниловича намечались грандиозные торжества по случаю его именин.
К этому дню готовились загодя. Из теплиц в Петербурге были привезены созревшие к тому времени дыни и арбузы, готовились музыканты и певчие, с участием которых должно было пройти освящение церкви, построенной рядом с домом.
Однако к глубокому огорчению и разочарованию светлейшего князя, Дарьи Михайловны и особенно её сестры Варвары Михайловны, улавливающей все изменения, происходящие при дворе молодого государя, ни сам Пётр Алексеевич, ни знатнейшие вельможи на день именин Александра Даниловича к нему не приехали. В этом Варвара Михайловна увидела дурной знак и неоднократно говорила зятю:
– Ох, неспроста всё это, неспроста. Ты бы, Александр Данилович, побывал сам в Петергофе, разузнал бы, что там и как.
– Брось, Варвара Михайловна, – отмахивался от её тревожных предсказаний уверенный в своём могуществе светлейший:– Ну что за дела? Там при нём Андрей Иванович Остерман. Он мне недавно писал, что у них всё хорошо. Государь даже к занятиям пристрастился.
– Ох, не верю я ему, не верю, – качая головой, повторяла Варвара Михайловна. – Какой-то он больно скользкий, словно налим под корягой: и хочешь его на свет вытащить, да не можешь ухватить: так и соскальзывает с рук, так и соскальзывает.
– Ну уж ты, Варвара Михайловна, и скажешь – налим! – смеялся Александр Данилович. – Налим рыба смирная, лежит себе под корягой и лежит. Ты его не тронь, и он тебя не обидит.
– Ладно, ладно, – не соглашалась свояченица, – пусть он-то смирен, а кроме него там щук да прочих хищников полно. Одни Долгорукие чего стоят! Уж им-то палец в рот не клади.
– А никто и не собирается им пальцы в рот совать, на них у нас и острога найдётся, – серьёзно добавил Меншиков, перестав смеяться.
Однако когда ни на день именин, ни на освящение построенной церкви не приехал не только молодой государь, но и никто из родовитых вельмож, Меншиков обеспокоился не на шутку.
Прибыв в Петергоф, он не застал там юного монарха, хотел было повидать его сестру, великую княгиню Наталью Алексеевну, но и её не оказалось дома. Светлейший не мог даже себе представить, что, увидев его подъезжающим к дворцу, сестра государя Наталья Алексеевна, как расшалившаяся девчонка, выпрыгнула из окна первого этажа, благо оно было совсем низко, а под ним на клумбе росли уже начинавшие расцветать гвоздики и флоксы.
Вечером, узнав о приезде светлейшего в Петергоф, князь Алексей Григорьевич Долгорукий, неотступно следивший за двором государя и его сестры, вошёл в покои своего сына, князя Ивана, которые и в Петергофе располагались рядом с покоями государя. Долгорукий застал сына, лежащим на постели поверх дорогого атласного покрывала в верхнем платье, только снятые сапоги валялись в разных углах комнаты.
Заложив руки за голову и подняв согнутые в коленях ноги, князь Иван мечтательно смотрел в окно на уже прозрачное, по-осеннему бледное вечернее небо.
– Всё отдыхаешь, – чуть насмешливо произнёс князь Алексей Григорьевич, без приглашения сына усаживаясь в глубокое низкое кресло.
– Да, устал немного, – не зная, чем объяснить поздний визит отца, не спеша ответил князь Иван, поднимаясь и садясь на постели.
– Ещё бы не устанешь, гоняясь целыми днями за зверьем! – всё так же с видимой насмешкой поддакнул князь Алексей Григорьевич.
– Неужто я по своей воле гоняюсь? – начиная сердиться, ответил сын.
– Знаю, что не по своей: кабы твоя была воля, ты бы не за зверьем, а лишь за девками гонялся.
– Или плохо? – улыбнулся князь Иван.
– Ну ладно, будет. Я к тебе не с тем пришёл, – серьёзно сказал ему отец, – дело есть, и важное.
– Дело? Важное? Ну тогда это не ко мне, а к Андрею Ивановичу Остерману, а того лучше – к самому светлейшему, – всё ещё стараясь обратить всё в шутку, ответил Иван.
– Полно, перестань да сапоги-то надень, а то разговариваешь с отцом как... – Князь Алексей Григорьевич подыскивал сравнение, но, не найдя ничего, продолжал: – Да платье-то оправь: смотреть противно на такое твоё поведение.
– Так в чём же дело? – став серьёзным, спросил князь Иван, усаживаясь напротив отца в такое же глубокое кресло.
– А дело в том, что только ты сейчас можешь подтолкнуть его величество к решительному шагу.
– Это к какому же? – ещё ничего не понимая, насторожился князь Иван.
– Эх, да кабы я был с государем так близок, как ты, уже давно бы это дело было решено.
– Какое дело?
– Важное дело. Сейчас самый момент светлейшего потеснить.
– Это как же? – заинтересованно спросил Иван.
– Эх, горе ты моё! Всё-то тебе надо разжевать да в рот положить. Неужто не ясно, что надоел государю светлейший? Вот как надоел. – Князь Алексей провёл ребром ладони по горлу.
Иван молча слушал, что ещё скажет отец.
– А пуще всего ненавистна государю эта женитьба на Машке Меншиковой.
– Я-то что могу сделать?
– Как что? – удивился князь Алексей. – Да очень даже много можешь. Говори ему каждый день, что, дескать, светлейший, ну «батюшка», как государь его зовёт, слишком много себе воли забрал. Распоряжается всем не он, Пётр Алексеевич, государь наш, а светлейший князь над нами господствует.
– Это так, – согласно кивнул Иван.
– Ну а ежели так, то и укажи ему на примеры.
– Какие примеры?
– Не то ты сам не знаешь, – с иронией посмотрел князь Алексей Григорьевич на сына. – Все при дворе лишь о том и говорят, а ты не знаешь!
– О чём же?
– Да о том, что при освящении церкви в Ораниенбауме, когда государь туда не поехал, светлейший стоял на том месте, которое было для государя назначено.
– Да-да, верно, я слыхал об этом, – оживился князь Иван.
– «Слыхал», – передразнил его отец, – слыхать мало – надо пользоваться этим!
Всё ещё ничего не понимая, князь Иван молча смотрел на отца. Напряжённое молчание длилось долго. Наконец старый князь продолжил:
– Разве это дело, когда царское место в храме его холоп занимает!
– Холоп, – усмехнулся князь Иван.
– А то кто же? Холоп! Мы все государевы холопы. Только он хитростью прополз да возле государя покойного, царство ему небесное, – перекрестился князь Алексей, – сбоку и пригрелся.
– Ну так дальше-то что? – перебил отца князь Иван.
– А то, что надобно подсказать государю, дескать, он молод и многого не знает, такие поступки со стороны его холопа непозволительны. Да разве только это! – помолчав, сказал старый князь.
– А что ещё? – уже с явным интересом спросил сын.
– А то, что он деньги, подаренные государем своей сестре, велел у неё отобрать да к себе унести, – торжествующе добавил Алексей Григорьевич.
– Да-да, – закивал головой князь Иван и, почему-то волнуясь, встал с кресла и принялся ходить по комнате. – Верно, верно, про это я тоже слыхал, государь мне сказывал и очень был тогда сердит, всё повторял, что он докажет светлейшему, кто у нас государь и чьи приказы положено исполнять.
– Вот видишь, сам говоришь, что сердился государь на светлейшего. Так ты эту его злость на дело и употреби.
– Как это?
– Да просто каждый день ему помаленьку и говори, что больно много воли светлейший себе забрал. Вот ещё и генералиссимуса себе выпросил, теперь он над всей армией один хозяин.
– Так, так, так, – возбуждённо повторял князь Иван, – а более всего ему следует говорить о его невесте ненавистной.
– Вот-вот, – обрадованно подхватил князь Алексей Григорьевич, – это, сынок, самое верное. Говори ему, дескать, кто ж в такие молодые годы женится? Тем паче на нелюбимой. Хватит ещё невест на его век, – многозначительно добавил князь Алексей и так посмотрел на сына, что тот подумал о какой-то интриге, которую пока тайно затевает его отец.
Они долго молча смотрели друг на друга, и в глазах отца князь Иван видел жестокую радость.
– Верно, сын, верно. Ты, оказывается, у меня тоже кое-что соображаешь, – хлопнув его по плечу, заключил Алексей Григорьевич.
– Нам бы только светлейшего убрать, а там...
Но старый князь не успел договорить: дверь отворилась, и на пороге комнаты появился молодой государь.
– Ты здоров ли, Ванюша? – обеспокоенно обратился он к князю Ивану. – Мне доложили, что тебя поутру лошадь сильно зашибла!
– Да было маленько, – улыбнулся князь Иван.
– Вот и я зашёл сынка проведать, как услыхал о том. – Да всё, слава Богу, хорошо, – проговорил князь Алексей Григорьевич, отступая к дверям. – Ты если что, Ванюша, кликни меня, я тут, с тобой рядом.
Оставшись один, Иван долго раздумывал над словами отца и понял одно: он вполне может настроить государя и против невесты, которую и сам не переносил, и против «батюшки», позволявшего себе в последнее время много вольностей.
Воспользовавшись правом больного – он действительно накануне упал с лошади, – князь Иван на следующий день остался дома. Государь не захотел никуда ехать без него, и запланированная поездка в гатчинские леса, где водилось много дичи, была отменена.
Целый день они провели в комнате князя Ивана. Государь распорядился, чтобы его не тревожили, и даже обед был принесён в покои князя Ивана.
Улучив удобную минуту, тот словно невзначай начал разговор о предстоящей свадьбе государя и о том, что, судя по слухам, в доме «батюшки» усиленно готовятся к этому дню.
– Ах, – вздохнул государь, – прошу тебя, Ванюша, ежели ты мне друг, не вспоминай об этом.
– Куда ж денешься? – обречённо вздохнул в ответ Иван. – Хочешь не хочешь, а свадьба-то вот она, рядом.
– Нет-нет, я не хочу, чтобы «рядом». – Немного помолчав, государь задумчиво продолжал: – Вот если б можно было отодвинуть её подальше, а не то так и совсем отменить...
– Отменить? – раздумчиво повторил князь Иван и тут же обрадованно всплеснул руками, словно лишь сейчас ему на ум пришло это решение: – Можно, можно, можно!
– Что можно-то? – с надеждой посмотрел на него государь.
– Да свадьбу можно отменить!
– Ты, видно, шутишь, Ванюша, – разочарованно протянул государь. – Как же её отменить возможно? У меня вот и обручальное кольцо. – Он повернул на пальце кольцо.
– Кольцо – это ничего! Кольцо ведь и снять можно, оно ведь не клеем приклеено к пальцу.
Ещё ничего не понимая, государь с удивлением и тайной надеждой смотрел на князя Ивана.
– Всё просто, надо только убрать светлейшего.
– Убрать «батюшку»? – выдохнул государь, не зная, верить ли тому, что говорит друг. – Да как же это сделать?
– Да очень просто....
Весь оставшийся вечер князь Иван и государь, близко сидя друг к другу, говорили о том времени, когда не станет «батюшки», вернее, когда он не сможет командовать всеми, и о том, что они будут делать, как станут свободными.
Глава 11
Размолвка между светлейшим князем Александром Даниловичем Меншиковым и молодым государем Петром Алексеевичем всё углублялась.
Вернувшись в Петербург осенью, государь не поехал во дворец на Васильевском острове, а вновь поселился в своём летнем дворце. Этот поступок насторожил Александра Даниловича, но не испугал его. Он приписал такое поведение государя его молодости, увлечению своей красивой тёткой цесаревной Елизаветой, желанию побыть на свободе без постоянного надзора.
Однако события августа, когда не только сам государь, но и виднейшие сановники не появились у него на званом обеде в Ораниенбауме, несколько встревожили светлейшего князя.
Он принялся писать письма в Верховный тайный совет[13]13
Верховный тайный совет – высшее государственное учреждение в России в 1726—1730 гг., создано при Екатерине I по инициативе А.Д. Меншикова как совещательный орган при ней, фактически решал важнейшие государственные дела; после смерти Петра II (19 января 1730 г.) «верховники» пытались ограничить самодержавие в свою пользу, пригласив на трон Анну Иоанновну и заставив её подписать особые условия – «кондиции», которые она разорвала; Совет был распущен.
[Закрыть], виделся и с государем, и с его сестрой, но всё оставалось по-прежнему. Государь жил у себя во дворце и, более того, прислал нарочного забрать из дома «батюшки» свои вещи, которые были привезены туда весной.
Что-то случилось с неукротимым Александром Даниловичем. Что? Он и сам, пожалуй, не смог бы объяснить. Какие-то незаметные в прежней властной жизни события, на которые он раньше совсем не обращал внимания, теперь занимали его.
Как-то зайдя к себе на хозяйственный двор, где размещались подсобные помещения и небольшая псарня любимых им собак, он долго наблюдал, как два кобеля жестоко грызлись из-за одной кости, брошенной им поваром. Собаки эти, мирно уживавшиеся ранее, сейчас Готовы были загрызть одна другую, в то время как почти обглоданная кость досталась совсем другой собаке. Не зная почему, Александр Данилович долго смотрел на эту собачью драку и даже потом длительное время никак не мог отделаться от какого-то смутного, тревожного воспоминания.
Ему припомнился Пётр Андреевич Толстой, с которым они много лет шли рука об руку, помогая друг другу во всех сложных перипетиях жизни при дворе. Что же случилось потом?
«Да просто, как те две собаки, разодрались из-за брошенной кости», – горько подумалось Александру Даниловичу.
Он отгонял от себя подобные мысли, но какая-то пустота в душе мешала ему проявить ещё имеющуюся у него власть. Он – генералиссимус, в руках которого находились все войска, словно со стороны наблюдал за тем, как стремительно нарастали события.
А они не заставили себя долго ждать. 8 сентября высочайшим повелением государя Меншикову был объявлен домашний арест, правда, никакого караула ни в доме, ни во дворе выставлено не было.
Александр Данилович даже после объявления ему воли государя о его домашнем аресте не взбунтовался, не вознегодовал, не поехал в казармы к войскам, прося у них поддержки – ничего этого он не сделал!
Он сел писать челобитную государю, умолял его о милости. Напрасно! Слёзная челобитная, где он молил о прощении и свободе из-под ареста «памятуя речения Христа-Спасителя», не помогла. Да и обратиться за помощью Александру Даниловичу было уже не к кому. Его давние сподвижники его же усилиями были удалены от двора, а «новые друзья» – родовитые вельможи – только и ждали этого момента. Кругом было пусто. Александр Данилович сделал ещё одну слабую попытку подняться, углубив вражду между вечно враждующими друг с другом Голицыными и Долгорукими. Однако сейчас враждующие кланы объединились в одном общем желании – низвергнуть светлейшего.
Совет, куда входили Голицын[14]14
Голицын Дмитрий Михайлович (1665—1737) – князь, государственный деятель; в 1718—1722 гг. президент Камер-коллегии и сенатор, в 1726—1730 гг. член Верховного тайного совета; за участие в заговоре «верховников» был заключён в Шлиссельбургскую крепость, где умер.
[Закрыть], канцлер Головкин[15]15
Головкин Гавриил Иванович (1660—1734) – граф, военный деятель и дипломат, сподвижник Петра I, первый русский государственный канцлер (с 1709 г.), член Верховного тайного совета.
[Закрыть], Апраксин[16]16
Апраксин Фёдор Матвеевич (1661—1728) – генерал-адмирал, сподвижник Петра I; член Верховного тайного совета.
[Закрыть] и воспитатель молодого государя Остерман, обсудив план низвержения Меншикова, подписал все необходимые к тому бумаги.
Тогда же, 8 сентября, был издан указ о «непослушании» указам и распоряжениям Меншикова.
Совет постановил сослать опального вельможу в его нижегородское имение и «велеть ему жить тамо безвыездно... А чинов его всех лишить и кавалерию взять».
Правда, по просьбе опального князя решено было отправить его не в Нижегородскую губернию, а в Воронежскую, в город Ранненбург.
Во дворце на Васильевском острове царило смятение. Дарья Михайловна, вздыхая и плача, металась по комнатам: то бралась укладывать столовое серебро, то, оставив его, бежала в горницу, где хранилось приданое Маши, заставляя девушек всё перетряхивать и складывать заново. Варвара Михайловна, всё ещё надеясь на монаршую милость, ездила по городу то к одному, то к другому сановнику, но её часто даже не принимали, а приняв, выслушивали внимательно и сочувственно (с кем, дескать, ни бывало!), но на её слёзные просьбы о милости к опальному только разводили руками, повторяя одно и то же: «Такова монаршая воля».
В этом положении оставался спокойным сам светлейший князь Александр Данилович. Он словно всё ещё не верил, что это случилось с ним на самом деле, а не привиделось ему в страшном сне. Окидывая взглядом дом, двор, убранство комнат, он прекрасно понимал, что никакой обоз не сможет вместить всё то, чем он владел в одном только дворце на Васильевском острове, а ведь были ещё и другие дома и усадьбы. Разве всё это можно было собрать, уложить, упаковать, увезти?
Но всё же общая домашняя суета захватила и его. Увидев как-то старания старшей дочери уложить в небольшой ящик груду вещей, лежавших на полу, он подошёл, осмотрел приготовленные к отправке вещи. Заметив в руках дочери небольшую и не очень ценную пятирожковую вазочку и развёрнутый французский гобелен, где охотник – красивый юноша – напоминал собой графа Петра Сапегу, светлейший улыбнувшись, сказал:
– Шахматы в этот же ящик вели уложить.
– Хорошо, хорошо, батюшка, – кивнула головой дочь, – не беспокойтесь, уложу.
– Столешницу-то шахматную со стола не снимешь, так ты сами фигуры собери да куда понадёжнее припрячь.
– Хорошо, хорошо, батюшка, – повторила Маша.
По всему дому носились слуги: что-то уносили, что-то заворачивали. Повсюду валялась серебряная посуда, скатерти, бельё, одежда. Из раскрытых, доверху заполненных сундуков то свисали галстуки Александра Даниловича, то вываливались парики. Дарья Михайловна никак не могла засунуть в заполненный уже сундук ещё одну шубку то ли старшей дочери, то ли младшей. Отчаявшись справиться с сундуком и вещами, она махнула рукой, заплакала (она вообще плакала теперь всё время) и, позвав пробегавшего мимо слугу, поручила сундук его заботам. Дом представлял собой страшную картину разорённого жилья, где все суетились, наталкивались друг на друга, хватались то за одно, то за другое. Мерные частые удары молотков, заколачивающих ящики, дополняли общую картину хаоса. Наконец отведённые на сборы сутки закончились, и все приготовленные к отправке вещи были уложены.
У подъезда дома стояли готовые к поездке тридцать три кареты, коляски, колымаги, заполненные баулами, баульчиками, сундуками, кое-как забитыми ящиками, узлами. В назначенное время обоз в сопровождении свиты из ста сорока лакеев, поваров, портних, собственных драгун, со всем семейством светлейшего: его самого, жены Дарьи Михайловны, их детей – нареченной невесты Петра Алексеевича, её младшей сестры Александры, сына Александра – и свояченицы Варвары Михайловны тронулись в путь.
Осенний день был хмурый, серый, дождливый, с редкими проблесками солнечных лучей, такой, какими часто бывают осенние дни в Северной столице.
Огромные толпы народа заполняли улицы, где проезжал необычно длинный кортеж, во главе которого в дорогой карете ехал сам Александр Данилович, поминутно выглядывавший из её окна. Увидев в толпе знакомое лицо, он приветливо улыбался, кивал красивой головой, всем своим видом как бы говоря: «Ждите, ждите, скоро свидимся».
Только выехав за пределы города, на дорогу, ведущую к Москве, где толпы народа были уже редки, а к вечеру обоз вообще не встретил ни одного человека, Александр Данилович устало откинулся на подушки и закрыл глаза. Все смолкли, боясь хотя бы словом потревожить его. А он, может быть, только сейчас, перебирая в памяти события последних дней, начиная с его именин в Ораниенбауме, куда не приехал ни сам государь, ни Остерман, которому слепо доверялся Александр Данилович, впервые осознал всю свалившуюся на него беду. Это не была временная «шутка» молодого государя, это была расплата за всю его блестящую удивительную жизнь, не дававшую покоя всем этим... Подумав об «этих», Александр Данилович крепко сжал зубы, открыл глаза, невидящим взором уставился в сумрак кареты, где, тесно прижавшись друг к другу, сидели его близкие, со страхом следившие за ним. Он вновь закрыл глаза, предаваясь терзающим душу воспоминаниям. Но даже сейчас, отправляясь в ссылку, мысль о сопротивлении воле государя, о мятеже в войсках (ведь все войска были у него в подчинении) не приходила ему в голову.
Нет, никогда бы он не стал смущать покой Отечества, призывая себе на помощь подчинённую ему армию.
Под мерное покачивание кареты он впадал в короткий тревожный сон, в котором его уставший мозг будоражили всё те же видения. Среди этих беспокойных видений он вдруг отчётливо увидел лицо Андрея Ивановича Остермана. Увидел так ясно, словно оно в действительности появилось перед ним. Припомнились Александру Даниловичу его всегда полузакрытые глаза, в которых трудно было прочесть что-нибудь, его всегдашнюю полуулыбку на тонких губах, его вкрадчивый голос, говоривший о том, что государь ещё слишком молод, чтобы довлеть над его волей, заставляя много учиться, как того требовал Меншиков.
– Он, он, он, – почти вслух произнёс Александр Данилович, открывая глаза и всматриваясь в пугающую темноту надвигавшейся ночи.
– Что ты, дорогой Александр Данилович? – услышал он рядом с собой тихий голос жены.
– Ничего, ничего, это я так, – успокаивая супругу, сказал он, дотрагиваясь до её вздрагивающей руки.
– Привиделось что во сне?
– Привиделось, привиделось, – тихо ответил Александр Данилович, вновь закрывая глаза.
Теперь в тесноте и темноте кареты он вдруг ясно осознал, что всё случившееся с ним есть результат долгой кропотливой подготовки одного человека – Андрея Ивановича Остермана. Лишь он своим пронырливым умом, своим вкрадчивым поведением смог настроить против него не только государя, но и всё его окружение. Это он подсказал понравившуюся многим бредовую идею женить государя на его красавице тётке – цесаревне Елизавете, которая по своему легкомыслию вскружила голову мальчишке. Меншиков вспомнил, что слышал о каком-то разговоре, о каких-то союзах, но приняв это за сущий вздор, не придал этому слуху никакого значения.
Но теперь ему казалось, что за каждым словом указа о его ссылке он слышит голос Андрея Ивановича. И вновь Александр Данилович припоминал во всех подробностях слова монаршего указа, который повелевал: «Указали мы князя Меншикова послать в нижегородские деревни и велеть ему жить тамо безвыездно, и послать с ним офицера и капральство, солдат от гвардии, которым быть при нём».
Повторяя про себя этот выученный наизусть указ, Александр Данилович за каждым его оборотом уже отчётливо слышал вкрадчивый голос Остермана, видел хитрую усмешку и торжество победы над поверженным соперником в полуприкрытых бесцветных глазах.
И всё же слабая надежда вдруг оживила Александра Даниловича. Эта надежда – старшая дочь Мария, нареченная невеста, на которой государь во исполнение своего обета перед святой церковью должен будет жениться в своё время. Подумав об этом, Александр Данилович вздохнул и, устроившись поудобнее, задремал.








