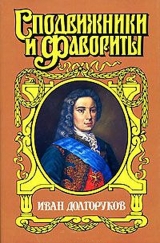
Текст книги "Две невесты Петра II"
Автор книги: Софья Бородицкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 28 страниц)
Прикидывая что-то, Пырский измерил эту стену и в ширину и в длину, что-то шепча про себя, развеселился и вышел из комнаты.
– Всё, что касается Петра Наумовича Мельгунова, он сам вам доложит, – начал тихо Плещеев, не глядя на Александра Даниловича. – У меня к вам, дорогой мой князь, есть особое поручение от Верховного совета.
– Какое же особое поручение? – почти равнодушно поинтересовался Меншиков.
– Довольно сложное, а для меня так даже, поверьте, Александр Данилович, и весьма неприятное.
Мельком взглянув на молчавшего Меншикова, Плещеев продолжал, потирая широкие красные, словно замерзшие ладони.
– Но я человек подневольный, что приказано – должен исполнять.
– И что же приказано? – всё с тем же, казалось, равнодушием спросил Меншиков.
– А я, дорогой Александр Данилович, вместо своих слов инструкцию, мне данную, зачту.
Порывшись в пухлой папке, лежавшей рядом с ним на столе, он вытащил длинный лист бумаги и принялся читать. Голос его из дружелюбного и ласкового вновь сделался строгим и официальным.
Инструкция, вручённая Плещееву Верховным тайным советом, скреплённая подписью самого государя, содержала множество финансовых претензий к опальному вельможе, как от частных лиц, так и от государства. Долгов было так много, что Совет посчитал необходимым описать все «пожитки» опальной семьи. Это и было подтверждено в полномочиях Плещеева, назначенного Советом специальным следователем по этому делу.
Арестовав Меншикова и обыскав его дом в Петербурге, сыщики были весьма разочарованы, не найдя там никаких денег, о несметном количестве которых в сундуках князя ходили легенды, а посему было решено провести дополнительное расследование уже в изгнании.
По инструкции Плещееву поручалось допросить Меншикова о деньгах, «чтобы он сказал подлинно, без утайки, где и у кого в сохранении положены. Також нет ли где в чужестранных государствах в банках и в торгах».
Выслушав длинную инструкцию, Александр Данилович спросил:
– Кого ж это мои деньги более всех беспокоят?
Спросил спокойно, с едва заметной насмешкой.
– А вы не шутите, дорогой князь, – всё ещё строго ответил Плещеев. – Об этом я знать не могу, поскольку в Верховный тайный совет не вхож, а исполняю свой долг, как должностное лицо. – И, тут же смягчив тон, он продолжал:– Да вы, дорогой Александр Данилович, не сердитесь, я ведь не только по службе с вами беседую, а от всего сердца облегчения вашей участи желаю.
Все розыски денег у опальных ссыльных ни к чему не привели. Была обнаружена совсем незначительная сумма, которая никак не могла удовлетворить следователя.
Несмотря на частые тайные задушевные разговоры, которые вёл Плещеев с Меншиковым в гостиной с глазу на глаз, выяснить наличие где-либо денег ему никак не удавалось. Тайная инструкция поручала Плещееву, кроме поиска денег светлейшего, найти в его бумагах либо выведать в разговоре существование у князя связей с иноземными державами в пользу последних.
Глава 16
Руководя Верховным тайным советом, Андрей Иванович Остерман прекрасно понимал, что влияние низвергнутого Меншикова было настолько велико, что даже лишение князя всего состояния не делало его менее опасным. А главное – ссылка его в Ранненбург, хотя и в старую, но близко расположенную к Москве крепость, была опасна и очень беспокоила хитрого дипломата. Надо было найти на светлейшего такие материалы, которые дали бы возможность обвинить его в чём-то важном, например в государственной измене, в предательстве интересов России в пользу Швеции, Дании, Польши – всё равно в чью.
Эти материалы позволили бы Остерману, как главному действующему лицу всей интриги, подготовить манифест за подписью государя, а это уже была бы смертная казнь или вечная ссылка в такие места, откуда не возвращаются.
Улучив момент, когда в гостиной никого не было, Пырский, войдя туда, внимательно осмотрел стены, что-то прикидывая. К его большой радости, на стене, отделяющей эту комнату от караульного помещения, висела большая старинная картина, изображающая охоту. На картине был нарисован убитый зверь: Пырский затруднился бы назвать этого зверя. Пасть его была широко раскрыта в предсмертной конвульсии. Что-то измерив на стене, где висела картина, довольный Пырский вновь вернулся в караульное помещение, где его стараниями в тот момент тоже никого не было. Измерив и здесь что-то на стене, он достал заранее приготовленное сверло и начал сверлить дыру как раз там, где висела картина в гостиной.
Работая, он время от времени останавливался, прислушиваясь к звукам в коридоре, но там всё было тихо. Быстро окончив несложное дело, Пырский вновь вернулся в гостиную посмотреть на результат своей работы. Просверлённые им отверстия оказались прямо в пасти поверженного животного, что делало их совершенно незаметными.
Услышав шаги, Пырский поспешил выйти из комнаты, столкнувшись в дверях с Иваном Никифоровичем Плещеевым, подозрительно на него посмотревшим.
Теперь каждый раз, когда Александр Данилович и следователь оставались вдвоём в гостиной и усаживались на широкий диван, стоявший под самой картиной, Пырский спешил в караульное помещение, выпроводив из него всех, закрывал двери, вставал на заранее принесённую подставку и приникал ухом к отверстию в стене. Но даже подслушивая так, ему не удалось узнать ничего нового или тайного, что дало бы ему возможность донести или о секретах светлейшего, или, на что больше всего надеялся Пырский, на скрытый сговор следователя с опальным вельможей, который, пользуясь своим богатством, мог подкупить кого угодно.
А богатство действительно было ещё велико. В этом Пырский убедился в тот день, когда, следуя полученной инструкции, Плещеев приступил к описи и конфискации имущества светлейшего и его семьи. Вот когда у Пырского захватило дух при виде огромного количества драгоценных камней, украшавших пряжки, застёжки, булавки, эфесы шпаг, не говоря уже о женских украшениях: серьгах, брошах, кольцах, сплошь покрытых алмазами, рубинами, изумрудами. Глядя на эти несметные богатства, Пырский корил себя в душе и за свою торопливость с доносом, и за то, что мало перепало ему из этих сокровищ.
Он жадно смотрел на каждый извлекаемый из футляров, коробочек, сундучков предмет, как вдруг заметил пристальный всепонимающий взгляд Александра Даниловича и смутился.
Сам же Меншиков, бывший светлейший князь, бывший вельможа, смотрел на свои богатства, казалось, равнодушно. В его душе произошла странная перемена, и случилось это после памятного для него разговора с Плещеевым, когда тот доверительно сообщил ему, что на него, Меншикова, ищут материалы как на изменника, на предателя интересов России.
Это откровение Плещеева перевернуло что-то в душе Александра Даниловича. Да, его можно было обвинить в чём угодно, и он это понимал. Да, он не был бескорыстным: получая от государя Петра Алексеевича много, желал большего. Хотел денег, поместий, власти – того, что удерживало его, безродного, среди всех этих надменных вельмож, гордящихся только тем, что Бог сподобил их родиться в раззолоченных палатах, а он появился на свет в захудалом доме царского слуги.
Но обвинить его в предательстве! Это было уже слишком! Это обвинение обожгло его обидой и было больнее всего.
С этого момента он стал воспринимать действительность и всё, что с ним происходило, как-то отрешённо, словно он присутствовал при каком-то странном затянувшемся действе, где он, будучи посторонним зрителем, не мог ни уйти сам, ни прервать это действо.
Он заметил жадный блеск в глазах Пырского при виде всех драгоценностей, вываленных на стол перед Плещеевым для подробной их описи, позлорадствовал в душе, что ничего из этого богатства никогда не достанется Пырскому. Плещеев велел Пырскому вернуть даже тот перстень, что подарил ему Меншиков в свой день рождения. Тот с неохотой сделал это.
Александр Данилович смотрел на всю эту сверкающую груду совершенно спокойно и был рад тому, что ни жена его, Дарья Михайловна, ни старшая дочь Мария, бывшая нареченная невеста молодого государя, не проронили ни единого слова. Дарья Михайловна не пролила ни одной слезинки, хотя Александр Данилович знал, что, оставаясь одна, она горько плакала. Он боялся этого больше всего.
К своему удивлению, среди драгоценностей дочери, принесённых ею Плещееву для описи, он не увидел дорогого кольца, подаренного ей когда-то первым её женихом, графом Петром Сапегой. Тут мысли князя приняли совсем другой оборот, и он с жалостью посмотрел на свою покорную, тихую, теперь такую бледную и худенькую дочь. И, может быть, впервые что-то вроде угрызений совести из-за погубленной судьбы дочери шевельнулось в его душе.
Думая о ходе событий, Александр Данилович понимал, что дело зашло далеко и о царской милости сейчас не могло быть и речи.
Окольными путями до него доходили слухи о том, что молодой государь, ведомый Иваном Долгоруким, пустился в разгул с неистовством неискушённой молодости и все государственные дела вершит теперь Верховный тайный совет, где всем заправляет Андрей Иванович Остерман – его бывший ставленник, его надёжная опора при молодом царе. Исходя из этого, ждать ему милости не приходилось ни от кого, тем более от Остермана, так долго ждавшего момента, когда поверженный Меншиков освободит ему место у ступеней царского трона.
Единственное, чего боялся Александр Данилович, так это ухудшения своего нынешнего состояния. Боялся не за себя, а за них – за жену и детей, безвинно страдающих по его вине, хотя она так и не была названа ни царём, ни Верховным тайным советом.
Опись вещей в семье светлейшего князя шла долго. В первый же день, когда среди принесённых Дарьей Михайловной её личных вещей Александр Данилович заметил отсутствие трёх очень дорогих складней, он решил выяснить, где же они, для чего вечером и направился в комнату жены.
Кроме Дарьи Михайловны, он застал в её комнате Катерину, комнатную девушку Дарьи Михайловны, очень ею любимую.
Обе они суетились возле широкой простой кровати Дарьи Михайловны, что-то заворачивая в тёмную шерстяную шаль. Увидев вошедшего Александра Даниловича, обе испугались, стараясь закрыть собой довольно большой свёрток.
– Что это вы делаете? – не строго, но и без привычной ласки в голосе при разговоре с женой спросил Александр Данилович.
– Да это мы, мы... – несколько раз повторила растерявшаяся Дарья Михайловна.
Не слушая её, Александр Данилович подошёл к постели и резким движением руки откинул шаль, закрывавшую какой-то предмет.
Перед ним лежали те самые дорогие складни, отсутствие которых так удивило его при описи.
– Что это вы задумали?
– Мы... Да мы ничего, – вновь невнятно проговорила Дарья Михайловна и замолчала.
– Дозвольте сказать, – прервала молчание Катерина. – Это я присоветовала Дарье Михайловне спрятать складни. Знаю ведь, как она их любит.
– Да, да, – кивнула головой Дарья Михайловна, и слёзы потекли по её исплаканному лицу.
– Спрятать? – удивлённо произнёс Александр Данилович. – А не боишься? Слыхала, как этот следователь стращал всех и каторгой и смертью, ежели кто скроет сам или не донесёт?
– Пускай стращает, – упрямо тряхнула головой Катерина. – На чужое-то добро все горазды руки распустить.
– Ты не очень-то кричи, – улыбнулся Александр Данилович. – Не спрашиваю, где прятать станешь, прячь, где хочешь, только, смотри, осторожно. Я этого человека хорошо знаю, он шутить не станет. Может, казнить не велит, но от кнута не избавит.
– Ну и пускай, – вновь упрямо повторила Катерина, бережно заворачивая осыпанные драгоценными камнями складни.
Оставшись вдвоём, Александр Данилович подошёл к жене и крепко обнял её. Она, всё ещё плача, прижалась к нему, повторяя без конца:
– Что же будет! Ах, что же с нами будет!
– Не плачь, не плачь, княгинюшка, – ласково сказал Александр Данилович, – слышал я, что весь двор теперь в Москву собрался.
Дарья Михайловна, перестав плакать, посмотрела на мужа.
– Государь указ о своей коронации подписал.
Оба помолчали. Александр Данилович продолжал:
– Кто знает, может, он в честь своей коронации объявит амнистию опальным...
– Дай-то Бог, дай-то Бог, – прервала его Дарья Михайловна, – только не верится мне что-то. Сам-то он, может быть, и сподобился бы на такое дело, – она покачала головой, – но не он ныне там всем управляет.
– Ты права, – медленно произнёс Александр Данилович, – там теперь один Остерман всем ведает, а он, полагаю, минуты этой долго, очень долго дожидался...
– Слышно, не только двор, но и весь чиновный люд в Москву подаётся, – вновь прервала Дарья Михайловна мужа, – столица опять в Москве будет.
Она посмотрела в его лицо тревожным взглядом, в котором было столько боли, что Александр Данилович не выдержал и отвернулся.
– Кто знает, что может случиться. Знаешь ведь, как говорят? – Он, улыбнувшись, посмотрел на жену.
– Как говорят? – почти безразлично спросила она и слабо улыбнулась ему в ответ.
– А так и говорят, что человек предполагает, а Бог располагает.
– Верно, верно, – кивнула Дарья Михайловна, – одна теперь надежда – на Него, чтобы Он не оставил нас своей милостью.
Выйдя из покоев Дарьи Михайловны, Катерина отправилась на людскую половину, где находилось её помещение, которое она делила ещё с несколькими служительницами, добровольно согласившимися сопровождать в изгнание всю семью опального Меншикова.
Перебегая через холодные сени, которые отделяли господскую половину дома от людской, Катерина, прижимая к себе свёрток, спрятанный под шубейкой, думала только об одном: где бы его спрятать так, чтобы никто не отыскал.
Она перебирала в уме многие варианты, начиная от погреба и кончая конюшней, где надеялась найти укромный уголок, но всё это было очень ненадёжно. Везде и днём и ночью были люди. Неожиданно её размышления прервал знакомый хриплый голос Натальи – услужницы при самом князе. Лучше её никто не мог ему угодить в содержании его платья в надлежащем порядке, за что и была она взята им из Петербурга, несмотря на её большое пристрастие к вину. От каждодневного употребления вина лицо этой ещё молодой женщины всегда было опухшим, с тёмными кругами под глазами. Руки и ноги её, как у многих пьющих женщин, стали тонкими. Напившись допьяна, она часто падала, и её разбитое лицо покрывали непроходящие синяки.
Вот эта Наталья, живущая вместе с Катериной в одной комнате, и стояла сейчас перед нею. Катерина вздрогнула от неожиданной встречи, остановилась, крепче прижимая к себе одной рукой свёрток, другой запахивая накинутую на плечи шубейку.
– Чего прячешь-то, а, голубушка? – хмельно улыбаясь и подходя совсем близко к Катерине, спросила Наталья.
– Я? Да ничего не прячу. Холодно, вот и накинула шубейку.
– Да-да, знаем мы этот холод, – всё так же улыбаясь, продолжала Наталья, загораживая дорогу. – Небось, добро господское схоронить собралась? Так ведь?
Она придвинулась совсем близко к девушке, пытаясь распахнуть на ней шубейку.
– Да какое добро? Что ты? Или не видала, где теперь всё их добро? Всё уже отдано, – твёрдо проговорила Катерина, отступая от хмельной Натальи подальше к стене.
– Ой ли? Всё ли? Знаем, знаем, многое ещё и попрятано. Вот и ты сейчас чего несёшь? – не отставала Наталья от Катерины.
– Ничего не несу, – как-то неуверенно ответила Катерина.
– Не боись, девка, я никому ни словечка не скажу и знать не хочу, чего и где ты схоронишь, вот истинный Бог, правду говорю. – Наталья перекрестилась дрожащей рукой. – Никому ни словечка, ни-ни, – погрозила она пальцем кому-то.
Катерина молча ожидала, когда Наталья посторонится и даст ей пройти, но та и не думала отпускать девушку. Она продолжала:
– Только ты, девка, уважь меня.
– Это как же? – растерявшись, спросила Катерина. – Как это я тебя уважу?
– А просто. Ты ведь на барской половине кажинный день бываешь?
– Ну, бываю, – ничего ещё не понимая, кивнула Катерина.
– Ну а мне туда путь заказан. Вид мой им, видишь ли, не нравится. А что вид? – Она приосанилась. – Вид как вид.
– Дальше-то что? От меня-то тебе что надобно?
– Дальше? А дальше-то, девка, вот что: как будешь на ихней половине, прихвати мне оттоль винца маленько.
Она улыбнулась, показывая разведёнными пальцами, сколько ей надо винца.
– Не стану я тебе вино носить, – твёрдо ответила Катерина. – Вон поди к мужикам, что в погреб за ним спускаются, они тебе и нальют, сколько пожелаешь.
– К мужи-и-кам, – протянула каким-то потерянным голосом Наталья. – Мужики-то даром ничего не дадут, знаем мы их! Им сама знаешь, чего надобно от бабы.
– Ничего я не знаю, – дёрнула плечом Катерина, начиная сердиться, – ты меня и так задержала, а меня госпожа дожидается.
– Эх, девка, девка, ничего-то ты не понимаешь, – качнув головой, как-то обречённо продолжала Наталья. – Да мужики мне теперича и даром не нужны. Уж на что хозяин наш собой хорош, а и его не надо. Мне бы, девка, – она наклонилась совсем близко к Катерине, – мне бы лишь винца где раздобыть! Ну ступай, ступай, – сказала она, вдруг меняя и тему разговора и тон, каким были произнесены последние слова. – Бог с ним, с секретом твоим. Прячь что хошь, я-то никому ничего не скажу, а только ты смотри! Здесь не одна я удачу свою ловлю!
Она посторонилась, и Катерина с сильно бьющимся сердцем помчалась к себе.
На счастье, в горнице, где, кроме неё и Натальи, жили ещё две женщины, никого не было.
Она скинула шубейку, положила свёрток на свою постель в углу на широкой лавке, достала из-под неё небольшой сундучок, закрытый на висячий замочек, вытащила из кармана передника маленький ключик, приколотый к карману булавкой, и отперла замочек, который от времени никак не хотел открыться сразу. Возясь возле сундучка, Катерина всё время прислушивалась, не идёт ли кто. Наконец, открыв сундучок, она выкинула из него все свои вещи, уложила на самое дно свёрток и закидала его одеждой.
Весь день Катерина была неспокойна и на вопрос Дарьи Михайловны, надёжно ли убрала она свёрток, только кивнула, не решаясь рассказать ей о встрече с Натальей.
На ночь Катерина решила убрать свёрток из сундучка и положить его себе под голову, надёжно прикрыв подушкой. Так она проделывала некоторое время, стараясь подняться или раньше всех, когда всё ещё спали, или позже, когда все уже уходили из горницы.
Но однажды, в тот самый момент, когда Катерина уже достала из-под подушки заветный свёрток, чтобы перепрятать его в сундучок, в горницу вошла Наталья. Она молча подошла к постели Катерины и так же молча посмотрела на онемевшую от неожиданности девушку.
– Ну чего? Ведь права я была: добро хозяйское прячешь, – сказала она, бесцеремонно беря из рук Катерины свёрток и разворачивая его. – Красота-то какая! – воскликнула она, разглядывая складень, весь изукрашенный алмазами. – А что, девка... – продолжала она с какой-то нехорошей усмешкой, взглянув на неподвижно стоящую Катерину. – А что, – повторила она, – ежели продать этакую-то красоту, а? Деньжищ-то сколь дадут! Вот когда винца-то можно будет попить!
– Тебе бы лишь о вине и думать, – сердито ответила Катерина. – Дай сюда, нечего глаза таращить. Небось уже сказала кому, что я у себя хозяйское добро прячу?
– Ни-ни, ни за что! Вот тебе крест. – Она перекрестилась нетвёрдой рукой. – Да ты не боись, ежели я во хмелю чего и сболтну, так потом всё равно отопрусь: дескать, что с пьяного человека, а особливо с бабы, возьмёшь? Так что ты, девка, не сумлевайся.
И глядя, как Катерина заботливо заворачивает складень и укладывает его в сундучок, Наталья вновь сказала:
– А то, верно, девка, давай продадим?
– Не говори не дело. Мало того, что ты пьёшь, почитай, каждый день, теперь за воровство приняться хочешь? И думать не смей о хозяйском.
– Ладно, будет тебе, заладила одно: хозяйское да хозяйское! Они, дорогая ты моя, пожили всласть, как хотели, а ты вот как собака ихнее добро стережёшь!
После этого случая Катерина обо всём рассказала Дарье Михайловне, боясь не столько болтливости пьяной Натальи, сколько того, что она действительно может выкрасть у неё из сундучка ценные хозяйские вещи.
Расстроенная Дарья Михайловна попросила Катерину принести хранящиеся у неё складни, после чего сама отнесла их Плещееву, говоря, что это её личные вещи – подарок памятный от родителей на свадьбу, а потому она не хотела с ними расставаться, но, подумав, решила и их отнести на опись.
Плещеев долго и внимательно разглядывал дорогие вещи, чуть ли не пересчитал все алмазы и изумруды, украшавшие складни, но убедившись, что все камни на месте, успокоился. Он поблагодарил Дарью Михайловну за то, что сама их принесла, не то до него уже доходят слухи от людей, что не все драгоценности ему переданы.








