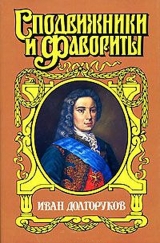
Текст книги "Две невесты Петра II"
Автор книги: Софья Бородицкая
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Одно дело сладилось хорошо.– Они обменялись многозначительными взглядами. – Теперь осталось ещё одно.
– Какое же?
– Важное, особливо для тебя.
– И что же это за дело?
Но тут послышался голос государя, нетерпеливо звавший своего любимца.
– Потом, потом, – заторопился старый князь, – всё тебе растолкую.
Последние события увлекли князя Ивана за государем так стремительно, что он на время забыл и об отце, и о важном с ним разговоре.
Глава 3
Предложение Остермана о том, что рядом с государем следует находиться сведущему человеку, чтобы время, проведённое государем на охоте (по мнению Андрея Ивановича «потерянное время»), не проходило зря, а наполнялось бы полезными познаниями в различных областях, повлекло за собой поиск подходящего наставника.
И такой человек скоро сыскался. Им оказался молодой князь Сергей Дмитриевич Голицын, камергер в свите государя Петра Алексеевича. Это был очень достойный молодой человек, хорошего воспитания и весьма приличного образования.
Приставляя нового наперсника к государю, Андрей Иванович не случайно остановил своё внимание на этом человеке, происходившем из семьи родовитых князей Голицыных – постоянных и давних врагов Долгоруких. Остерман надеялся уменьшить влияние последних при дворе, а в особенности князя Ивана, который всё более и более входил в доверие к государю.
Бесшабашная жизнь князя Ивана всё более влекла к нему молодого Петра Алексеевича, ведя его по пути, лежащем в стороне от государственных дел и серьёзных занятий.
Правда, после коронации нрав государя начал меняться. Он становился нетерпимым к любым возражениям, вспыльчивым, а порой и гневным.
Так, однажды, рассердясь на псаря, из-за неловкости которого погибла любимая собака Петра Алексеевича, он в страшном гневе сел писать грозный указ о казни несчастного. Неизвестно, чем бы это кончилось, но когда государь распоряжался судьбой своего подданного и уже подписывал грозную бумагу, в его комнате появился князь Иван. Заглянув через плечо государя, он прочёл написанный неровным крупным почерком указ о казни псаря, неожиданно наклонился над государем и больно укусил его за ухо.
Взбешённый Пётр Алексеевич открыл было рот, чтобы излить весь свой гнев на забывшегося слугу, как князь Иван, опережая его, сказал тихим, но твёрдым голосом:
– Вот вам, государь, стало больно, а ведь это только ухо. И я ведь укусил его не со всей силой. А представьте себе, как будет больно несчастному, когда ему станут рубить голову.
Несколько минут Пётр Алексеевич молча смотрел то на покорно стоявшего перед ним князя Ивана, то на подписанный им указ. Наконец, схватив лист бумаги со своим указом, он изорвал его, бросился к князю Ивану и горячо обнял его. В глазах его стояли слёзы.
– Как же я тебя люблю, Ванюша, – проговорил государь, не отпуская князя и преданно заглядывая ему в глаза.
Но таких минут становилось всё меньше.
Государь всё более и более отдавался порывам своего нрава, становившегося похожим на неукротимый нрав его деда – императора Петра I.
Было несколько причин, по которым Пётр Алексеевич стал несколько отдаляться от своего любимца.
Во-первых, князь Иван не очень-то любил охоту за зверьем, предпочитая ей охоту совсем иного свойства. Его страстью были женщины, за которыми он не успевал гоняться, в буквальном смысле, по всем улицам Москвы. О его победах ходили самые невероятные слухи, узнавая о которых он только самодовольно улыбался, потирая руки, и отмалчивался, не оправдываясь и не подтверждая их.
Во-вторых, Пётр Алексеевич ревновал своего друга. Ревновал страшно, со всеми страстями ревности горячо влюблённого. Он ревновал его к красавице цесаревне Елизавете Петровне. Ревность его усугублялась ещё и тем, что только князю Ивану поверял молодой государь все мучения своей первой любви – отчаянной, безнадёжной. Только ему читал государь свои стихи, посвящённые предмету своей любви.
Пётр Алексеевич доверял князю Ивану самые сокровенные секреты, он верил ему безгранично. В Лефортовском дворце, где жил государь, постоянно устраивались танцевальные вечера, и однажды во время очередного такого вечера, войдя в танцевальную залу, Пётр Алексеевич увидел красавицу цесаревну танцующей с князем Иваном. Оба они, разгорячённые танцем и взаимной приязнью, кружились так, словно были одни в этой зале, словно лишь для них играла музыка, ярко горели свечи, для них одних был весь этот праздник.
Ни цесаревна, ни князь Иван, увлечённые друг другом, не заметили искажённого ревностью побледневшего лица государя.
Правда, разбираясь в своих противоречивых чувствах к князю Ивану, Пётр Алексеевич порой не знал, какую из причин вдруг возникшего охлаждения поставить на первое место: то ли ревность, то ли нелюбовь князя к охоте. Молодой государь всё чаще склонялся к тому, что безразличие князя Ивана к охоте, пожалуй, больше, чем ревность, отдалило его от прежнего кумира.
Вот в такую краткую минуту охлаждения к Ивану обратил своё внимание Пётр Алексеевич на другого своего камергера – князя Сергея Дмитриевича Голицына. Их сблизила не только страстная любовь к охоте, но и огромные познания князя Сергея в этой самой охоте, о которой он знал, казалось бы, всё. О собаках говорил как о вполне разумных существах, понимающих не только слово хозяина, но даже его взгляд и жест. Князь Сергей был убеждён, что хорошую охотничью собаку можно воспитать не на псарне – лишь сам хозяин может это сделать. С этой целью он лично отбирал новорождённых щенков, строго следя за их кормлением и ростом. Когда они подрастали, он сам варил им еду, не доверяя этого никому. Молодому государю пришлась по душе безграничная любовь князя Сергея к охоте, к вольной жизни на биваках, к долгим вечерам у костра, скачкам на лошадях, когда разгорячённый конь несёт седока полем, без дороги, навстречу упругому ветру, бьющему в лицо.
Государь внимательно прислушивался к князю Сергею и даже не обиделся, когда тот, увидев подписанную Петром Алексеевичем бумагу о том, чтобы выдавать каждой собаке по два пуда мяса на день, весело рассмеялся.
– Разве здесь что не так написано? – смутился государь. – Может, ошибки где-то – так я в грамматике не очень силён.
– Нет-нет, – продолжая смеяться, ответил князь Сергей, – ошибки здесь нет, всё написано верно. Только... – Он замялся на секунду.
– Что только? – озабоченно спросил государь.
– Только... – Но, прервав себя, князь Сергей продолжал: – Давайте сейчас, ваше императорское величество, пойдём с вами в кладовую, откуда псарям отпускают мясо.
Ещё ничего не понимая, Пётр Алексеевич согласно кивнул. Через некоторое время, пройдя за домом широкий двор, по которому сновали конюхи, служилые люди, повара в колпаках и передниках, они подошли к сараю, где и находилась кладовая. Ворота сарая были распахнуты, и в глубине его виднелись большие и маленькие мясные туши, подвешенные на крюках.
Увидев государя, входящего в кладовую, все находившиеся там работники замерли от неожиданности такого посещения.
– Кто тут у вас главный по отпуску мяса? – оглядывая притихших служителей, спросил князь Сергей.
– Главный? – переспросил молодой бородатый мужик, словно не поняв вопроса.
– Да-да, кладовщик, что мясо собакам отпускает.
– Ах, собакам, – вздохнул с облегчением бородатый, вытирая руки о передник, измазанный кровью. – Так это у нас Егор, это он! Он ведает ихним, ну то есть собачьим кормом.
Тут же из разных углов сарая раздались громкие голоса, звавшие Егора. Он появился в распахнутых дверях сарая, заслонив своей огромной фигурой почти весь их проем.
– Вот он я, кто меня требует? – проговорил он густым басом, оглядываясь вокруг.
Увидев государя с придворным, Егор сразу же осёкся, и голос его неожиданно из раскатистого баса стал тихим, едва слышным.
– Чего изволите, ваше императорское величество? – Егор с трудом согнул своё огромное толстое туловище.
– Ты здесь главный по кормёжке собак мясом? – спросил государь.
– Я, государь, – побледнев до синевы, всё так же тихо ответил Егор. – Или что не так? Может, собачки голодные? Так псари ещё не приходили, сказали, что вчерашнее варево и сегодня сгодится.
– Вот, любезный, подай-ка ты мне мяса столько, сколько здесь писано.
Егор взял бумагу, внимательно, медленно шевеля губами, прочёл её и, ничего не понимая, проговорил:
– Так тут писано – как всегда, два пуда мяса на день каждой собаке.
– Вот-вот, любезный, ты и отвесь государю два пуда. Он сам хочет сегодня собак кормить, – спокойно сказал князь Сергей.
– Сам? – казалось, ещё более побледнел Егор, а голос его звучал совсем глухо.
– Что ж ты стоишь? – нетерпеливо прикрикнул на него государь. – Ты слышал, что тебе было сказано?
– Слышал, слышал, – пролепетал Егор, – сей минут всё будет сделано.
– Нет-нет, ты уж будь любезен к самим весам проводить государя.
– К весам? – повторил Егор. – Отчего же, можно и к весам. Ступайте за мной, ваше императорское величество.
Они втроём зашли за тонкую перегородку, где на огромном длинном столе лежали разрубленные на куски бараньи туши и большой тяжёлый безмен, а кругом на полу валялись кусочки мяса и осколки разрубленных костей. Большой серый упитанный кот спрыгнул со стола, увидев входивших людей. Подойдя к столу, Егор взял безмен посередине, приспособил на одном его конце большой кусок мяса и принялся двигать гирю, пока оба конца безмена не пришли в равновесие.
– Вот, пожалуйте, ваше императорское величество, – сказал он, кладя на свободный край стола взвешенный кусок.
– Постой, постой, братец, – остановил его князь Сергей. – Сколько же весу в этом куске? – спросил он, едва касаясь мяса рукой.
– В этом куске? – словно не поняв вопроса, повторил Егор.
– Да, в нём, – подтвердил князь Сергей.
– В ём чуть поменее пуда.
– Вот видишь, поменее пуда, как ты говоришь. А в записке государя сколько сказано отпустить собакам?
– По два пуда на кажинную, – едва выдохнул Егор.
– Вот ты нам и отвесь ровно два пуда.
Когда всё взвешенное мясо лежало на столе, Пётр Алексеевич с недоумением перевёл взгляд с груды мяса на Егора, затем так же взглянул на Сергея и произнёс удивлённо:
– Это всё одной собаке на один день?
Егор молчал, опустив голову и перекладывая тяжёлый безмен из руки в руку.
– Чего молчишь? Отвечай же государю.
– Так в записке велено, – осмелев, наконец ответил Егор.
– Так велено, – передразнил его князь Сергей, – а самому-то не совестно так нагло обманывать?
Егор молчал.
– Вижу, что не совестно. Вон морду какую наел на собачьем-то корме.
Егор собрался было что-то сказать в своё оправдание, но неожиданный весёлый смех государя прервал гнетущее молчание.
– Два пуда, два пуда, – повторял он, смеясь, – это одной-то собаке?
Он попытался поднять отвешенное мясо, но не смог и продолжал:
– Да тут всей псарне на неделю корму, не то что одной собаке.
– Как изволите, – оживился Егор, видя, что гнев государя угас. – Можем и всей псарне столько-то отпустить.
– Столько и не больше, – перестав смеяться, строго сказал Пётр Алексеевич, погрозив Егору пальцем.
Однако крепнущей дружбе князя Сергея и государя скоро пришёл конец. Обеспокоенные влиянием, которое оказывал молодой Голицын на государя, отец и сын Долгорукие забеспокоились. Очень скоро князь Сергей получил назначение послом к иноземному двору и был отправлен в Германию.
После отлучения князя Сергея от двора сближение государя с прежним фаворитом произошло не сразу, и помог этому, казалось, совсем незначительный случай.
Праздники, танцы, веселье, катание на санях не прерывались ни на день всю зиму. С наступлением весны все развлечения при дворе заменила охота. Как только сошёл снег, просохла земля и можно было отправиться из города, весь двор – буквально весь – со всеми придворными, их жёнами, иностранными дипломатами, льстившими себя надеждой добраться до государя в редкие минуты его отдыха на охоте, отправился из Москвы.
Огромный поезд, состоящий из нарядных экипажей вельмож, телег обслуги с провиантом, необходимой утварью, растянулся длинной вереницей.
Своры гончих и борзых собак в сопровождении ловчих, доезжачих, выжлятников, борзятников неслись впереди всадников, создавая невообразимый переполох.
Весь этот длиннющий поезд скорее напоминал великое переселение народов, чем царский выезд на охоту.
Леса, подступавшие к самой Москве, прямо за её заставами изобиловали зверьем, так что далеко отправляться не было никакой необходимости. Но Пётр Алексеевич всем угодьям предпочитал леса севернее Москвы, может быть потому, что они поразили его своей первозданностью во время его первого путешествия из Петербурга.
Обычно весь охотничий царский выезд выбирал среди леса большую поляну, где и становился лагерем: разбивали палатки, ставили походные кухни с котлами, столами, уставленными медной и прочей посудой. И, как по волшебству, такой лагерь сразу же начинал обрастать торговцами не только из ближних, но и из дальних деревень. На телегах приезжали мужики, бабы, девки, привозили разнообразный товар: расшитую одежду, посуду, всякие безделки, сласти, мочёную бруснику и мочёные яблоки – всё, что пользовалось у охотников, да и не только у них, большим спросом.
Прибывшие к лагерю на телегах располагались в стороне и там тоже налаживали свою походную жизнь, привлекая тех, кто не участвовал в самой охоте, а особенно иностранцев, любивших толкаться среди торгующих мужиков и покупавших у них деревянные расписные ложки и миски, искусно украшенные шкатулки и прочую утварь, привлекающие дешевизной и экзотикой.
Осень стояла на удивление тёплая, и лагерь жил на этой охоте уже более месяца. Как-то в один из сентябрьских погожих дней молодой государь, чувствуя недомогание, утром проспал охоту. Князь Иван остался при нём, радуясь тому, что не надо носиться по полям за зверьем. Он сидел на толстом кругляке берёзы, наблюдая за беспрестанным движением в торговом лагере – так называли бесчисленное количество телег, окружавших государев охотничий лагерь. Внимание князя привлекла тощая старая кляча, бывшая когда-то серой, теперь же совсем пожелтевшая, с поредевшим хвостом и всклокоченной гривой. Её верёвочная упряжь была местами порвана и кое-как подправлена. Лошадёнка тянулась изо всех сил к клочкам зелёной травы, кое-где торчащим среди вытоптанного поля. Пытаясь достать очередной клочок, она сильно дёргала телегу, на которой лежал и, видимо, спал мужик. От постоянных толчков телеги он проснулся, вскочил на ноги и, схватив кнут, бросился к лошади. Хлеща несчастное животное то по вздутым бокам, то по морде, он ругался и приговаривал:
– Ишь, утроба ненасытная, всё бы тебе лишь жрать, нет чтобы постоять смирно!
Лошадь покорно остановилась, опустив голову, доедала последний клок зелёной травы, а мужик, матерясь, продолжал хлестать её кнутом, вымещая на ней свою злость.
Вынести вида несчастного избиваемого животного князь Иван не мог. Он поднялся со своего места, подошёл к мужику и, вырвав у него из рук кнут, стал стегать им злобно ругавшегося мужика, который от неожиданности присел, закрывая голову руками и крича что было мочи:
– За что? Меня-то за что? Это скотину надо лупить, чтоб стояла спокойно!
– Скотину кормить надо! – разъярясь от возмущения и от воплей мужика, прокричал в ответ князь Иван. – Я тебе покажу, как бессловесное животное бить! Только и можете слабых да немощных обижать! – всё более и более распаляясь, кричал он.
Он остановился лишь тогда, когда мужик, повалившись на землю, умолк, а вокруг них собралась молчаливая толпа торговцев, сбежавшихся на крик. Князь Иван бросил рядом с мужиком кнут и, ни на кого не глядя, направился к своей палатке, удивляясь и своему гневу, и той неведомо откуда взявшейся злости, с которой он хлестал такого же худого и несчастного, как и его лошадь, мужика.
Князь не успел ещё дойти до своей палатки, как ему на шею бросился неизвестно откуда появившийся государь.
– Ванюша, Ванюша, – говорил он, волнуясь, – я всё видел, всё-всё: и как ты мужика хлестал, и как за бедную лошадь вступился – я всё видел.
– Жаль скотину, – понемногу приходя в себя от неожиданной вспышки своей злобы и от слов государя, сказал князь Иван.
– Вот за это я и люблю тебя, Ванюша, – за твою жалостливость и справедливость. А мужику этому противному так и надо! Будет теперь помнить!
С этого, казалось бы, пустячного случая привязанность государя к своему камергеру возродилась с новой силой.
Государь Пётр Алексеевич был счастлив. Ложась поздно вечером спать в своём походном жилище после долгого, заполненного движением дня, он радовался тому, что, проснувшись рано поутру, вновь повстречает красавицу цесаревну и снова, как и накануне, будет с нею вдвоём. Он будет мчаться за её разгорячённым, подгоняемым ею конём, видеть перед собой развевающийся шарф её охотничьего платья, смотреть на её прекрасное, разрумянившееся от езды и осеннего холода лицо, в её ярко-синие глаза, в которых отражаются и осеннее в просветах облаков небо, и жёлтые листья берёз, и красные кисти рябин, и он сам, полностью покорённый ею.
Даже упорные доходившие до него из Москвы слухи о серьёзной болезни горячо любимой сестры не могли оторвать его ни от любимой охоты, ни от красавицы Елизаветы. Где-то в глубине души государь надеялся, что болезнь сестры не что иное, как её ревность к Елизавете. Он смеялся над её упрёками в его пристрастии к цесаревне, сердился на сестру за отказ ехать с ним на охоту, называя это капризом. Но, когда в конце октября в его лагере появился Алексей Григорьевич Долгорукий с известием о серьёзном недомогании великой княжны Натальи, государь заволновался. Однако отдавать приказ о возвращении в Москву он медлил, желая ещё хотя бы на день продлить очарование этой охоты. Как на грех, погода стояла отличная: сухая, с небольшими утренними морозцами, ещё тёплыми солнечными днями, – и отъезд в Москву всё откладывался и откладывался.
В один из таких дней, когда князь Иван, сославшись на нездоровье, остался в лагере, к нему в палатку вошёл отец – князь Алексей Григорьевич. Князь Иван лежал на походной низкой кровати, закинув руки за голову, и смотрел на откинутый полог палатки, за которой слышались негромкие голоса оставшейся в лагере прислуги.
– Всё мечтаешь? – с насмешливой улыбкой сказал князь Алексей сыну, чуть наклонив голову при входе в палатку из-за своего высокого роста.
– Да так, отдыхаю, – ответил князь Иван, продолжая лежать и не изменив положения.
– Ну да, конечно, как тут не устать, – всё с той же насмешкой проговорил Алексей Григорьевич, – поди, под сотню вёрст кажинный день наматываешь? Тут и конь с ног свалится, не то что человек.
– В этом неповинен, – приподнимаясь и садясь на постели, ответил сын.
– Как же, неповинен, – повторил князь Алексей его слова, – а кто же тогда государя здесь держит?
– Ну уж это кто угодно, только не я, – улыбнулся князь Иван.
– А ты смеяться-то погоди, – сердито остановил его отец, глядя, на что бы присесть в походном жилище сына.
Найдя в углу берёзовый кругляк, он перенёс его ближе к постели и сел на него, покачавшись для устойчивости. Князь Иван с любопытством наблюдал за действиями отца, ожидая, что же такого пришёл сообщить ему отец, который вообще-то редко в последнее время был с ним ласков или хотя бы серьёзен.
– Вам бы лишь по полям мотаться, за девками гоняться да вино глушить, а о деле совсем никто не хочет и помыслить.
– О каком это деле? – насторожился князь Иван.
– Да о таком, что опять этот немец проклятый каверзу учиняет.
– Какой это немец и какую каверзу он учиняет? – ничего ещё не понимая, переспросил князь Иван.
– Да всё тот же чёртов немец, прости Господи, Остерман этот – вот какой немец.
– Ах, Остерман! – вздохнул князь Иван. – И что же он теперь ещё затевает? – улыбнулся он.
– А ты не смейся. Дело-то весьма важное. Вот ежели удастся ему его устроить, то, думаю, твоему привольному да сладкому житью придёт конец.
– И что же это за дело? – заинтересованно спросил князь Иван, перестав улыбаться.
– Какое, какое, – всё более горячась, повторил князь Алексей. – Да такое дело, что надумал он государя на этой девке женить.
– Государя! Женить на девке! На какой же это девке?
– А то не девка, что ли? Раз мать была потаскухой, она что, не девка, что ли?
– Да какая мать? Да о ком это ты, батюшка, толкуешь, я никак понять не могу, – удивился князь Иван.
– Да об ней, об Катькиной дочке, речь веду.
– О Елизавете Петровне, о цесаревне, что ли? – всё более удивляясь, проговорил князь Иван.
– А о ком же ещё? Понятно, о ней.
–Ну, батюшка, не больно-то ты о ней уважительно поминаешь.
– А чего о ней уважительно поминать? Сама такая потаскуха была, и девка вся в неё пошла. Вон как за государем гоняется, стыд-то девичий в Москве оставила, сюда, почитай, одна явилась государя подманивать!
Князь Иван молчал, недоумённо глядя на отца и ожидая от него объяснений его появлению в лагере и горячей обвинительной речи против покойной государыни и цесаревны Елизаветы.
– Попомни, – строго начал князь Алексей, грозя сыну пальцем, – ежели план этого проклятого немца Остермана сбудется, нам, Долгоруким, солоно придётся.
– Это ежели государь на цесаревне женится? – уточнил князь Иван.
– Ну да, да. Как только сей союз заключится – нам конец, – повторил старший Долгорукий.
– Я в толк никак не возьму, батюшка, от меня-то вы чего хотите?
– Чего хочу! – сердито произнёс князь Алексей. – Неужто самому нельзя догадаться?
– Догадаться? – удивился сын. – Это о чём же мне следует догадаться?
– Да о том, беспонятный ты мой сынок, что Лизку эту от государя отвадить надо.
– Как же её отвадить?
– Не прикидывайся агнцем невинным, будто ты не знаешь, как девку к себе приманить.
– Как девку приманить? – улыбнулся князь Иван.
– Да-да, приманить, и тут, полагаю, тебе мой совет не требуется и просить ты у меня его не станешь.
– Не стану, верно, не стану. Но, – продолжал князь Иван без улыбки, – здесь дело не в том, чтобы девку приманить, а в том, что государя-то от цесаревны никак не отвадишь.
– Государя? – переспросил князь Алексей Григорьевич.
– Вот именно: государя. Ведь не она за ним по полям, как вы говорите, гоняется, а он за ней.
– Ах, вон оно как, – протянул Алексей Григорьевич.
– Да вот так, – кивнул князь Иван, – она-то под венец не торопится.
– А ты откуда знаешь? Сам, что ли, предлагал? – заинтересовался князь Алексей.
– Может, и так, может, спрашивал.
– И что? Отказала?
Князь Иван молчал, вспоминая тот памятный день в Лефортовском дворце, когда, танцуя с нею, опьянённый её близостью и остротой соперничества, он, смеясь, а на самом деле с тревогой ожидал от неё ответа на его предложение выйти за него замуж. Хорошо помнил её звонкий смех, дразнящий взгляд, однако ответа от неё так и не последовало. Но он понял всё, увидев вошедшего в зал государя.
– Что ж, отказала? – вновь спросил князь Алексей, окликая умолкнувшего сына.
– Да так, – пожав плечами, неопределённо ответил князь Иван.
– Откажет, откажет, не сомневайся, – уверенно проговорил старый князь. – Зачем ты ей сдался, когда она повыше тебя метит...
– Да никуда она не метит, – начал сердиться князь Иван. – Ты её не знаешь: не выйдет она замуж ни за кого.
– Как это ни за кого? – удивился князь Алексей.
– Да так, ни за кого.
Замолчав, князь Иван вспомнил слова цесаревны на его признание, что он её любит и готов жениться: «Да я-то тебя, Ванюша, не люблю, а замуж только по любви пойду».
– Не любит она никого, – наконец прервал молчание князь Иван.
– Любит – не любит, а за государя-то и без любви выйти можно.
– Нет, попомни моё слово, не выйдет она за него, – уверенно сказал князь Иван.
– Вот это хорошо, ты меня, сын, успокоил.
– Так что немец ваш ни с чем и останется.
Некоторое время они молча смотрели друг на друга, наконец князь Алексей произнёс:
– Вообще-то нечего ей здесь делать, нечего возле государя болтаться да все карты путать.
– Что же прикажете с ней делать?
– А ничего с ней не надобно делать. Замуж её отдать куда ни на есть подальше от России.
– Это куда ж? Да за кого?
– Да хоть бы и за сына короля польского.
– Это за Морица Саксонского, что ли?
– А чем не жених?
– Конечно, – усмехнулся князь Иван, – хорош жених: раз шесть уж был женат.
– Ну шесть или пять – не в этом дело. Он, я стороной слышал, не прочь жениться на Лизке.
– Да, не прочь, коли ему герцогиня Курляндская Анна отставку дала.
– Много ты знаешь, – махнул рукой князь Алексей. – Это не она ему отставку дала. Где там, влюблена была в него как кошка. Это светлейший, не тем будь помянут, ей все карты смешал.
– Это почему же? – удивился князь Иван, но ответа не получил.
Кто-то, подойдя к его палатке, громко позвал князя Алексея. Поднявшись, тот пообещал сыну ещё наведаться, поскольку у него есть ещё что сказать.
Однако продолжить разговор с сыном князю Алексею случилось не скоро. При дворе произошло событие, заслонившее всё остальное.
Великая княжна Наталья Алексеевна – сестра государя Петра II – умирала. Проведя консилиум, придворные врачи пришли к единому мнению, что состояние княжны безнадёжно.
Окольными путями узнав о суровом приговоре врачей, Наталья Алексеевна сначала очень испугалась. Лёжа без сна долгими ночными часами, она никак не могла свыкнуться с мыслью, что совсем скоро её не станет. Её сознание никак не хотело смириться с тем, что всё-всё, что её окружает, всё, кого она любит, останутся жить, а её не будет. Не будет ни здесь, в Москве, ни где-нибудь в другом месте. Она вскакивала с постели, принималась метаться по спальне, иногда даже одевалась и, проскользнув мимо спящих караульных и сиделок, выбегала на улицу, в сад, где уже вовсю хозяйничала осень. Набегавшись, тяжело дыша, она останавливалась, прислонялась к дереву, обнимала его шершавый, влажный от сырости ствол, прижималась к нему щекой, и безудержные слёзы жалости к себе текли по её лицу.
В один из таких побегов она неожиданно натолкнулась в саду на человека, который, улыбаясь, шёл ей навстречу. Поравнявшись с княжной, он низко поклонился ей и сказал:
– Раненько, княжна, встаёте, раненько.
– Ты разве знаешь меня? – удивилась Наталья Алексеевна.
– Как не знать, – ответил незнакомец.
– Но кто ты? Я тебя никогда здесь не видала, – недоумённо произнесла княжна, разглядывая пожилого невысокого роста мужчину, по платью которого трудно было определить, кто он: то ли служитель, то ли купец.
– Я-то кто? – повторил он вопрос княжны, пристально глядя на неё большими, казавшимися в рассветном сумраке чёрными глазами. – Я так сам по себе.
– Зовут-то тебя как? – спросила Наталья Алексеевна чем-то заинтересовавшего её человека.
– Зовут? – вновь повторил он вопрос княжны и, улыбаясь, добавил: – Не поверите, как зовут.
– Это почему же?
– Имя у меня старинное.
– Старинное? Какое же? – любопытствовала княжна.
– Близнец.
– Как?
– Близнец, – улыбнулся незнакомец.
– Разве есть такое имя?
– Было. В старину так многих называли.
– Многих?
– Да, многих. Вот ежели у кого двойня была – одному давали имя, а другого прозывали просто Близнец.
– Так у тебя брат есть?
– Был, – не сразу ответил мужчина, всё так же пристально глядя на княжну.
– Здесь-то ты что делаешь? Я прежде тебя здесь никогда не видала, – повторила она.
– Верно, не видали, – согласился Близнец. – Я сюда случайно попал, по делу зашёл.
– По делу? По какому делу?
– Да вот усмотрел ещё вчера днём у вас в саду на берёзе нарост лечебный, вот и пробрался сюда пораньше за ним.
Он показал на холщовую сумку, в которой что-то лежало.
– Нарост? Лечебный? – с любопытством спросила княжна. – Ты что, лекарь?
– Можно сказать, что и так.
– Можешь лечить?
– Лечил, – ответил Близнец.
– А вылечить можешь?
– Это ведь смотря у кого какая хворь внутри заведётся. Иную можно вылечить, а иную...
Он не успел договорить, как княжна схватила его за руку и, быстро шагая, повела за собой. От быстрой ходьбы она скоро задохнулась, выпустила руку своего спутника и схватилась за грудь, часто и прерывисто дыша.
– Вам бы, княжна, не следовало в сырость по саду бродить. Это вам лишь во вред.
– Ты разве знаешь, что я больна?
Близнец молча кивнул.
– Откуда знаешь?
– Сразу видать по лицу вашему.
– По лицу? – с удивлением повторила Наталья Алексеевна.
В свете наступающего утра на её исхудавшем лице ярко горели пятна болезненного румянца.
– Вылечишь меня? – тихо с надеждой спросила княжна и, не дожидаясь ответа, повела Близнеца за собой в дом.
Так незнакомец, встреченный княжной Натальей в предрассветном осеннем саду, появился в её покоях. На все недоумённые вопросы придворных княжна твёрдо отвечала, что этого человека ей послал сам Бог и отныне он будет жить здесь, при ней, и являться к ней, когда она того пожелает.
Узнав о болезни сестры, государь поначалу обеспокоился и даже хотел немедленно отправиться в Москву, но, взглянув на раскрасневшееся, сияющее здоровьем лицо цесаревны, только что вернувшейся с ним с охоты, решил отложить отъезд до следующего дня. Размышляя уже потом над частыми болезнями сестры, он вспомнил, как она ревновала его к цесаревне, какие строгие выговоры устраивала ему. Он опять усомнился в истинности её болезни, думая, что она вновь терзается неправедной ревностью к тётке, и решил пока не возвращаться в Москву.
Лишь тогда, когда день спустя в охотничьем лагере появился очень встревоженный Андрей Иванович Остерман, государь понял всё без слов и тут же, покинув лагерь, направился в Москву.
Он вошёл в покои сестры, но она, занятая разговором с каким-то незнакомцем, даже не заметила его.
Заинтригованный Пётр Алексеевич остановился, прислушиваясь. То, что он услышал, так поразило его, что он решил не прерывать беседу сестры с незнакомцем.
Из разговора государь узнал, что этот человек хорошо помнил его деда, хотя видел близко великого государя всего один раз. Но этого раза хватило, чтобы запомнить его на всю жизнь. Называя незнакомца почему-то близнецом, княжна попросила его рассказать о том единственном случае, что оставил в его памяти такой глубокий след.
Посмотрев пристально в измученное болезнью лицо княжны, незнакомец произнёс:
– В тот единственный раз, что я его видел, он собственноручно казнил моего брата Фёдора, с которым мы были близнецы. Его вот нет, а я теперь остался и за него и за себя.








