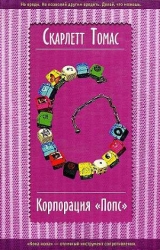
Текст книги "Корпорация «Попс»"
Автор книги: Скарлетт Томас
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 36 страниц)
В четыре тридцать мы спускаемся с холма к Большому залу, а оказавшись внутри, забираемся в лодку. Я ожидала, что она будет устойчивой, но на самом деле она закреплена на системе пружин и раскачивается, когда по ней идешь. Гэвин показывает, за что нужно держаться, чтобы не слететь за борт, и объясняет: будь мы на воде, нам пришлось бы надеть спасательные жилеты. В бурном море, говорит он, мы были бы привязаны к лодке линем. Гэвин управляет «ветром» с помощью здоровенных вентиляторов, и мы пробуем поднять и снова спустить паруса. Мы учимся уклоняться от «воздушной волны», когда она пробегает вдоль паруса (похоже, из-за нее-то главным образом люди и слетают за борт), и не давать парусам спутываться при поднятии. Гэвин то и дело повторяет, что в реальном плавании лучше делать не так, а вот эдак, и вообще в море все было бы гораздо понятнее, – и это странно: он же сам изобрел эту тренировочную лодку. Впрочем, когда она кренится на «ветру», это очень даже волнительно; у меня дух захватывает, стоит только представить, что я в открытом море. Фактически, чем больше я об этом думаю, тем острее хочу реально плюхнуться в воду: денек выдался на редкость жаркий.
Насколько я знаю, рядом с «Дворцом спорта» есть плавательный бассейн; после урока мореплавания я покидаю остальных и иду в свою комнату; покопавшись в чемоданчике, нахожу синие штанишки – они выглядят как шорты, – и свой лифчик от бикини, который натягиваю под одеждой. Прихватив полотенце из ванной, я медленно бреду по территории комплекса, предвкушая, как холодная вода прикоснется к моему телу. Внезапно я снова слышу гомон «Детской лаборатории», но он звучит все глуше и глуше, пока я приближаюсь к «Дворцу спорта». Когда я подхожу, голоса смолкают. Нигде не видно ни одного ребенка.
Вид у маленького бассейна совершенно заброшенный; вода блестит как зеркало. Вопреки моим опасениям, в ней нет ни листьев, ни дохлых крыс; наоборот, она удивительно чистая и свежая. Рядом с бассейном я вижу кабинки для переодевания, похожие на беседки, и в одной из них обнаруживаю картонную коробку, битком набитую небольшими пластиковыми пакетами с купальными костюмами и полотенцами. Костюмы белые, поперек груди написано «Попс». Я решаю ими не пользоваться. Раздевшись, бросаю полотенце на краю бассейна и ныряю с места. Вот так-то лучше. Сначала вода обжигает, как лед, но тело постепенно привыкает к температуре. Я проплываю два раза всю длину бассейна; самочувствие снова почти нормальное. Одно плохо – волосы намокли; впрочем, в обозримом будущем я могу просто заплетать их в косички, так что без разницы, в каком они состоянии. Две косички, чуть-чуть вазелина – и дело в шляпе. Вообще-то вряд ли так уж хорошо смазывать волосы вазелином, но я отказываюсь платить за то дерьмо, что продается в аптеках, – дерьмо в нарядных упаковках, на которых изображены девицы с «сексуальными» прическами. Все это просто жир, как бы он там ни назывался. Плохо уже то, что я покупаю шампунь-антистатик и кондиционер.
Я сижу на краю бассейна, болтая ногами в воде, и вдруг вижу, что ко мне кто-то идет. «Бен!» – на секунду вспыхивает в голове. Но это не он. Это Жорж. Что он тут делает?
– Алиса, – говорит он, подойдя.
– Жорж, – отвечаю я.
На нем шорты до колен, полотняная рубашка и дорогие на вид спортивные сандалии. Он их сбрасывает, садится рядом со мной и тоже болтает в воде ногами.
– Боже, холодновато, – замечает он.
– Просто нужно привыкнуть, – откликаюсь я. – Как жизнь?
– У меня-то? Сплошные дела, непрерывный стресс… все как у всех.
Я смеюсь:
– Я творческий работник. У меня не бывает стрессов.
Он тоже смеется:
– Ладно… но я хотел спросить…
– Что?
– Как вам все это нравится? В смысле, проект?
– Даже не знаю, – честно отвечаю я. – Спросите через недельку.
– До меня дошли слухи, что из занятий по нестандартному мышлению толком ничего не вышло.
– Да нет, все в порядке, – говорю я. Потом нахмуриваюсь. – Это что, опрос фокус-группы?
– Что? О нет. Простите. Я вообще-то вас искал, потому что…
– Потому что?
Я поворачиваюсь, чтобы взглянуть на него, пытаясь погасить то, что мерцает в глубине моих глаз, прежде чем он это увидит. Жорж всегда волновал меня, и всегда будет волновать. Я замечаю, какими тощими его смуглые ноги кажутся в шортах, и внезапно представляю, как он выглядел, когда был ребенком. Но этот мужчина – корпоративное лицо всех творческих работников «Попс». Он наш босс. Он недосягаем почти как луна. Когда он поворачивает голову, чтобы меня поцеловать, я разрешаю себе захотеть его ровно на пять секунд; я отсчитываю их про себя – его губы касаются моих, его пальцы легко ложатся на мою руку, – но потом отстраняюсь и встаю.
– В параллельной вселенной, – говорю я, прежде чем уйти. А потом, почти шепотом, так что он, наверное, не слышит, добавляю: – В мечтах.
После уличной жары в комнате у меня прохладно, почти как перед штормом. Каким-то образом я умудряюсь проникнуть внутрь, плюхаюсь на постель и только после этого замечаю, что кто-то запихал под дверь два конверта. Еще несколько секунд я лежу, ощущая спиной приятный холодок пухового одеяла, incommunicado, [52]52
Некоммуникабельная (исп.).
[Закрыть]словно застыв во времени. Потом встаю и подбираю конверты.
На одном написано мое имя. На другом – ничего. Открываю первый. Письмо от Жоржа. «Иду вас искать, чтобы дать вам вот это, – читаю я. – Если я вас не найду (или если я все испорчу) – все равно, это вам». В конверте лежит визитная карточка, пустая, если не считать имени Жоржа и номера его сотового. Я держу в руке тонкий прямоугольник; яркие кадры иной жизни прокручиваются у меня в голове. Я не знаю, чем эта жизнь заканчивается; не знаю даже, как бы она могла начаться.
Во втором конверте именно то, что я опасалась найти. Очередной узкий поздравительный бланк, на сей раз со следующим текстом: ВЙБИПАВЭШРП? Я сажусь за конторку, быстро черчу «квадрат Вигенера» и начинаю расшифровывать по строкам, которые соответствуют буквам «ПОПС». Несмотря на прохладу, мне вдруг становится отчаянно жарко. Буква за буквой послание проявляется на странице, и до меня доходит, что я надеюсь: законченный текст сообщит мне что-то о личности отправителя и о том, чего он – или она – хочет. Но записка оказывается даже страннее, чем предыдущая: «тысчастлива?» Ты счастлива?Ну и ну. Как это понимать? Зачем мне это прислали? Теперь я знаю: это определенно любительская работа. Вопросительный знак выдал заговорщиков с головой. В криптографии никто не ставит знаки препинания, они совершенно лишние. Вместо того чтобы размышлять над содержанием записки, я переключаю внимание на другие факторы: способ отправки, чернила и так далее. «Попсовский» поздравительный бланк – бумаженция ничем не примечательная; видимо, потому ее и использовали. На работе у нас таких бланков хоть завались. Но мы не на работе.Может, кто-то привез их с собой сюда, в Девон, специально, чтобы писать мне эти послания? Сколько здесь нахожусь, не видела никаких поздравительных бланков; с другой стороны, я же не знала, к примеру, что для нас приготовят купальные костюмы и наймут поваров. Снова изучаю бланк. Чем-то он отличается от тех, которые мы обычно используем (не то чтобы я их так уж часто видела). Ну конечно. Адрес. Здесь указан местный, а не штаб-квартиры в Лондоне. Это что-нибудь значит?
Тот, кто это отправил, сделал это сегодня – принес сам или нанял посыльного. Вывод вполне очевиден: это кто-то из участников проекта, а может, Мак или Жорж. Оба раза, когда я получала эти записки, Жорж был в «Цитадели Попс», но зачем ему париться и посылать мне одну записку шифром, а другую – клером? [53]53
Клер – незашифрованный текст.
[Закрыть]Телефонный номер, который он мне дал, инкриминирует его гораздо больше, чем клочок бумаги с невинным вопросом, счастлива ли я. Маловероятно, что это Жорж.
Я скручиваю сигарету и, прикурив, уничтожаю в пламени зажигалки «квадрат Вигенера» и расшифрованную записку. Я уже знаю, что в ней говорится; ни к чему оставлять улики. Хочу ли я, чтобы мой корреспондент догадался, с какой легкостью я разгадываю его послания? Пока не решила. На самом деле я даже не знаю, надо ли, чтобы он понял, что я вообще проявляю к ним интерес. Однако важнее другое: я совершенно не хочу, чтобы кто-нибудь нашел расшифровку. Это скомпрометировало бы не только само послание, но и ключ. Каким бы пустым или нелепым послание ни казалось, ключ выдавать нельзя ни при каких условиях.
Дела нужно делать сразу, иначе их вообще никогда не сделаешь. И правда: откуда ты знаешь, что случится через пять минут? Если я не сожгу это сейчас, вдруг шанс больше не представится? Произойти может что угодно. Я могу вернуться к бассейну, нырнуть, стукнуться головой и через три месяца очнуться в больнице. «Мы прибирались у тебя в комнате, Алиса, и нашли всякие странные бумажки. Чем ты там занималась? Дешифровкой? Почему?» Я понятия не имею, кто пытается со мной связаться, а потому не знаю, хочу ли связываться с ними. Мы так обожаем всё откладывать на потом. К вечеру я вернусь домой. Муж придет с работы. Купим еду в супермаркете. Если запасы кончатся, просто сходим и купим еще.Но ничего не знаешь заранее. До блокады ленинградцы выкидывали остатки еды на помойку, не задумываясь, что может стрястись беда, а несколько месяцев спустя варили суп из старых чемоданов. Однажды ты можешь проснуться и узнать, что твоя мать умерла, или что отец пропал без вести, или что разразилась война. Ты просто не знаешь, что будет завтра.
Счастлива ли я? Честное слово, у меня нет ответа.
Я смотрю карточку Жоржа и поздравительный бланк на конторке. И сжигаю их тоже.
– Если хочешь, чтобы я начала с самого начала, – говорит бабушка, – наберись терпения. Мне придется вспомнить Вторую мировую войну или даже времена еще раньше.
– Войну? – переспрашиваю я.
Она кивает и делает глоток виски.
– Ты, наверное, заметила, как я расстроилась, когда твой дедушка заговорил про Блэтчли-Парк. Странно, что ты не спросила, был ли он там в войну…
– А он был? – спрашиваю я, придя в волнение от одной этой мысли.
– Нет. Я была.
– Ты?
– Я была одной из немногих женщин-криптоаналитиков. Я работала с Тьюрингом над расшифровкой сообщений «Энигмы». Работа была трудная, но очень увлекательная. К началу войны мы с твоим дедушкой уже были любовниками и планировали пожениться. Однако война кого хочешь заставит поменять планы; можешь быть уверена – свадьбы в те годы играли редко. Мы оба учились в Кембридже. Я была одной из первых женщин, кому на самом деле разрешили получить степень; как и твой дедушка, я занималась математикой. В тридцатых, когда я училась на последнем курсе, Тьюринг был в Кембридже членом университетского совета. Я помню, поначалу его очень воодушевляло антивоенное движение – примерно до 1934 года, когда ситуация в мире усложнилась. Гитлер делал страшные вещи – терроризировал и убивал людей на улицах Вены и тому подобное; в воздухе все время носились разные слухи, и никто не знал, чему верить. Едва ли кто-то хотел войны. Но вдруг оказалось, что ее не избежать… За два или три года до объявления войны я закончила университет и начала писать диссертацию, чтобы получить место в аспирантуре, но у твоего дедушки были большие неприятности. Он уже тогда был на редкость упрямым и постоянно ссорился с властями. Он был страстным противником любой войны и однажды ночью, незадолго до защиты диплома, разукрасил стены вокруг университета пацифистскими лозунгами. В конце концов его заставили сознаться в этом проступке. Меловые надписи полностью отмылись, но ученый совет не допустил твоего дедушку к защите. Сказали, что допустят только в том случае, если он принесет официальные извинения, но он отказался. Заявил, что это была не какая-то дурацкая выходка, а политическая акция, после чего просто взял и ушел из университета, поклявшись никогда не возвращаться. Хотя он остался жить в Кембридже и продолжал дружить с нашей большой университетской компанией, он так и не извинился. Да, веселое было времечко. Тьюринг улетел в Принстон, надеялся познакомиться с математиком по фамилии Гёдель, [54]54
Курт Гёдель (1906–1978) – американский логик и математик австро-венгерского происхождения. Согласно сформулированной и доказанной им теореме, известной как «теорема о неполноте», внутренняя непротиворечивость любой формальной аксиоматической системы, такой как логика или математика, не может быть доказана только средствами самой этой системы.
[Закрыть]но вместо него встретил другого кембриджского профессора, Г. Г. Харди…
– Того Харди, который открытку послал? – спрашиваю я.
– Ух ты, вот это память! Да, того самого.
– Ну и что это была за открытка?
Бабушка смеется:
– Чтобы объяснить, мне придется слегка отклониться от темы, но ты хоть поймешь, отчего это твой дедушка так на меня взъелся. Харди был эксцентричным математиком, в чем-то походил на твоего дедушку. У него были мании: одна – крикет, другая – во что бы то ни стало доказать гипотезу Римана. А еще он был помешан на Боге. С маниакальным упорством вел против Бога некую странную войну, всё норовил его обхитрить. Приходил на крикетные матчи с грудами книг – якобы чтобы поработать, если вдруг пойдет дождь и матч прервется. Вообще-то дождя он не ждал, это был двойной блеф. Харди думал, что Бог увидит: ага, профессоришка ждет дождя! – и взамен устроит ему пекло, чего Харди на самом деле и хотел. Ну а его открытка стала своего рода легендой. Он послал ее своему другу как раз перед тем, как отправиться в плавание по каким-то на редкость бурным морям. В открытке говорилось, что он нашел доказательство гипотезы Римана. К тому времени эта гипотеза стала одной из самых знаменитых нерешенных проблем в математике. Харди знал, что Бог не даст ему утонуть после того, как он послал открытку. Если б он утонул, то моментально прославился бы, его навсегда бы запомнили как человека, который доказал гипотезу Римана, а потом умер. Он был уверен, что Бог ни за что не дарует ему бессмертие вот так вот, считай, задаром, так что открытка стала своего рода «страховым полисом». Ой, а когда Харди встретился с Паулем Эрдёшем [55]55
Пауль Эрдёш (1913–1996) – венгерский математик, знаменитый своей эксцентричностью и необыкновенной работоспособностью (с двадцати лет до самой смерти, по вполне правдоподобной легенде, каждый день минимум двенадцать часов занимался любимой наукой).
[Закрыть]– вот это и впрямь было забавно. Эрдёш – тоже совершенно эксцентричный математик. Называл Бога «НФ» – «Непобедимый Фашист». Можешь себе представить, как здорово эти двое поладили! Короче, вот тебе объяснение «открытки Харди».
– Ясно, – говорю я, хотя не очень понимаю, какое отношение открытка имеет к спору бабушки с дедушкой.
Бабушка смешивает себе новую порцию, поменьше, и снова ставит чайник – наверное, чтобы сделать мне еще чаю. Начался дождь – крохотные копытца стучат в окно. Как там, интересно, дедушка? Надеюсь, у него все в порядке. Бабушка и вправду наливает мне кружку горячего сладкого чаю, включает газ посильнее и садится обратно на диван.
– Так на чем мы остановились? Ах да. Тьюринг уже какое-то время работал над гипотезой Римана, а встретившись с Харди, задался вопросом, не надо ли на самом деле попытаться ее опровергнуть, вместо того, чтобы доказывать. В Кембридж он вернулся в странном настроении, полный идей еще безумнее, чем обычно, насчет «умственных машин» и реальных машин, которые собирался построить. Особенно ему хотелось создать машину, которая трудилась бы над гипотезой Римана, и я одно время ассистировала ему в Кембридже. Помню, голова моя была полна мыслей о моей героине, Аде Лавлейс – дочери лорда Байрона, еще одной женщине-математике, – и что я была слегка влюблена в Тьюринга, хотя это было глупо, потому что он был геем и этого не скрывал – ну, по крайней мере в Кембридже.
– Геем? – переспрашиваю я в шоке. «Геем» у нас в школе обзывают того, кто сделает какую-нибудь глупость. Я знаю, что на самом деле геи – это мужчины, которые любят мужчин, или женщины, которые любят женщин, но как так можно, я ума не приложу.
– Да, Тьюринг был геем. Из-за этого он подвергся гонениям и покончил с собой. – Она внимательно смотрит на меня. – Алиса, никогда не осуждай подобных людей, никогда. Ты не знаешь, что это с ними сделает.
– Не буду, – серьезно обещаю я.
– Хорошо. Ну, значит, когда наконец объявили войну, мне и нескольким мои коллегам с математического факультета посоветовали поехать в этот самый Блэтчли-Парк и предложить свои услуги. По слухам, это было место, где интеллектуалы могли провести всю войну, разгадывая головоломки; такая перспектива не могла не понравиться дедушке. Ему поехать не предложили – он же был изгнан из университета, – но он все равно отправился с нами. К сожалению, он оказался в числе тех немногих, кого отослали обратно. Власти заявили, что он недостаточно дисциплинирован и ему нельзя доверить военную тайну. А меня приняли; это было потрясением для нас обоих. Мы попрощались и пообещали друг другу писать. Долгие годы – даже после того, как война закончилась и мы поженились – мне было по закону запрещено рассказывать твоему дедушке о том, что происходило в Блэтчли-Парке. Внешне он всегда к этому спокойно относился, но его глубоко ранило, что ему дали от ворот поворот. Но я не думаю, будто он хоть каплю завидовал тому, что я была там с несколькими нашими друзьями, и я его за это любила только сильнее… После того как его не приняли в Блэтчли-Парк, он около года болтался без определенных занятий и ничего примечательного не совершил. К этому времени пацифизма в нем поубавилось. В радиосводках постоянно сообщалось о новых преступлениях нацистов, да и военная пропаганда тоже делала свое дело; в общем, не стать против Гитлера было трудно. Дедушка несколько раз пытался поступить на военную службу и отправиться на фронт, но его постоянно признавали «психически негодным». Как-то раз я получила увольнительную, и он повел меня в кафе. Я рассказала ему о людях, приезжавших в Англию при поддержке Французского Сопротивления; их отправляли на обучение в секретную организацию, которая базировалась где-то в Лондоне. Ее членов сбрасывали на парашютах в стан неприятеля по всему миру; их миссией было просто устраивать взрывы, погромы, заниматься саботажем – пытаться остановить немцев любыми средствами. Некоторых членов организации должны были отправить на помощь маки – французским партизанам, которые пытались разгромить армию захватчиков. В то время немцы уже оккупировали Францию…
– Да, я знаю, – говорю я. – Я прочитала кучу книжек про войну.
– А, прекрасно. Ну, твой дедушка поехал в Лондон и завязал нужные знакомства. Он прошел собеседование в конспиративной квартире неподалеку от Бейкер-стрит. В эту организацию – она называлась ЦСО, «Центр специальных операций» – во время войны стягивались все бунтовщики. Те, кто был физически покрепче, готовились к заброске на вражескую территорию – во Францию, куда угодно, – а все прочие оставались в тылу и занимались местными обычаями, диалектами и в особенности техникой маскировки, для чего приходилось изучать французское зубоврачевание, принятые у немцев способы кройки и шитья, способы надежно спрятать капсулы с цианидом и так далее…
– Зубоврачевание? – переспрашиваю я. – Зачем?
– Ну, каждый, кого забрасывали во Францию, должен был прикинуться немцем или французом. Немцы же высматривали любые несоответствия. Всем сброшенным во Францию заново чинили зубы. Нельзя было объявиться во Франции с английскими пломбами – это значило подписать себе смертный приговор. Разумеется, нужно было также очень бегло говорить по-французски, и дедушка этому научился. Кстати говоря, людей из ЦСО очень даже впечатлил номер, который дедушка выкинул в Кембридже. Факт остается фактом: он не сдался, не пожелал сложить оружие. Им были нужны люди с сильной волей, которые не сломались бы на допросе. Во время психологического теста врач показал ему кляксы на промокашках и спросил, на что они похожи. Дедушка вышел из себя. Он ненавидел все это психологическое мумбо-юмбо и сказал парню – мол, хватит тратить время на бессмысленные картинки, отправляйся на войну и сражайся с Гитлером, как настоящий мужчина. Он просто не мог сдержаться. Именно из-за подобных вспышек он все время проваливал эти тесты и не был принят ни в армию, ни во флот. Но, опять-таки, ЦСО были нужны именно такие черты характера. Дедушку приняли, а потом отправили в тренировочный лагерь в Шотландии, где он тринадцать недель учился прыгать с парашютом, убивать людей голыми руками, открывать замки отмычкой, делать бомбы и взрывать мосты. Даже ночью за ним наблюдали – хотели убедиться, что он не будет разговаривать во сне по-английски! Он был в своей родной стихии. Обучение закончилось; он рвался во Францию, но в ЦСО постоянно были какие-то задержки и отсрочки. Почти всю войну он только и делал, что ждал.
Бабушка смотрит на настенные часы. Почти полвосьмого.
– Ладно, не буду перегружать тебя подробностями. Просто знай: с ЦСО у твоего дедушки связаны прелюбопытнейшие воспоминания. Можешь поспрашивать его, когда немного подрастешь. Я немного отвлеклась от темы, но мне просто хотелось как следует обрисовать тебе сцену. Твой дедушка – храбрый человек, неистово гордый и упрямый, и он так до конца и не простил Блэтчли-Парк за то, что тот его не принял. Разумеется, в конечном итоге его война оказалась интереснее, чем у любого из нас, но он знал – мы всезнали, – что, если исключить Тьюринга и еще пару-тройку людей, твой дедушка был лучшим криптоаналитиком страны. После войны я взялась за работу, которой уже не прекращала заниматься, – пыталась доказать гипотезу Римана и преподавала математику. Но твой дедушка по-прежнему занимал достаточно антиавторитарную позицию – типа, «я им всем еще покажу». Когда умер Тьюринг, дедушка еще сильнее укрепился в своем намерении «им показать». Чиновники в Блэтчли-Парке – сливки британского криптоаналитического общества того времени – страшно давили на Тьюринга. Потом его окончательно добил несправедливый арест по обвинению в гомосексуализме. Из-за всего этого дедушка стал еще более решительным противником властей. Он относился к любым правилам так же, как к кодам и шифрам: коды существуют, чтобы их взламывали, правила – чтобы их нарушали. Он хотел доказать людям, что он, Питер Батлер, может разгадать то, что разгадать нельзя; вот почему почти сразу же после смерти Тьюринга он начал работать над «рукописью Стивенсона – Хита»… Он впервые услышал про нее году в 34-м или 35-м, но поначалу не уделил ей должного внимания. В сущности, это был памфлет, содержавший увлекательную историю – своего рода предание, – после которого шел ряд странных чисел и букв; на самом деле рукопись являлась зашифрованной картой, которая указывала местонахождение сокровища. Дедушка не сильно интересовался сокровищами и, прочитав в журнале «Криптограмма» статью о рукописи, отметил только самые важные или абсурдные подробности – я помню, что он пересказал их нам однажды за ужином. Помнится, что нашу дружескую компанию сильно взбудоражил тот факт, что, хотя зашифрованная «карта» была почти столетие доступна публике, до сих пор никто сокровища не нашел.
– А что, «Криптограмма» тогда уже выходила? – спрашиваю я. На книжной полке лежит целая стопка журналов с этим названием, и я знаю, что раз в несколько месяцев дедушке присылают их из «Американской криптологической ассоциации».
– О да. Твой дедушка был одним из первых членов. Еще одна причина, почему его так возмутила история с Блэчли-Парком – во время войны большинство членов «АКА» получили работу дешифровщиков. Как бы то ни было, для криптоаналитиков и охотников за сокровищами «рукопись Стивесона – Хита» была тем же, чем гипотеза Римана – для математиков. Тот, кто смог бы ее расшифровать, обрел бы не только богатство, но и бессмертие. Твой дедушка всегда был одержим романом Дюма «Граф Монте-Кристо». Знаешь сюжет? Это история про честного моряка по имени Эдмон Дантес, преданного друзьями и отправленного в тюрьму на необитаемом острове, где он тринадцать лет просидел один в каменной темнице. Однажды другой заключенный, священник, пытаясь выкопать тоннель наружу, случайно попал в камеру Дантеса. Они подружились, священник научил его читать и писать, и они провели несколько лет вместе, выкапывая тоннель на волю. Священник знал о зарытом где-то сокровище и перед самой смертью вручил Дантесу карту и велел закончить тоннель и найти клад. Но, хотя он и предостерег Дантеса: используй деньги только во благо, – тот поклялся использовать их для мести. Обретя свободу и богатство, какое ему и не снилось, Дантес построил изощренный план мести и в конце концов погубил всех своих предателей. Но в результате он также потерял все, что было ему дорого, в том числе женщину, которую любил. Мораль истории такова, что месть может принести лишь несчастье, но твой дедушка никогда не читал этот роман под таким углом. Он начал фантазировать, как решит загадку «рукописи Стивенсона – Хита», найдет сокровище, прославится и разбогатеет, а потом совершит что-нибудь безумное – например, купит Кембриджский университет и превратит его в школу для детей из семей бедняков или центр спасения бездомных животных. Вся эта задумка была совершенно бредова, и мы постоянно спорили. В конце концов он признал: да, мол, я понимаю, что мстить нехорошо, и нет, мол, меня не так уж интересует сокровище. Но он все равно продолжал работать над рукописью – тридцать пять лет, каждый день.
– И что было дальше?
– Он ее расшифровал.








