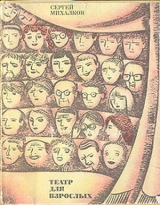
Текст книги "Театр для взрослых"
Автор книги: Сергей Михалков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
например, сделали?
Рассказчик. Да!
Прудентов. Какой такой исторический обзор?
Молодкин. Какой такой исторический обзор?
Глумов. Как же! Нельзя без этого. Сперва надо исторический обзор, какие
в древности насчет благопристойного поведения правила были, потом обзор
современных иностранных по сему предмету законодательств...
Прудентов. Позвольте вам доложить, что в нашем случае ваша манера едва
ли пригодна будет.
Рассказчик. Но почему же?
Прудентов. Вряд ли иностранная благопристойность для нас обязательным
примером служить может.
Глумов. Но ведь для вида... поймите вы меня: нужно же вид показать.
Прудентов. Россия по обширности своей и сама другим урок преподать
может. И преподает-с.
Иван Тимофеевич (кивая на Прудентова). А ведь он, друзья, правду
говорит! Точно, что у нас благопристойность своя, особливая...
Прудентов. А еще требуется теперича, чтобы мы между прочим правила
благопристойного поведения в собственных квартирах начертали – где, в каких
странах, вы соответствующие по сему предмету указания найдете?
Иван Тимофеевич. А?
Прудентов. Иностранец – он наглый! Он забрался к себе в квартиру и
думает, что в неприступную крепость засел.
Иван Тимофеевич. Уж так они там набалованы, так набалованы – совсем
даже как оглашенные! И к нам-то приедут – сколько времени, сколько труда
нужно, чтоб их вразумить! А с нас, между прочим, спрашивают! Извините, господа.
Снова углубились в проект.
Рассказчик. Как же без исторического обзора? Стало быть, что вам придет
в голову, то вы и пишете?
Прудентов. Прямо от себя-с. Имеем в виду одно обстоятельство: чтоб для
начальства как возможно меньше беспокойства было – к тому и пригоняем.
Пауза.
Рассказчик. Любопытно!
Глумов. Позвольте мне взять это с собой денька на два.
Иван Тимофеевич. А что, друзья? Прекрасно! Поправь! Сделай милость,
поправь! Я ведь и сам... Вижу, что не того...
Глумов. Голо!
Рассказчик. Голо!
Глумов. Я тут чего-нибудь подпущу!.. Устных преданий, народной
мудрости...
Иван Тимофеевич. Только при этом сообразуйте ваше суждение с тем, что
народная мудрость, она, можно так сказать, для челяди полезна, а для
высокопоставленных лиц едва ли руководством служить может. Народ же – он
глуп-с!
Молодкин. Еще как глуп-с!
Прудентов. То есть так глуп-с!
Иван Тимофеевич. Ну вот и славно. А теперь, друзья, у меня разговор
интимного свойства. И теперь уже безотлагательный. (Прудентову и Молодкину.) Будьте здоровы, друзья!
Прудентов и Молодкин уходят.
До свиданья, господин Глумов.
Глумов встает, Рассказчик тоже.
(Удерживает Рассказчика.) Нет, а вот вы не спешите. С вами-то я и проведу
свой интимный разговор.
Рассказчик (испуганно). Со мной?
Иван Тимофеевич. А вы не пугайтесь! Что касается господина Глумова, то
в случае необходимости мы и его введем в курс дела. (Глумову.) До свиданья.
Приятели в тревоге переглянулись, стали лихорадочно
жестами и взглядами напутствовать друг друга: "Не
покидай!", "Держись!" и т.д.
(Прекращает этот красноречивый обмен мнениями, решительно выпроводив Глумова
и обернувшись к Рассказчику – вдруг, беря быка за рога.) Услуги, мой друг, прошу!.. Такой услуги... что называется, по гроб жизни... Вот какой услуги
прошу!
Рассказчик съежился еще больше.
Да, да, да, давно уже это дело у меня на душе, давно собираюсь... Еще в то
время, когда вы предосудительными делами занимались... Давно уж я
подходящего человека для этого дела подыскиваю! (Оглядывает Рассказчика с
головы до ног, как бы желая удостовериться, что перед ним тот самый
"подходящий человек", о котором он мечтал.) И вот нашел. Вас нашел.
Обещайте, что вы мою просьбу выполните!
Рассказчик. Иван Тимофеевич! После всего, что произошло?
Иван Тимофеевич. Да, да... довольно-таки вы поревновали... понимаю я
вас! Ну, так приступим прямо к делу! Ну-с, так изволите видеть... Есть у
меня тут приятель один... такой друг! Такой друг! (В голосе Ивана
Тимофеевича проступили просительные, даже заискивающие интонации.)
Рассказчик. Приятель?
Иван Тимофеевич. Так вот, есть у меня приятель... словом сказать,
Парамонов Онуфрий Петрович, купец... И есть у него... (Вдруг выпалил в
упор.) Вы как насчет фиктивного брака, одобряете?
Рассказчик (сконфузившись). Помилуйте! Даже очень одобряю, ежели...
Иван Тимофеевич. Вот именно так: ежели! Сам по себе этот фиктивный брак
поругание, но "ежели"... По обстоятельствам, мой друг, и закону перемена
бывает! – как изволит выражаться наш господин частный пристав. Вы что?
Сказать что-нибудь хотите?
Рассказчик. Нет, я ничего...
Иван Тимофеевич идет за водой, наливает, подает
Рассказчику.
Иван Тимофеевич. Так вот я и говорю: есть у господина Парамонова штучка
одна...
Рассказчик. Штучка?
Иван Тимофеевич. Ну, штучка, подружка, не знаю уж, как тут
выразиться... и образованная! В пансионе училась... Не желаете ли вы
вступить с этой особой в фиктивный брак? А?
Рассказчик (в зал). Я не могу сказать, что не понял его вопроса. Нет, я
не только понял, но даже в висках у меня застучало. Но в то же время я
ощущал, что на мне лежит какой-то гнет, который сковывает мои чувства, мешает им перейти в негодование и даже самым обидным образом подчиняет их
инстинкту самосохранения.
Иван Тимофеевич. Что с вами, голубчик?
Рассказчик (Ивану Тимофеевичу). Нет, ничего... Но почему же именно я?
Иван Тимофеевич (ласково). Ежели ты насчет вознаграждения беспокоишься,
так не опасайся! Онуфрий Петрович и теперь и на будущее время не оставит!
Рассказчик. Позвольте... Что касается до брака... право, в этом
отношении я даже не знаю, могу ли назвать себя вполне ответственным лицом...
Иван Тимофеевич (ласково ободряя). Слушай, друг! Да ведь от тебя ничего
такого и не потребуется. Съездите в церковь, пройдете три раза вокруг налоя, потом у кухмистера Завитаева угощение примете – и дело с концом. Вы – в одну
сторону, она – в другую! Мило! Благородно!
Большая, томительная пауза.
Рассказчик (в зал). Я слушал эти речи и думал, что нахожусь под
влиянием безобразного сна. Какое-то ужасно сложное чувство угнетало меня. Я
и благонамеренность желал сохранить, и в то же время говорил себе: ну нет, вокруг налоя меня не поведут... нет, не поведут! Господи! Хоть бы его в эту
минуту хватил апоплексический удар! Хоть бы потолок обрушился и придавил
его, а меня оставил невредимым... Господи! Пошли мне сверхъестественное и
чудесное избавление!
И вдруг дверь раскрывается, и входит само спасение – в
комнату влетает адвокат Балалайкин. Стон облегчения
вырывается из груди Рассказчика.
Иван Тимофеевич! Вот он! Вот кто нам нужен!
Иван Тимофеевич. Господин Балалайкин!.. (Восторженно.) Господин
Балалайкин! (Беспорядочно восклицая, раскрывает вошедшему широкие объятия.) А я-то... мы-то... А и в самом деле... Господин Балалайка! Ах ты, ах!
Закусить? Рюмочку пропустить?
Балалайкин. Нет, мон шер, я на минуточку! Спешу, мой ангел, спешу! Наше
дело адвокатское. Есть тут индивидуй один... взыскание на него у меня, так
нужно бы подстеречь...
Иван Тимофеевич (читает). "Лейба Эзельсон...". С удовольствием! И даже
с превеликим! Ах ты, ах! Да никак ты помолодел! Повернись! Сделай милость, дай на себя посмотреть!
Балалайкин. Не могу, душа моя, не могу! Спешу. Там записка, в которой
все дело объяснено. А теперь прощай!
Иван Тимофеевич. Да нет же, стой! А мы только что об тебе говорили, то
есть не говорили, а чувствовали: кого, бишь, это недостает? Ан ты... вот он!
Слушай же: ведь и у меня до тебя дело есть.
Балалайкин (смотрит на часы). У меня есть свободного времени... Да,
именно... Три минуты я могу уделить.
Иван Тимофеевич. Скажи: ты всякие поручения исполняешь?
Балалайкин. Всякие. Дальше.
Иван Тимофеевич. Жениться можешь?
Балалайкин. Это... зависит!
Иван Тимофеевич. Ну, конечно, не за свой счет, а по препоручению.
Балалайкин. Мо... могу!
Иван Тимофеевич. Так видишь ли: есть у меня приятель, а у него особа
одна... вроде как подруга...
Рассказчик. Штучка!
Балалайкин. Душенька то есть?
Иван Тимофеевич. Штучка, душенька... Не знаю, как там по-твоему... И
есть у него желание, чтобы эта особа в законе была... чтобы в метрических
книгах и прочее... словом, все чтобы как следует... А она чтобы между тем...
Балалайкин. С удовольствием, мой друг, с удовольствием!
Иван Тимофеевич. Ну-с, так что ты за это возьмешь? Она ведь, брат,
по-французски знает!
Балалайкин. Прежде нежели ответить на этот вопрос, я с своей стороны
предлагаю другой: кто тот смертный, в пользу которого вся эта механика
задумана?
Иван Тимофеевич. Ты прежде скажи...
Балалайкин. Нет, ты прежде скажи, а потом и я разговаривать буду.
Потому что, ежели это дело затеял, например, хозяин твоей мелочной лавочки, так напрасно мы будем и время попусту тратить. Я за сотенную марать себя не
намерен.
Иван Тимофеевич (после паузы, значительно). Ежели я назову Онуфрия
Петровича Парамонова – слыхал?
Балалайкин (он ошарашен, но быстро нашелся и по привычке соврал).
Намеднись даже в картишки с ним вместе играл.
Иван Тимофеевич (Рассказчику). Врет.
Балалайкин. Сколько?
Иван Тимофеевич. Что – сколько?
Балалайкин (без смущения). Сколько господин Парамонов на эту самую
"подругу" денег в год тратит?
Иван Тимофеевич. Как сказать... Одевает-обувает... ну, экипаж,
квартира... Хорошо содержит, прилично! Меньше как двадцатью тысячами в год, пожалуй, не обернешься. Ах, да и штучка-то хороша!
Балалайкин. А принимая во внимание, что купец Парамонов меняло, а с
таких господ за уродливость и старость берут вдвое, то предположим, что
упомянутый выше расход в данном случае возрастает до сорока тысяч...
Иван Тимофеевич. Предполагай, пожалуй!
Балалайкин. Теперь пойдем дальше. Имущества недвижимые, как тебе
известно, оцениваются по десятилетней сложности дохода; имущества движимые, как, например, мебель, картины, произведения искусства, подлежат оценке при
содействии экспертов. Так ли я говорю?
Иван Тимофеевич (неуверенно). Так-то так, да ведь тут...
Балалайкин. А в смысле экспертизы самым лучшим судьей является сам
господин Парамонов, который тратит на ремонт означенной выше движимости
сорок тысяч рублей в год и тем самым, так сказать, определяет годовой доход
с нее...
Иван Тимофеевич (внимательно слушая рассуждения адвоката). Не с нее, а
ее...
Балалайкин. С нее или ее – не будем спорить о словах. Приняв цифру
сорок тысяч как базис для дальнейших наших операций и помножив ее на десять, мы тем самым определим и ценность движимости цифрою четыреста тысяч рублей.
Теперь идем дальше. Эта сумма в четыреста тысяч рублей могла бы быть
признана правильною, ежели бы дело ограничивалось одною описью, но, как
известно, за описью необходимо следуют торги. Какая цена состоит на торгах -
это мы, конечно, определить не можем, но едва ли ошибемся, сказав, что она
должна удвоиться. А затем цифра гонорара определяется уже сама собою. То
есть восемьдесят, а для круглого счета сто тысяч рублей. (Смотрит на часы.) Я уже опоздал на целую минуту. Затем прощайте! И буде условия мои будут
необременительными, то прошу иметь в виду! (Раскланявшись, уходит.)
Иван Тимофеевич стоит как опаленный. Рассказчик близок к
отчаянию. Именно вследствие этой отчаянности он обретает
чуть ли не балалайкинский дар речи.
Иван Тимофеевич. Сто тысяч...
Рассказчик. Иван Тимофеевич! Сообразите! Ведь это дело – ведь это такое
дело, что, право же, дешевым образом обставить его нельзя.
Иван Тимофеевич. Диви бы за дело, а то... Другой бы даже с
удовольствием... за удовольствие счел бы... (Придя в себя, обращается к
Рассказчику.) Ну а вы как... какого вознаграждения желали бы? (С горькой
усмешкой.) Для вас, может быть, и двухсот тысяч мало будет?
Рассказчик (горячо). Выслушайте меня, прошу вас! Вы давно уже видите и
знаете мое сердце. Вам известно, страдаю ли я недостатком готовности служить
на пользу общую. В деньгах я не особенно нуждаюсь, потому что получил
обеспеченное состояние от родителей; что же касается до моих чувств, то они
могут быть выражены в двух словах: я готов! Но будет ли с моей стороны
добросовестно отбивать у Балалайкина куш, который может обеспечить его на
всю жизнь? Он – бедный человек, Иван Тимофеевич! И вы знаете, Иван
Тимофеевич, что, несмотря на свой лоск и шик, он с каждой минутой все больше
и больше погружается в тот омут, на дне которого лежит долговая тюрьма. И в
доказательство... (Берет со стола оставленную адвокатом записку, читает.)
"По делу о взыскании 100 рублей с мещанина Лейбы Эзельсона...". Понимаете
ли, какие у него дела? И как ему нужно, до зарезу нужно, чтоб на помощь ему
явился какой-нибудь крупный гешефт, вроде, например, того, который
представляет затея купца Парамонова? (Переводит дух. Всматривается в лицо
собеседника, продолжает.) С другой стороны, ведь не вам придется платить
деньги! Конечно, Балалайкин заломил цену уже совсем несообразную, но я
убежден, что в эту минуту он сам раскаивается и горько клянет свою
несчастную страсть к хвастовству. Призовите его, обласкайте, скажите
несколько прочувствованных слов – и вы увидите, что он сейчас же съедет на
десять тысяч, а может быть, и на две! Наверное, он уже теперь позабыл, что
сто тысяч слетели у него с языка. Почему он сказал "сто тысяч", а не
"двести", а не "миллион"? Не потому ли, что цифра сто значится в записке о
взыскании с мещанина Эзельсона? Я, конечно, этого не утверждаю, но думаю, что эта догадка небезосновательная. Завтра он принесет к вам записку о
взыскании двух рублей и сообразно с этим уменьшит и требование свое до двух
тысяч. Но если бы даже он и окончательно остановился, например, на десяти
тысячах, то, право, это не много! Совсем не много! Ведь поручение-то... ах, какое это поручение! И что вам, наконец? А ему грозит долговая тюрьма!
Неужели деньги купца Парамонова до такой степени дороги вашему сердцу, что
вы лишите бедного человека, который вас любит и ценит, возможности поправить
свои обстоятельства! (Замолкает, выжидая, какое впечатление произвела на
Ивана Тимофеевича его долгая и убедительная речь.)
Иван Тимофеевич (неопределенно). Ладно. Ну что ж... Поглядим...
Подумаем...
Затемнение
КАРТИНА ПЯТАЯ
Рассказчик (в зал). Странным образом моя судьба переплелась с судьбой
Балалайкина. Он не давал о себе знать, и Иван Тимофеевич поглядывал на меня
как-то хищно и деловито. Для меня же вопрос шел как бы о жизни и смерти.
Являлась мне мысль бежать в мою деревеньку Проплеванную и до конца дней там
закупориться... Я жил в каком-то бессвязном кошмаре... Мне являлась "штучка"
парамоновская во сне... и наяву стала видеться... Свадьба... Вокруг налоя
ведут... На цепь сажают. Все уходят, а я так на цепи и сижу... И лаю...
Фу-фу-фу! Глумов сначала смеялся, а потом сам уговорил меня идти к
Балалайкину и в лоб спросить его: будет жениться или нет? И цену пусть
назначит божескую... Разузнали адрес... Пошли... И вот мы у Балалайкина.
Приемная в адвокатской конторе Балалайкина. В углу
дремлет пожилой человек с физиономией благородного отца
из дома терпимости. Другой клиент, совсем юный, в
ожидании приема рассеянно листает толстенную книгу.
Глумов и Рассказчик, сидя в сторонке, тихо
переговариваются.
Рассказчик (шепотом). Глумов, Глумов, что делать? Что делать?
Глумов. Да погоди же голову-то терять... Держись... Да и женишься -
ничего страшного... на худой конец. Не всерьез же.
Рассказчик (задрожав). Не-ет, Глумов... Я тебе говорю – вокруг налоя
меня не поведут! Не-ет! Не поведут... Удавлюсь, а не поведут! Или в крайнем
случае укажу на тебя...
Глумов. Да тише ты!
Рассказчик. Укажу, укажу как на более достойного.
Глумов. Уймись, слышишь? А то уйду.
Рассказчик (громко). Нет! (Спохватившись, шепотом.) Нет, нет, нет!
Дремавший в кресле старик шевельнулся.
Глумов. Видишь, потревожили человека.
Из кабинета вышел Балалайкин. Он необыкновенно мил в
своем утреннем адвокатском неглиже. Лицо его дышит
приветливостью и готовностью удовлетворить клиента, что
бы тот ни попросил.
Балалайкин (Глумову и Рассказчику). Господа! Через четверть часа я к
вашим услугам, а теперь... вы позволите? (Подходит к юноше и приглашает его
жестом в кабинет.)
Глумов (Рассказчику). Слушай, друг, а тебе не кажется... (Оглядывается,
принюхивается.)
Рассказчик. Ничего мне не кажется!
Глумов. Не горячись, сделай милость! Ты лучше оглядись, куда мы попали!
Рассказчик. Куда, куда... В приемную адвоката Балалайкина!
Глумов. Да нет, ты посмотри, где он живет, Балалайкин!
Рассказчик. Где?
Глумов. Не узнаешь? Да это же квартира Дарьи Семеновны...
Рассказчик. Дарьи Семеновны?
Глумов. Забыл Дарью Семеновну? Кубариху забыл!
Рассказчик. Ее пансион для благородных девиц без изучения древних
языков?
Глумов. Ну конечно! Здесь и живет Балалайкин. Ух, веселое время было!
Ух, молодость наша, молодость!
Рассказчик (он оглядывается, немного приходит в себя). Да... Бедная
Дарья Семеновна, царство ей небесное!
Глумов. Я еще на лестнице подумал... А потом – нет, быть не может...
Чего-чего тут только не было... Кто только в ее квартире воспитание не
получил!
Рассказчик. Многие из ее школы вышли, которые теперь...
Глумов. Да... Хороша она была по педагогической части...
(Принюхивается.) Слышишь? Пахнет! Дарья Семеновна... она! Она эти самые духи
употребляла, когда поджидала "гостей"! Эти духи... Да ведь она жива! Она
здесь!!!
Дремавший в кресле старик закряхтел, заерзал. Рассказчик
толкает Глумова, он затихает, но старик уже окончательно
проснулся. Он встал, подошел к ним, поклонился.
Очищенный. Разрешите представиться. Перед вами человек извилистой
судьбы. Вот уже пять лет, как жена моя везде ищет удовлетворения.
Глумов. Да?
Очищенный. Жена моя содержит гласную кассу ссуд, я же состою редактором
при газете "Краса Демидрона". Наша газета находится в ведении комитета
ассенизации столичного города Санкт-Петербурга. Тяжелы обязанности редактора
газеты по вольному найму! Правда, взамен всех неприятностей я пользуюсь
правом в семи трактирах, однажды в неделю в каждом, попользоваться двумя
рюмками водки и порцией селянки. Жалованье я получаю неплохое, но ежели
принять во внимание: первое, что по воспитанию моему я получил потребности
обширные; второе, что съестные припасы с каждым днем дорожают, так что рюмка
очищенной стоит нынче десять копеек вместо прежних пяти, – то и выходит, что
о бифштексах да об котлетах мне и в помышлении держать невозможно!
Рассказчик. Позвольте, однако! Ведь вы сами сказали, что имеете право
на бесплатное получение ежедневно двух рюмок водки и порции селянки!
Очищенный. Ах, молодой человек! Молодой человек! Как вы, однако,
опрометчивы в ваших суждениях! По моему воспитанию мне не только двух рюмок
и одной селянки, а двадцати рюмок и десяти селянок – и того недостаточно!
Ах, молодой человек, право, обидно даже... (В голосе его зазвучали слезы, а
рука сама протянулась к приятелям, как бы намекая о вознаграждении за
обиду.)
Глумов. Не сердитесь на нас! (Кладет в распростертую ладонь Очищенного
деньги.)
Очищенный (деловито рассмотрев монету). Мало, но я не притеснителен...
К тому же я сластолюбив... (Со слезой в голосе.) Я люблю мармелад, чернослив, изюм, и хотя входил в переговоры с купцом Елисеевым, дабы
разрешено мне было бесплатно входить в его магазины и пробовать, но получил
решительный отказ; купец же Смуров вследствие подобных же переговоров
разрешил мне выдавать в день по одному поврежденному яблоку. (Рассказчику.) Стало быть, и этого, по вашему, милостивый государь, разумению, достаточно?
Рассказчик. Извините. (Положил в приготовленную ладонь монету, она
мгновенно исчезает в кармане Очищенного.)
Очищенный. Благодарю вас. Итак, я сластолюбив и потому имею вкус к
лакомствам вообще и к девочкам в особенности. Есть у них, знаете...
(Сладострастно причмокнул.)
Глумов и Рассказчик (с отвращением). Ой...
Очищенный. А так как жена удерживает у меня пятнадцать рублей в месяц
за прокорм и квартиру – и притом даже в таком случае, если б я ни разу не
обедал дома, – то на так называемые издержки представительства остается
никак не больше пяти рублей в месяц.
Глумов внимательно на него смотрит.
(Встревоженно.) Что такое?
Глумов узнает его и начинает напевать: "Чижик-пыжик, где
ты был?"
Что такое?!
Глумов. "...На Фонтанке водку пил...". (Рассказчику.) Послушай, брат, ты видишь, кто он, этот старик? Не узнаешь его?
Рассказчик. Нет... Хотя... Словно я видел его где-то...
Глумов. Это же тапер Дарьи Семеновны... Очищенный!
Рассказчик. Иван Иваныч!
Глумов (Очищенному, вглядываясь в него). Иван Иваныч! Да ведь это ты!
Ты! Ты! Помнишь, как ты на фортепьяно тренькал?
Очищенный (осторожно). Не помню...
Глумов. А помнишь, как я однажды поднес тебе рюмку водки, настоенную на
воспламеняющихся веществах?
Очищенный. Помню. (Бросается в его объятия.) Друзья! Не растравляйте
старых, но не заживших еще ран! Жизнь моя – это тяжелая и скорбная история!
Глумов. Иван Иваныч! Как ты вырос! Похорошел!
Очищенный. А моя жена еженедельно меня крова лишает.
Глумов. Но ведь супруга ваша могла бы и не требовать с вас платы за
содержание?
Очищенный. О-о! Не говорите, милостивый государь! Моя жена... А есть
ведь, господа, и другие жены... Вот жена Балалайкина, например...
Рассказчик (вскрикивает). Как?
Глумов толкает его: молчи, мол.
Очищенный (рад посплетничать). Никто почти и не знает, что он женат. А
он женат, господа, и восемь дочерей имеет.
Рассказчик. Балалайкин женат?
Очищенный (взахлеб). Женат. Живут они в величайшей бедности близ
Царского Села, получая от Балалайкина в виде воспособления не больше десяти
рублей в месяц. Балалайкин же наезжает туда один раз в неделю, и ни одна
душа о том не знает...
Рассказчик близок к обмороку.
Рассказчик. Все погибло.
Очищенный. Что?
Глумов (желая отвлечь Очищенного). Свидетель игр нашей молодости! Иван
Иваныч! Да ведь тут фортепьяно! Сыграй нам "Чижик-пыжик! Где ты был?"
Помнишь? (Отводит Очищенного от Рассказчика.)
Очищенный. Помню, как не помнить? (Садится за фортепьяно, начинает
играть.)
Глумов садится рядом и подпевает.
Рассказчик. Балалайкин женат.
Глумов. Мужайся, что-нибудь придумаем.
Рассказчик. Что же это такое? Значит, он соглашался на двоеженство? И
мы должны этому содействовать? А может быть, это и к лучшему? Тут уж мы
окончательно свою благонамеренность выкажем. А что же остается? Забыть, что
мы собирались только "годить", и по уши погрузиться в самую гущу
благонамеренной действительности. Общий уголовный кодекс защитит нас от
притязаний кодекса уголовно-политического. Двоеженство! Иначе не спастись.
Надо прямо бить на двоеженство. Теперь у нас есть цель: во что бы то ни
стало женить Балалайку на "штучке" купца Парамонова, и надо мужественно идти
к осуществлению этой цели. (Глумову.) Глумов! А как ты смотришь на
двоеженство?
Глумов. Эврика!
Дверь кабинета открылась, оттуда вышли Балалайкин и
юноша.
Балалайкин (всем). Я вижу, друзья, что вы уже перезнакомились. Одну
минутку! (Юноше.) Все ясно, наш план неотразим. Ведь прежнее письмо наше
возымело действие?
Юноша. Возымело, господин Балалайкин, только нельзя сказать, чтобы
вполне благоприятное. Вот ответ-с! (Подает письмо.)
Балалайкин (громко читает). "А ежели ты, щенок, будешь еще ко мне
приставать...". Гм, да... Ответ, конечно, не совсем благоприятный, хотя, с
другой стороны, сердце женщины... Ну, если и эти письма не помогут... Что ж!
Будем еще сочинять... новые... до победного конца!
Юноша (умоляющим тоном). Со стихами бы, господин Балалайкин!
Балалайкин. Можно. Из Виктора Гюго, например. (Декламирует
по-французски.) Ладно будет?
Юноша (робко). Хорошо-с, но ведь она по-французски не знает.
Балалайкин. Это ничего: вот и вы не знаете, да говорите "хорошо".
Неизвестность, знаете... она на воображение действует! Потребность такая в
человеке есть! А, впрочем, я и по-русски могу:
Кудри девы-чародейки,
Кудри – блеск и аромат!
Кудри – кольца, кудри – змейки,
Кудри – бархатный каскад.
Хорошо? Приходите завтра – будет готово... За стихи цена... (Поднял
правую руку и показал все пять пальцев.) Пять рублей.
Юноша. Нельзя ли сбавить, господин Балалайкин? Ей-богу, мамаша всего
десять рублей в месяц дает: тут и на папиросы, тут и на все-с!
Балалайкин. Желаете иметь успех у женщин и жалеете денег. Фуй, фуй,
фуй! Ежели мамаша дает мало денег, добывайте сами! Трудитесь, давайте уроки, просвещайте юношество! Сейте разумное, доброе, вечное! Итак, до завтра...
победитель! (Выпроваживает юношу. Обращаясь ко всем оставшимся, сгрудившимся
возле фортепьяно.) Ну, господа, я к вашим услугам! По счастливой случайности
я сегодня совершенно свободен от хождения и приглашаю вас позавтракать
здесь, со мной. (Хлопает в ладоши.)
Лакеи вкатывают стол с обильной едой.
Прошу, прошу, господа, садитесь. Не бог весть что, но несравненно лучше, чем
какой-нибудь "Пекин"!
Все благодарят и усаживаются.
Очищенный. Отменное угощение! Это вам не селянка в трактире!
Балалайкин (указывая на лакеев). Господа, позвольте представить! Мои
лжесвидетели! Без лжесвидетелей теперь в нашем деле никак нельзя! От четырех
до пяти человек содержу! Двое постоянных, при доме! На всякий случай, да и
при хозяйстве люди нужны: прими, подай, пшел вон!
Лжесвидетели смеются.
Пшли вон!
Лжесвидетели исчезают.
Рекомендую. Вот этот балык прислан мне прямо из Коканда бывшим мятежным
ханом Наср-Эддином за то, что я подыскал ему невесту. Двадцать фунтов
балыка! И один глиняный кувшин воды. (Хлопает в ладоши.)
Лакей приносит кувшин.
(Демонстрирует презент.)
Глумов. Зачем же воды?
Балалайкин. А у них вода в редкость – вот он и вообразил, что и невесть
как мне этим угодит.
Глумов. Слушай, Балалайкин, есть у меня вопросик...
Балалайкин. Потом, потом... Да, господа, немало-таки было у меня возни
с этим ханом! Трех невест в течение двух месяцев ему переслал – и все мало!
Очищенный. Осмелюсь вам доложить, есть у меня на примете девица одна,
которая в отъезд согласна... ах, хороша девица!
Балалайкин. Прекрасно-с, будем иметь в виду. Однако признаюсь вам, и
без того отбою мне от этих невест нет. Даже молодые люди приходят, право!
Звонок за звонком!
Глумов. Странно однако ж, что за все эти хлопоты он вас балыком да
кувшином воды отблагодарил!
Балалайкин. О, эти ханы, ханы... нет в мире существ неблагодарнее их!
Впрочем, он мне еще пару шакалов прислал, да черта ли в них! Позабавился
несколько дней, поездил на них по Невскому, да и отдал в зоологический сад.
Завывают как-то... и кучера искусали... И представьте себе, кроме
бифштексов, ничего не едят, канальи!
Глумов. Ай-ай-ай!
Балалайкин. Господа, рекомендую кильки... это достопримечательность! Я
их сам ловил прошлым летом... Дорогой в Европу. Вы знаете, ведь я было в
политике попался... Как же! Да! Да! Ну, и надобно было за границу удирать.
Нанял я, знаете, живым манером чухонца: айда, мина нуси, сколько, шельма
белоглазая, возьмешь Балтийское море переплыть? Взял он с меня тысячу рублен
денег да водки ведро, уложил меня на дно лодки, прикрыл рогожкой... Только
как к острову Готланду стали подплывать, тогда выпустил. Тут-то я и ловил
кильку, покуда не обнаружилось, что вся эта история с моей политикой – одно
недоразумение... Да, господа, испытал я в то время! Как ни хорошо за
границей, а все-таки с милой родиной расставаться тяжело. Ехали мы, знаете, мимо Кронштадта, с одной стороны Кронштадт, с другой – Свеаборг, а я лежу и
думаю: вдруг выпалит? Ведь броненосцев пробивает, а мы... что такое мы?!
Глумов. Не выпалил?
Балалайкин. Нет, зазевались. Помилуйте! Броненосцев пробивает, а наша
лодка... представьте себе, ореховая скорлупа! И вдобавок поминутно
открывается течь.
Глумов. Послушай, Балалайкин, есть у меня к тебе один вопросик...
Балалайкин. Успеете... А вот эти фиги мне Эюб-паша презентовал...
Впрочем, не следовало бы об этом говорить. Ну, да ведь вы меня не выдадите!
Да вы попробуйте-ка! Аромат-то какой!
Глумов. Эюб-паша за что же вам подарки делает?
Балалайкин. А я тут ему одно сведеньице в дипломатических сферах
выведал... так, пустячки!
Рассказчик. Балалайкин! Пощадите! Ведь вы себя в измене отечеству
обличаете!
Балалайкин. Ах! Ах! Ах! (Смеется.) Я действительно сведеньице для него
выведал, но он через это сведеньице сраженье потерял – в том самом... ну, в
ущелье, как бишь его? Нет, господа! Я ведь в этих делах осторожен! Однако я
его и тогда предупреждал. Ну куда ты, говорю, лезешь? Ведь если ты
проиграешь сражение, тебя турки судить будут, а если выиграешь, образованная
Европа осудит. Подай-ка лучше в отставку.
Глумов. Не послушался?
Балалайкин. Не послушался – и проиграл! А жаль Эюба, до слез жаль!
Лихой малый и даже на турку совсем не похож! Я с ним вместе в баню ходил -
совсем как есть человек! Только тело голубое, совершенно как наши жандармы в
прежней форме, до преобразования. Да, господа, много-таки я в своей жизни
перипетий испытал! В Березов сослан был, пробовал картошку там
акклиматизировать – не выросла! Но зато много и радостей изведал! Например, восход солнца на берегах Ледовитого океана! Представьте себе, в одно и то же
время и всходит и заходит – где это увидите? Оттого там никто и не спит.
Тюленей ловят!
Очищенный. Желал бы я знать, тюленье мясцо – приятно оно на вкус?
Балалайкин. Мылом отдает, а, впрочем, мы его ели. Там летом семьдесят
три градуса мороза бывает, а зимой – это что ж! Так тут и тюленине будешь
рад. Я однажды там нос отморозил; высморкался – смотрю, ан нос в руке!
Глумов. Ах, черт побери!
Балалайкин. К счастью, я сейчас же нашелся: взял тепленького тюленьего
маслица, помазал, приставил – и вот, как видите. (Предлагает всем
освидетельствовать свой нос, но Рассказчик затыкает ему рот салфеткой.)
Глумов. Балалайкин! Послушай, брат, но не лги, а отвечай прямо: ты
женат?
Балалайкин (после паузы, пьяным, увядшим голосом). Женат. Восемь
дочерей имею: Анна, Антонина, Аграфена, Анастасия, Аглая, Арина, Александра... Аида – младшенькая. Ну и что?!
Глумов. А как ты насчет двоеженства полагаешь?
Балалайкин. Вообще говоря – могу! Но это, разумеется, зависит...
Глумов. Давай же кончать. В два слова... тысячу рублей?
Балалайкин (встрепенувшись). Голубчики! Да ведь вы... по парамоновскому
делу? Помилуйте! Мне Онуфрий Петрович Парамонов в присутствии Ивана
Тимофеевича без всякого разговора уже три тысячи надавал!
Рассказчик. То была цена, а теперь другая. В то время охотников мало
было, а теперь ими хоть пруд пруди. И все охотники холостые, беспрепятственные. Только нам непременно хочется, чтоб двоеженство было. На
роман похожее.
Балалайкин. Меньше двух тысяч нельзя! Помилуйте, господа! Тысяча
рублей! Разве это деньги? А моральное беспокойство? А трата времени! А
репутация! Человека, который за тысячу рублей... Тысяча! Смешно, право! Ведь





