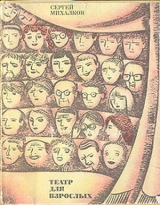
Текст книги "Театр для взрослых"
Автор книги: Сергей Михалков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 36 страниц)
пройдет.
Глумов. Да не об этом мы думать должны! Подвиг мы на себя приняли – ну,
и должны этот подвиг выполнить. Вот я, к примеру, знаю только то, что мы
кофей с калачом пьем, да и тебе только это знать советую!
Рассказчик. И то правда. Извини, брат. Какое мне дело до того, кто муку
производит...
Глумов заерзал.
...как производит и прочее. Я ем калачи – и больше ничего! Теперь хоть
озолоти меня, я в другой раз этакой глупости не скажу!
Глумов. И прекрасно сделаешь... А сейчас... Кофей попил?
Рассказчик. Попил.
Глумов. Калачи поел?
Рассказчик. Поел.
Глумов. Займись-ка. Папироски набивай. (Передает приятелю картуз с
табаком и гильзы.)
Вместе (поют).
Красавица! Подожди!
Белы ручки подожми!
Затемнение
СЦЕНА ТРЕТЬЯ
Обстановка та же. Глубокая ночь или раннее утро. В
халате потихоньку входит Рассказчик, садится в кресло.
Следом за ним входит и Глумов.
Глумов. Ты? Не спишь?
Рассказчик. Не сплю. А ты?
Глумов. И я не сплю.
Рассказчик. Рано залегли. Бывало, мы до двух ночи словесную канитель
затягивали, а нынче залегли с девяти, точно к ранней обедне собрались.
Глумов. Зажечь свечу?
Рассказчик. Погоди, может быть, все-таки уснем.
Приятели уставились друг на друга и вдруг начали
хохотать. Хохочут долго, до слез.
Глумов (все еще смеясь). Есть хочешь?
Рассказчик. Хочу.
Глумов. Я на всякий случай в буфете два куска ветчины припас.
Рассказчик. Давай!
Шлепая туфлями, Глумов выходит.
(Прислушивается к шагам Глумова.) Вот он в кабинет вошел, вот вступил в
переднюю, вот поворотил в столовую... В буфет полез... Тарелки стукнули...
Идет назад! Когда человек решится годить, то все для него интересно: способность к наблюдению изощряется почти до ясновидения, а мысли приходят
во множестве.
Глумов вносит поднос с едой и зажженную свечу.
Глумов. Вот ветчина, а вот водка. Закусим!
Рассказчик. Гм... ветчина! Хорошо ветчиной на ночь закусить – спаться
лучше будет. (После того как выпили и закусили.) А ты, Глумов, думал ли
когда-нибудь об том, как эта самая ветчина ветчиной делается?
Глумов стучит ложечкой.
Что, опять?
Глумов. Опять.
Рассказчик. Ну немножко... Ну совсем немножко. Ну скажи, как эта
ветчина ветчиной делается?
Глумов. Ну, была прежде свинья, потом ее зарезали, рассортировали,
окорока посолили, провесили – вот и ветчина сделалась.
Рассказчик. Да нет, нет! А вот кому эта свинья принадлежала? Кто ее
выходил, выкормил? И почему он с ней расстался, а теперь мы, которые ничего
не выкармливали, окорока этой свиньи едим...
Глумов. И празднословием занимаемся... Будет! Сказано тебе погодить -
ну и годи! Все! Гожу один!
Рассказчик. Глумов! Мы же одни... Ночь...
Глумов. Пойми ты! Если ты теперь сдерживать себя не будешь, то и в
другое время язык обуздать не сумеешь. Выдержка нам нужна, воспитание! На
каждом шагу мы послабление себе готовы делать! Прямо на улице, пожалуй, не
посмеем высказаться, а чуть зашли за угол – и распустили язык. Понятно, что
начальство за это и претендует на нас. А ты так умей овладеть, что, ежели
сказано тебе: "Погоди!", так ты годи везде, на всяком месте, да от всего
сердца, да со всею готовностью! Даже когда один, без меня, с самим собой
находишься – и тогда годи! Только тогда и почувствуется у тебя настоящая
культурная выдержка!
Рассказчик встал, подошел к столу, взял чашку и с
ожесточением швырнул ее на пол. Звякнули осколки.
Рассказчик. Все! (И вдруг неожиданно запел.)
Красавица! Подожди!
Белы ручки подожми!
Глумов. Вот именно. (Подхватывает песню.)
Оба поют и даже начинают отплясывать какой-то танец.
Затемнение
СЦЕНА ЧЕТВЕРТАЯ
Обстановка та же. Глумов и Рассказчик сидят, откинувшись
в креслах, после сытного обеда. Глумов наигрывает на
гитаре.
Рассказчик. Да... Признаюсь, давненько я таких обедов, как у тебя, не
едал. Глумов! Ты где такую говядину покупаешь?
Глумов. Ты опять?
Рассказчик. Да нет, Глумов! Я спрашиваю: где ты такую говядину
покупаешь?
Глумов. На Круглом рынке.
Рассказчик. А я – в первой попавшейся лавчонке "на углу". А ведь
положительно есть разница!
Глумов. Еще бы!
Погрузились в молчание.
Рассказчик. Глумов, а рыбу ты где берешь?
Глумов. На Мытном дворе.
Рассказчик. А я – в Чернышевой переулке. Чего ж ты прежде не сказывал?
Глумов. А ты не спрашивал.
Рассказчик. Ты сообрази, друг, ведь по этому расчету выходит, что я по
малой мере каждый день полтину на ветер бросаю! А сколько полтин-то в год
выйдет?
Глумов. Выйдет триста шестьдесят пять полтин, то есть сто восемьдесят
два рубля пятьдесят копеек.
Рассказчик. Пойдем дальше. Прошло с лишком двадцать лет, как я вышел из
школы, и все это время с очень небольшими перерывами я живу полным
хозяйством. Если б я все эти полтины собрал, сколько у меня теперь денег-то
было?
Глумов (подсчитал в уме). Тысячу восемьсот двадцать пять помножить на
два – выйдет три тысячи шестьсот пятьдесят рублей...
Рассказчик. Это ежели без процентов считать.
Глумов. Да, брат, обмишулился ты! (Пауза. Наигрывает на гитаре.)
Рассказчик погружен в раздумья о безвозвратно потерянных
полтинах.
(Неожиданно нарушив молчание.) Хочу я тебя с одной особой познакомить.
Рассказчик. С какой особой?
Глумов. Особа примечательная... Дипломат полицейский... Ходит здесь
вынюхивает, высматривает. Шел я однажды по двору нашего дома и услышал, как
он расспрашивает у дворника: "Скоро ли в четвертом нумере революция буде?"
Пусть докладывает, что видит. Чтоб все ему про нас известно было.
(Выжидательно посмотрел на Рассказчика.) Да вот боюсь, не рано ли...
Рассказчик. Кому докладывал? Зачем это, Глумов?
Глумов. Надо... Да, пожалуй, не рано... Пусть наша жизнь на его глазах
протекает. И в карты нам компанию составит.
Рассказчик. А может, не надо его, а, Глумов?
Глумов. Надо.
Рассказчик. А как его зовут?
Глумов. Кого?
Рассказчик. Ну, особу эту.
Глумов. Кшепшицюльский.
Рассказчик. Откуда фамилия такая?
Глумов. Да не знаю его фамилии. Прозвал его случайно Кшепшицюльским, и,
к удивлению, он сразу начал откликаться. (Пауза. Напевает романс.)
Не то чтобы мне весело,
Не то чтоб грустно мне,
Одну я песнь заветную
Пою всегда себе.
Пригрей меня ты, крошечка,
Согрей меня душой,
Развесели немножечко,
Дай отдохнуть с тобой.
Дай позабыть мне прошлое.
Что отравило жизнь,
Хочу в твоих объятиях
Я счастье ощутить.
Теперь я снова счастлив,
Теперь я жить хочу.
И то, что было прошлого,
Забвенью предаю*.
______________
* Слова Губкиной. Музыка Гончарова.
Рассказчик. А верно ты говорил, Глумов: нужно только в первое время на
себя подналечь, а остальное придет само собою.
Глумов. Нет, вот я завтра окорочек велю запечь, да тепленький...
тепленький на стол-то его подадим! Вот и увидим, что ты тогда запоешь!
Рассказчик (впадая в прострацию). Тепленький... окорочек. Это в своем
роде сюжет...
Глумов (почти засыпая). Это ты верно изволил заметить... сюжет!
Рассказчик. Господи! А хорошо-то как!
Глумов (сквозь сон). Ой хорошо.
Рассказчик. Ой хорошо.
Глумов. Ой... (И захрапел.)
Рассказчик (в зал). Сомкнув усталые вежды, мы предавались внутренним
созерцаниям и изредка потихоньку вздрагивали. Исключительно преданные
телесным заботам, мы в короткий срок настолько дисциплинировали наши
естества, что чувствовали позыв только к насыщению. Только к насыщению. Ни
науки, ни искусства не интересовали нас. Мы не следили ни за открытиями, ни
за изобретениями, не заглядывали в книги. Даже чтение газетных строчек
сделалось для нас тягостным... Мы уже не "годили", а просто-напросто
"превратились". Даже Молчалин, когда навестил нас, нашел, что мы все его
ожидания превзошли. В согласность с этой жизненной практикой выработалась у
нас и наружность. Мы смотрели тупо и невнятно, не могли произнести сряду
несколько слов, чтобы не впасть в одышку, топырили губы и как-то нелепо
шевелили ими, точно собираясь сосать собственный язык. Даже неизвестный
прохожий, завидевши нас, сказал: "Вот идут две идеально-благонамеренные
скотины!"
Глумов (издав стон, открывает глаза). Что? А?.. А ведь я, брат, чуть
было не заснул.
Рассказчик. Да?
Глумов. Чайку бы выпить!
Рассказчик (вяло). Можно и чайку...
Глумов. С вареньем или без варенья?
Рассказчик. Без варенья...
Глумов. С каким без варенья?..
Рассказчик. С вишневым... без варенья...
Глумов хлопает в ладоши. Входит лакей.
Глумов (лакею). Чаю. С вишневым. Без варенья.
Лакей, оторопев от столь странного заказа, обалдело
смотрит на господ.
Затемнение
КАРТИНА ВТОРАЯ
Рассказчик (в зал). Вскоре Глумов познакомил меня с этим, с
Кшепшицюльским. Он стал бывать у нас каждый день, каждый вечер, только спать
уходил в квартал. Эта особа была для нас большим ресурсом. Он составил нам
компанию в карты и к тому же являлся порукой, что мы можем без страха
глядеть в глаза будущему до тех пор, покуда наша жизнь будет протекать у
него на глазах.
За ломберным столом, при свечах, играют в карты Глумов,
Рассказчик и Кшепшицюльский, человек неопределенного
вида, в подержанном фраке, в отрепанных клетчатых
штанах, в коленкоровой манишке, которая горбом выбилась
из жилета. Он то и дело подносит карты к губам, над
которыми торчат щетки рыжих усов. Явно передергивает
карту. Рассказчик, не выдержав жульничества
Кшепшицюльского, встал, отошел в сторону.
Глумов (Рассказчику). Сядь!
Пауза.
Сядь, говорю!
Кшепшицюльский (многозначительно). А як вы, Панове, думаете: бог е?
Глумов. Тебе-то какое дело? Сдавай!
Кшепшицюльский. Все же ж! Я, например, полагаю, что зовсим его ниц.
(Поднес карты к губам, почесал в усах, моментально передернул карту.)
Глумов. А ты, молодец, когда карты сдаешь, к усам-то их не подноси!
Кшепшицюльский. Чтобы для вас удовольствие сделать, я же готов хотя
пятьнадцать раз зряду сдавать – и все то же самое буде! (Сдает карты вновь, открывает свои.) Десять без козырей! От то игра!
Рассказчик берет канделябр, замахивается на
Кшепшицюльского. Глумов его останавливает.
Глумов (прервав игру, которая складывается благоприятно для
Кшепшицюльского). Закусим?
Кшепшицюльский. Именно ж! Потому, звиже так уже сделано есть, что,
ежели человек необразован, он працювать объязан, а ежели человек образован, он имеет гулять и кутать! Иначе ж революция буде!
Все трое подходят к небольшому столику, на котором стоит
еда и графин с водкой.
Рассказчик. А что, брат Кшепшицюльский, ты в суде часто бываешь?
Кшепшицюльский. А як же ж не часто? Какой же ж суд без меня?
Рассказчик (выпив рюмку). Ну и что там? Как там? Коли по правде
сказать, то наступит же когда-нибудь время...
Кшепшицюльский насторожился.
Глумов (поспешно перебивая, как бы заканчивает мысль). ...когда в суде
буфет будет...
Кшепшицюльский. А-а... Теперь в суде буфет е!
Глумов. Правда? Это хорошо брат, когда в суде буфет... Водки рюмку
выпить можно, котлетку скушать, бифштекс подадут. (Толкая плечом
Рассказчика.) Верно, брат?
Рассказчик. И правосудие получить, и водки напиться – все можно!
Удивительно! Просто удивительно!
Кшепшицюльский (неожиданно). Иван Тимофеевич до вас интерес имеет.
Рассказчик. Кто?
Кшепшицюльский. Иван Тимофеевич.
Глумов (вздрогнув). Иван Тимофеевич! Квартальный наш? Ты не ошибся? Тот
самый?
Кшепшицюльский. Тот, тот... благодетель наш.
Рассказчик. Неужто сам... имеет?
Кшепшицюльский. Надысь устретил меня: "Як дела в квартале? Скоро ли
революция на Литейной имеет быть?"
Глумов. Ну, а ты, ты что?
Кшепшицюльский. Я-то говору: "Тихо. Пока".
Рассказчик. А он, что он?
Кшепшицюльский. "А ты не врешь?" – говорит.
Рассказчик. Так и сказал?
Глумов (почти вздохнул). Не верит...
Рассказчик (в отчаянии). Не верит! Не верит! (В зал.) Либералы мы.
Ведрышко на дворе – мы радуемся, дождичек на дворе – мы и в нем милость
божью усматриваем... Радуемся, надеемся, торжествуем, славословим – и день и
ночь! И дома, и в гостях, и в трактирах, и словесно, и печатно – только и
слов: слава богу, дожили! Ну и нагнали своими радостями страху на весь
квартал! (Кшепшицюльскому.) Ну, а ты, друг, что ты-то ему сказал?
Кшепшицюльский. Да нет же ж, говору, зачем мне врать, мы же всякий
вечер с ними в сибирку играем. Зачем врать?
Глумов. Так! Поберегай, братец, нас! Поберегай! Спасибо тебе...
Рассказчик. Ну, и что он, поверил? Как ты об этом понимаешь?
Кшепшицюльский. Он так головкой покачал. (Показывает.)
Глумов. Как? Так? (Тоже показывает.)
Кшепшицюльский. Да нет же ж... так... (Показывает.)
Рассказчик. Так? (Показывает.)
Все показывают по-разному, обдумывают этот жест и не
замечают, что Иван Тимофеевич сам, собственной персоной,
уже здесь, в комнате.
Кшепшицюльский. Да нет... И еще он сказал...
Глумов. Что?
Кшепшицюльский. "Я еще, может, их самулично навещу", – говорит... (Не
закончив фразу, увидел Ивана Тимофеевича.) Прошу бардзо.
Глумов (он опомнился первым). Иван Тимофеевич... ваше благородие... вы?
Рассказчик. Иван Тимофеевич! Господи...
Иван Тимофеевич. Самолично. А что? Заждались?.. Ха-ха! (Благодушно
смеется, пожимает им руки.) Будьте здоровы, господа! (Осматривается. Вдруг
лицо его омрачилось: где-то в дальнем углу он заприметил книгу.)
Рассказчик (поспешно перехватив взгляд). Нет, Иван Тимофеевич, нет! Это
"Всеобщий календарь"! (Подбежав, принес календарь, сует Ивану Тимофеевичу.) Иван Тимофеевич (берет книгу, внимательно разглядывает). А... да? А я,
признаться, книгу было заподозрил.
Глумов. Нет, Иван Тимофеевич, мы уж давно... Давно уж у нас насчет
этого...
Иван Тимофеевич. И прекрасно делаете. Книги – что в них! Был бы человек
здоров да жил бы в свое удовольствие – чего лучше! Безграмотные-то и никогда
книг не читают, а разве не живут?
Рассказчик. Да еще как живут-то! А которые случайно выучатся, сейчас же
под суд попадают!
Иван Тимофеевич (благосклонно). Ну, не все! Бывают, которые с умом
читают.
Глумов. Все! Все! Ежели не в качестве обвиняемых, так в качестве
свидетелей! Помилуйте! Разве сладко свидетелем-то быть?
Иван Тимофеевич. Какая уж тут сладость! Первое дело – за сто верст
киселя есть, а второе – как еще свидетельствовать будешь! Иной раз так об
себе засвидетельствуешь, что и домой потом не попадешь... ахти-ихти, грехи
наши, грехи! (Помолчав, пристально оглядел обоих.) Хорошенькая у вас
квартирка... очень, очень даже удобненькая. Вместе, что ли, живете?
Глумов и Рассказчик. Вместе. (Вдруг поняв.) Что вы!
Иван Тимофеевич. Грехи наши тяжкие... Садитесь, господа. Ну-тка скажите
мне – вы люди умные! Завелась нынче эта пакость везде... всем мало, всем
хочется... Ну чего? Скажите на милость: чего?
Рассказчик приложил руку к сердцу, хотел ответить, что
ничего не хочется, но Иван Тимофеевич жестом остановил
его.
Право, иной раз думаешь-думаешь: ну чего? И то переберешь, и другое
припомнишь – все у нас есть? Ну, вы – умные люди! Так ли я говорю?
Рассказчик. Как перед богом, так и...
Иван Тимофеевич (снова его останавливает). Хорошо. А начальство между
тем беспокоится. Туда-сюда – везде мерзость! Даже тайные советники и те
нынче под сумнением состоят.
Глумов. Ай-яй-яй...
Иван Тимофеевич (вдруг). Ах и хитрые же вы, господа! Право, хитрые!
(Улыбнулся и погрозил пальцем.) Наняли квартирку, сидят по углам, ни сами в
гости не ходят, ни к себе не принимают – и думают, что так-таки никто их и
не отгадает! Ах-ах-ах!
Все немножко похихикали.
Глумов. Но мы надеемся, что последние наши усилия будут приняты
начальством во внимание...
Рассказчик... И хотя до некоторой степени послужат искуплением тех
заблуждений, в которые мы могли быть вовлечены отчасти по неразумению...
Глумов. А отчасти и вследствие дурных примеров.
Иван Тимофеевич (не отвечая, после паузы). Заболтался я с вами, друзья!
Прощайте.
Рассказчик. Иван Тимофеевич! Куда же так скоро? А винца?
Иван Тимофеевич. Винца – это после, на свободе когда-нибудь! Вот от
водки и сию минуту не откажусь!
Глумов. Чем закусить желаете?
Иван Тимофеевич. Кусок черного хлеба с солью – больше ничего.
Рассказчик и Глумов бегом бросились за угощением,
выносят поднос с водкой и закуской. Иван Тимофеевич
опрокинул в рот рюмку водки, понюхал корочку хлеба,
крякнул. Приятели в умилении наблюдают над действиями
дорогого гостя.
Благодарствую. (Поднялся, собираясь уходить.) Да! Чуть было не забыл! Шел
мимо, дай, думаю, зайду проведаю, домой к себе в квартал на чашку чая
приглашу. Так что милости просим завтра ко мне пожаловать. Танцы, музыка и
все такое прочее...
Глумов. Сочтем за великую честь.
Иван Тимофеевич. Будем рады! Прощайте! (Кивнул Кшепшицюльскому.)
Проводи! (Уходит, за ним Кшепшицюльский.)
Глумов и Рассказчик в оцепенении смотрят друг на друга.
Глумов. Вот это да...
Рассказчик. Что делать-то, Глумов?
Глумов. Что и прежде – годить, да еще в большую меру годить пора
настала. А завтра – в квартал, на чашку чая.
Рассказчик. Устал я, Глумов.
Глумов. Что?
Рассказчик. Устал, говорю.
Глумов. Устал? А я, думаешь, не устал? Ничего, брат. Ничего... (Зовет.)
Кшепшицюльский!
Кшепшицюльский возвращается.
А в чем идти? Во фраке? В сюртуке?
Рассказчик. А что делать заставят? Плясать русскую или петь "Вниз по
матушке по Волге..."? Я ведь не пою.
Глумов. Может, просто поставят штоф водки и скажут: "Пейте, благонамеренные люди!"
Кшепшицюльский. Вудка буде непременно. Петь вас, може, и не заставят...
Рассказчик. А что заставят?
Кшепшицюльский (наслаждаясь паузой). Философский разговор заведут.
Глумов. Философический?
Кшепшицюльский. Философический. А после, може, и танцевать прикажут, бо
у Ивана Тимофеевича дочка есть... от то слична девица! Мысли испытывать
будут. (Выпивает рюмку водки.) Дзякую бардзо. (Идет, останавливается.) Приглашение такого лица вам большую честь делает... До видзення... (Ушел.) Пауза.
Глумов. А ведь Иван Тимофеевич нас в полицейские дипломаты прочит...
Рассказчик. А может, как чадолюбивый отец, хочет одному из нас
предложить руку и сердце своей дочери?
Глумов. А что? Ежели смотреть на этот брак с точки зрения
самосохранения...
Рассказчик. Глумов! Голубчик! Ты что?! Ты что?!
Глумов. Ну, а ежели он места сыщиков предлагать будет?
Рассказчик. Но почему же ты это думаешь?
Глумов. Я не думаю, а во-первых, предусматривать никогда не лишнее. И,
во-вторых, Кшепшицюльский на днях жаловался: непрочен, говорит, я.
Рассказчик (решительно). Воля твоя, а я в таком случае притворюсь
больным!
Глумов. И это не резон, потому что век больным быть нельзя. Не поверят,
доктора освидетельствовать пришлют – хуже будет. Слушай! Говори ты мне
решительно: ежели он нас поодиночке будет склонять, ты как ответишь?
Рассказчик. Глумов, голубчик, не будем об этом говорить!
Глумов. Нет, брат, надо внутренне к этой чашке чая подготовиться... С
мыслями собраться сообразно желаемого результата.
Рассказчик. На чашку чая... в квартал...
Глумов. Мысли испытывать будут... Ох!
Затемнение
КАРТИНА ТРЕТЬЯ
Рассказчик (в зал). Мы почти не спали и думали только о предстоящем
визите к Ивану Тимофеевичу, долго и тревожно беседовали об чашке чая...
Наконец настал этот вечер, и мы отправились в квартал, где были приняты
самим Иваном Тимофеевичем.
Гостиная в доме Ивана Тимофеевича. Званый вечер в
разгаре. Полицейские в форме браво отплясывают с дамами
кадриль. Иван Тимофеевич вводит Глумова и Рассказчика.
Танцующие удаляются. Из залы слышатся звуки кадрили.
Иван Тимофеевич. Проходите, господа, милости просим. Мы уж тут
давненько веселимся... Музыка, танцы и все такое прочее... Прошу садиться, господа.
Глумов и Рассказчик усаживаются. В гостиную заглядывает
Кшепшицюльский.
Притвори-ка, братец, дверь с той стороны! Мы же тут не танцуем! Постой! Вели
там на стол накрывать! Балычка! Сижка копченого! Белорыбицу-то, белорыбицу-то вели нарезать! А мы пока здесь просидим, подождем...
Кшепшицюльский исчезает, прикрыв за собой дверь.
Ни днем, ни ночью минуты покою нет никогда! Сравните теперича, как прежде
квартальный жил и как он нынче живет! Прежде одна у нас и была болячка -
пожары! А нынче! (Подходит к двери, приоткрывает.)
Там, прилепившись к щелке, подслушивает Кшепшицюльский.
Старается! Водки не забудь! (Плотно прикрыл дверь.)
Пауза.
Да. Так о чем я говорил?
Глумов. Трудновато вам!
Иван Тимофеевич. Да... Вы мне скажите: знаете ли вы, например, что
такое внутренняя политика? Ну?
Приятели в растерянности молчат.
Так вот эта самая внутренняя политика вся теперь на наших плечах лежит!
Рассказчик. Неужели?
Иван Тимофеевич. На нас да на городовых. А на днях у нас в квартале
такой случай был. Приходит в третьем часу ночи один человек – и прежде он у
меня на замечании был. "Вяжите, говорит, меня, я образ правленья переменить
хочу!" Ну, натурально, сейчас ему, рабу божьему, руки к лопаткам, черкнули
куда следует: так, мол, и так, злоумышленник проявился... Только съезжается
на другой день целая комиссия, призвали его, спрашивают: как? почему? кто
сообщники? А он – как бы вы думали, что он, шельма, ответил? "Да, говорит, действительно я желаю переменить правленье... Рыбинско-Бологовской железной
дороги!"
Глумов. Однако ж! Насмешка какая!
Иван Тимофеевич. Да-с. Захотел посмеяться и посмеялся. В три часа ночи
меня для него разбудили, да часа с два после этого я во все места отношения
да рапорты писал. А после того только что было сон заводить начал, опять
разбудили: в доме терпимости демонстрация случилась! А потом извозчик нос
себе отморозил – оттирали, а потом, смотрю, пора и с рапортом. Так вся ночка
и прошла. А с нас, между прочим, спрашивают, почему, да как, да отчего, да
по всякому поводу своевременно распоряжения не было.
Глумов. И это прошло ему... безнаказанно?
Иван Тимофеевич. Злоумышленнику-то? А что с ним сделаешь? Дал ему две
оплеухи да после сам же на мировую должен был на полштоф подарить!
Глумов. Да-а...
Рассказчик. Ай-я-ай...
Иван Тимофеевич. Так вот вы и судите! Ну, да, положим, это человек
пьяненький, а на пьяницу, по правде сказать, и смотреть строго нельзя, потому он доход казне приносит. А вот другие-то, трезвые-то, с чего на стену
лезут? Ну чего надо? А? (Последние слова Иван Тимофеевич почти выкрикнул. В
голосе его прозвучала угроза.)
И приятели, настроившись было уже на мирную беседу, в
испуге вскочили: в этот момент в зале кто-то сел за
рояль и зычный голос запел:
"Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Разделяет Русь на карте
Указательным перстом!"
Иван Тимофеевич. Садитесь, господа!
Глумов. Кто это?
Иван Тимофеевич. Брандмейстер наш, Молодкин.
Глумов. Господину Молодкину в соборе дьяконом быть, а не
брандмейстером.
Иван Тимофеевич. Да вот стал брандмейстером! Во время пожара младенцем
в корзине был найден. На пожаре, говорит он теперь, я свет увидел, на пожаре
и жизнь кончу. И вообще, говорит, склонности ни к чему, кроме пожаров, не
имею. А голос есть, это действительно.
Рассказчик. Брандмейстеру, друг, такой голос тоже ой как нужен! И поет
хорошо.
Глумов. Прекрасный романс! Века пройдут, а он не устареет!
Иван Тимофеевич. Хорошо-то оно хорошо, слов нет, а по-моему, наше
простое молодецкое "ура" – за веру, царя и отечество – куда лучше! Уж так я
эту музыку люблю, так люблю, что слаще ее, кажется, и на свете-то нет!
(Подходит к двери, открывает ее и приглашает стоящих наготове в дверях
Прудентова и Молодкина.) Прошу, господа.
Прудентов и Молодкин входят.
Знакомьтесь, господа.
Молодкин. Молодкин, брандмейстер.
Глумов и Рассказчик аплодируют.
Прудентов. Прудентов, письмоводитель.
Иван Тимофеевич. Садитесь, господа. (Делает знак Прудентову начинать.)
Пауза.
Прудентов (словно демонстрируя продолжение разговора). Да... А я
все-таки говорю, что подлино душа человеческая бессмертна!
Молодкин (возражает явно для формы). Никакой я души не видал... А чего
не видал, того не знаю!
Прудентов. А я хоть и не видал, но знаю. Не в том штука, чтобы видючи
знать – это всякий может, – а в том, чтобы и невидимое за видимое твердо
содержать!
Молодкин. Как же это: не видючи знать?
Прудентов. А вот так! (Как бы между прочим обращаясь к Рассказчику и
Глумову.) Вы, господа, каких об этом предмете мнений придерживаетесь?
Рассказчик (оробев). Я?
Прудентов. А хотя бы и вы.
Рассказчик (растерянно). Мда... Душа... бессмертие...
Глумов (поспешил на выручку приятелю). Для того чтобы решить этот
вопрос совершенно правильно, необходимо прежде всего обратиться к
источникам. А именно: ежели имеется в виду статья закона или хотя
начальственное предписание, коим разрешается считать душу бессмертною, то
всеконечно сообразно с ним надлежит и поступать; но ежели ни в законах, ни в
предписаниях прямых в этом смысле указаний не имеется, то, по моему мнению, следует ожидать дальнейших по сему предмету распоряжений.
Рассказчик. Вот так!
Иван Тимофеевич. Следует ожидать...
Глумов. Дальнейших по сему предмету распоряжений.
Иван Тимофеевич (потрепал Глумова по плечу). Ловко, брат. Ловко.
(Прудентову.) Продолжайте.
Прудентов. Ну-с, прекрасно! А теперь я желал бы знать ваше мнение еще
по одному предмету: какую из двух ныне действующих систем образования вы
считаете для юношества наиболее полезною и с обстоятельствами настоящего
времени сходственною?
Молодкин (поясняя). То есть классическую или реальную?
Прудентов. Да!
Рассказчик. Я?
Молодкин. Да.
Рассказчик. Мы как-то... Классическая... она... реальная.
Глумов (снова нашелся). Откровенно признаюсь вам, господа, что мы даже
не понимаем вашего вопроса.
Рассказчик. Да!
Глумов. Никаких я двух систем образования не знаю, а знаю только одну.
И эта одна система может быть выражена в следующих словах: не обременяя
юношей излишними знаниями, всемерно внушать им, что назначение обывателей в
том состоит, чтобы беспрекословно и со всею готовностью выполнять
начальственные предписания! Если предписания сии будут классические, то и
исполнение должно быть классическое, а если предписания будут реальные, то и
исполнение должно быть реальное. Вот и все. Затем никаких других систем – ни
классических, ни реальных – мы не признаем!
Рассказчик (победно). Не признаем!
Иван Тимофеевич (торжественно, почти шепотом). Браво! Превосходно!
Теперича, если бы сам господин частный пристав спросил у меня: "Иван
Тимофеев! Какие в здешнем квартале имеются обыватели, на которых в случае
чего положиться было бы можно?" – я бы его высокородию, как перед богом на
Страшном суде, ответил: вот они!
Глумов и Рассказчик с видом оперных премьеров
раскланиваются во все стороны.
(Подняв руку, что означает, что он еще не кончил.) Я каждый день буду бога
молить, чтоб и все прочие обыватели у меня такие же благонамеренные были!
Прудентов. Браво!
Молодкин. Браво, господа!
Все аплодируют. Входит Полина, дочь Ивана Тимофеевича.
Полина (приближаясь к Рассказчику, бойко). Я с вами хочу кадриль
танцевать.
Рассказчик. Со мной?
Полина. Да.
Глумов (Рассказчику, шепотом). Поздравляю.
Полина (Молодкину). А вы нам будете играть!
Молодкин. С пребольшим удовольствием.
Все направляются в залу, но Иван Тимофеевич задерживает
Рассказчика и Глумова.
Иван Тимофеевич (всем остальным). Вы идите. Мы сейчас. (Когда все ушли,
обращается к Рассказчику и Глумову.) А теперь, господа, когда все для вас
так благополучно разрешилось, можете ли вы своему начальнику удовольствие
сделать?
Глумов. Иван Тимофеевич, да мы, как перед богом...
Рассказчик. Да мы вам всем сердцем...
Иван Тимофеевич. Да верю, верю... О прошлом и речи нет – все забыто! А
знаете ли вы, что если б еще немножко... еще бы вот чуточку... Шабаш! Точка!
Глумов. Иван Тимофеевич, да неужто же вы могли...
Иван Тимофеевич. Теперь – все. Понял я вас теперь, даже очень хорошо
понял. И говорю: пардон!
Рассказчик и Глумов (вместе). Пардон?
Иван Тимофеевич. Пардон – общий! Будьте без сумненья! Пардон! Так тому
и быть! (Обняв приятелей за плечи, ласково начинает.) Надо бы мне с вами
обстоятельно об этом деле поговорить... Интересное дельце, а для меня так и
очень даже важное...
Глумов. Какое же дельце?
Рассказчик. Какое? Сделайте милость!
Глумов. Прикажите!
Иван Тимофеевич. А дельце-то вот какое. Есть тут у меня... в
квартале...
На дворе начинают бить пожарную тревогу. В дверях
появился сияющий, торжествующий Молодкин.
Молодкин (с видом радушного хозяина). Господа! Милости просим на пожар!
Затемнение
АКТ ВТОРОЙ
КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ
Рассказчик (в зал). Эта зима как-то необыкновенно нам удалась. Рауты,
пожары и званые вечера следовали один за другим, нередко бывали именинные
пироги и замечательно большое число крестин, так как жены городовых
поминутно рожали. Мы веселились, не ограничиваясь одним своим кварталом, но
принимали участие в веселостях всех частей и всех кварталов. Эта рассеянная
жизнь имела для нас с Глумовым ту выгоду, что мы значительно ободрились и
побойчели. Мы сделались своими людьми в квартале и даже участвовали в
занятиях разных комиссий. Но прерванного пожаром разговора Иван Тимофеевич
так с нами и не затевал.
Квартал. Кабинет Ивана Тимофеевича. Иван Тимофеевич,
Прудентов и Молодкин заняты разработкой какого-то
документа, они склонились над письменным столом,
демонстрируя свои важные занятия. Здесь же Рассказчик и
Глумов.
Иван Тимофеевич. Третий день бьемся, бьемся, ничего не получается!
Прудентов. Иван Тимофеевич!
Рассказчик нетерпеливо прохаживается по кабинету,
насвистывает.
Иван Тимофеевич. Терпение, господа!
Рассказчик. Извините!
Иван Тимофеевич. Написали довольно, только, признаться, не очень-то
нравится мне!
Прудентов. Помилуйте, Иван Тимофеевич, чего лучше!
Иван Тимофеевич. Порядку, братец, нет. Мысли хорошие, да вразбивку они.
Вот я давеча газету читал, так там все чередом сказано. (Берет газету.) Ну-ка... Вот: "...с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой – надо
признаться..." Вот это хорошо! Как вы полагаете, господа?
Рассказчик. А можно полюбопытствовать, в чем состоит предмет занятий
комиссии?
Иван Тимофеевич. Благопристойность вводить хотят, устав теперича писать
нужно... Это, конечно... много нынче этого невежества завелось, в
особенности на улицах... Одни – направо, другие – налево, одни – идут, другие – неведомо зачем на месте стоят... Не сообразишь. Ну, и хотят это
урегулировать...
Глумов. Чтобы, значит, ежели налево идти, так все бы налево шли, а
ежели останавливаться, так всем чтобы разом?
Иван Тимофеевич. То, да не то. В сущности-то оно, конечно, так, да как
ты прямо-то это выскажешь? Перед иностранцами нехорошо будет – обстановочку
надо придумать. Кругленько эту мысль выразить. Чтобы принуждения заметно не
было. Чтобы, значит, без приказов, а так, будто всякий сам от себя
благопристойность соблюдает.
Пауза.
Рассказчик. Трудная это задача.
Иван Тимофеевич. Пера у нас вольного нет. Уж, кажется, на что знакомый
предмет – всю жизнь благопристойностью занимался, – а пришлось эту самую
благопристойность на бумагу изобразить – шабаш.
Глумов. Да вы как к предмету-то приступили? Исторический-то обзор,





