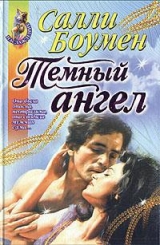
Текст книги "Темный ангел"
Автор книги: Салли Боумен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 53 страниц)
– Третий.
– Natürlich. Я предполагаю, что будет пять или шесть вариантов. Тогда я отшлифую лучший.
– Ты успеешь все забыть.
– Кое-что – да, но не все.
– Ты меня дразнишь…
– Почему бы и нет? Ты тоже меня поддразниваешь.
– Ты очень странная личность, и я очень люблю тебя. Хотя есть кое-что…
– Да?
– Позволяют ли твои столь странные и неуклонные правила мне посещать тебя здесь? Сможешь ли ты поберечь мою репутацию, если мы будем вести себя очень скрытно? Как ты думаешь, удастся ли мне тайно проскальзывать к тебе и выбираться обратно?
– Я бы умер, если бы ты не смогла, – сказал Френк.
2
– За 1959-й! За очень особый год! – сказала Роза и, храня верность себе, кинулась целовать всех членов своей семьи: Френка, меня, беспрерывно продолжая разговаривать, после чего, остановившись, расплакалась.
Говоря об особом годе, она смотрела на Френка и на меня, а затем – поскольку Роза не умела намекать легко и изящно, а предпочитала увесистые намеки, – она увлекла меня в сторону и сказала:
– Посмотри на Френка.
В эту минуту Френк был занят своими племянниками и племянницами, поскольку Роза уже успела к тому времени несколько раз стать бабушкой, и новому поколению Джерардов было позволено остаться у бабушки и вместе встречать Новый год. В центре заставленной вещами комнаты Розы они были заняты возведением башни из кубиков – нет, не просто башни, а Тадж-Махала. Френк, помогая строительству, стоял на коленях, демонстрируя знание законов физики, поскольку возводил мостик. Он вел себя с тактом и пониманием по отношению к малышам, поскольку клал кубики не сам, а позволял хвататься за них маленьким ручонкам. Время от времени он делал тактичные, но толковые указания, как положить очередной кубик, чтобы не свалить всю конструкцию; случалось, он ошибался и покорно принимал всеобщее осуждение. Четырехлетки и пятилетки терпеливо объясняли ему, почему сюда нельзя класть очередной кубик: Френк покорно принимал их указания.
Роза сказала:
– Ты видишь, как он хорошо играет с ними! – На этом Роза, конечно, не остановилась. Она поведала мне во всех подробностях, каким хорошим отцом должен стать Френк.
Я понимала, что она права. Я тоже так считала, хотя Роза до конца так и не понимала своего приемного сына. Роза, пусть даже и овдовев, старалась не сталкиваться с темными сторонами бытия. Она в самом деле не видела всех сторон личности Френка. Он много страдал и многое потерял. Эти потери, его личные призраки, присутствовали при нем, даже когда он был счастлив. Они определяли его моральный кодекс, его воля всегда была на пределе напряжения. Изменения в общественных обычаях и привычках были несущественны для Френка; моральные обязательства, вытекающие из его собственных установок, и приверженность им – вот что оставалось главным и неизменным.
Понятно, что Констанца была вылеплена из другого теста.
У Френка Джерарда были простые и ясные убеждения, в которые он страстно верил. Он верил в искренность, в напряженный труд, брак, верность, в детей и важность семейной жизни. Констанца же олицетворяла все, что было противоположно его убеждениям, хотя он никогда этого не говорил. К тому времени, когда мы оказались на Новый год у Розы, он провел все лето в своей маленькой милой квартирке в Нью-Йорке. Я приходила к нему туда – и порой, несмотря на его старомодные взгляды, эти визиты затягивались. Так длилось без малого полгода. Все это время – это важно ввиду того, что случилось потом, – он ни разу не критиковал мою крестную мать. Правда, он никогда не восхвалял ее, поскольку ему было невыносимо врать, но никогда не сказал и слова против нее. Констанца порой намекала мне, как он должен, по ее мнению, относиться к ней. «О, он меня не любит», – могла стонать она, или: «Он осуждает меня, этот твой парень. Я-то знаю! Так и есть!» Но что бы она ни говорила или ни делала, я разуверяла ее, но все чаще, по мере того как шло время, меня охватывало чувство неловкости.
Френк в самом деле не любил ее – я улавливала это в его упрямом нежелании признать очевидность этого факта. Боюсь, что его подлинное отношение к ней носило более глубокий характер, чем простая неприязнь. Порой, когда мы бывали в обществе Констанцы, я с удивлением ловила на его лице выражение неприкрытой враждебности. Несколько раз я замечала, что, когда заходит речь о Констанце, его лицо обретает замкнутое выражение, и не раз у меня возникало подозрение, что он знает о ней гораздо больше, чем говорит. Пару раз мне показалось, что этим источником информации служит сэр Монтегю Штерн, хотя, судя по тому, что Френк рассказывал о нем, это казалось сомнительным. Я также отметила, что пока мне так и не удалось встретиться со Штерном, который, по всей видимости, не выказывал такого желания; несколько встреч намечались, но потом откладывались.
В другой раз мне думалось, что его реакция на мою крестную мать объясняется до смешного примитивной причиной: он старался держаться подальше от Констанцы, словно в ней было нечто, к чему он не мог заставить себя прикоснуться.
* * *
Тем вечером мы ехали от Розы на прием, который устраивала по случаю Нового года Констанца. Френк не отрывал глаз от дороги: он вел машину быстро, но аккуратно, хотя и на грани опасности. Мы заметно, что было странно для него, превысили лимит скорости.
Было уже почти два часа. У меня слипались глаза. Я смотрела на струи дождя, заливавшие ветровое стекло; гудение двигателя и шуршание дворников укачивали меня. У меня не было никакого желания идти на этот прием, но Констанца ревновала меня к Розе: было важно отдать каждой из них свою долю внимания. За прошедшие несколько месяцев Констанца не раз сетовала на мои отлучки.
Френк не хотел давать Констанце повода для этих жалоб. Если бы я предложила ему удрать с вечеринки, он бы сказал: «Нет, ты обещала там быть».
– Получила ли объяснение история, – сказал он, нарушив уютное молчание, – почему твои родители поссорились с Констанцей, почему она больше никогда не бывала в Винтеркомбе? Помнишь, когда мы были детьми, ты любила говорить об этом?
– О, да. – Я зевнула и вытянулась на сиденье. – Извечная причина. Ничего особо драматического. Деньги. Мои родители заняли у Монтегю Штерна. Может, они не успели уложиться с выплатой в срок или был очень высок уровень процентных выплат, я точно не знаю. Но произошла ссора. Констанца говорила, что не стоило быть у него в долгу.
– Могу себе представить… Чертов дождь.
Френк сбросил скорость, но потом снова прибавил ее.
– Хотя не кажется ли тебе странным – порвать все связи по такому поводу? Ведь она знала твоего отца с детства. Она выросла там. Имеет смысл подумать…
– Ох, да не знаю. Люди, случается, ссорятся из-за денег. Любовь и деньги – это две решающие силы. Так говорит Констанца.
– Ты знаешь, что часто цитируешь ее? – бросил он на меня взгляд.
– Правда? Порой ее стоит цитировать… Но я не соглашаюсь с ней по тысяче поводов. Она делает то, чего бы мне не хотелось, то, что я ненавижу…
– Например?
– Ох, Господи, взять хотя бы… – Я помедлила. – Бобси и Бика, например. Они мне нравятся, и я хотела бы, чтобы она оставила их в покое. Она говорит, что так и сделает, а все остается по-старому. И тот и другой совершенно безнадежны. Они ссорятся с ней, но все равно возвращаются. Они как-то зависят от нее.
Наступило молчание. Френк явно медлил.
– Они больше чем на двадцать лет моложе ее, – сказал он наконец. – Кроме того, они близнецы. Кроме того, они ее любовники. Так что…
– Что ты сказал?
– Я думал, что ты слушаешь меня.
– Это неправда! Они влюблены в нее – я сразу это заметила, но они не ее любовники. Это смешно. Люди сплетничают, я знаю, о Констанце вечно плетут сплетни. Стоит ей пойти в театр с мужчиной, сразу же начинают шептаться. И большинство слухов – вранье. Я же живу рядом. И я знаю.
– Значит, они не любовники? – Френк нахмурился. – Тогда… что же? Платоническая дружба?
– Нет. Не совсем. Флирт. Я знаю, я не слепая. Констанца флиртует со всеми мужчинами. Но это ровно ничего не значит.
– Значит, у нее нет любовников? – тихим голосом спросил он.
Я отвела глаза.
– Есть. Я знаю, что есть. Время от времени. Но и близко нет к тому количеству, которое ей приписывают. Она любит одерживать победы, я думаю. Ей свойственно чрезмерное тщеславие – и в той же мере одиночество. Это никому не мешает…
– Да? И чужим женам тоже? А детям? Или она уделяет внимание только холостым мужчинам?
Я удивилась, что он говорит таким образом. Это обидело меня и от осознания его правоты разозлило.
– Почему ты так говоришь? Ты никогда не обсуждал Констанцу и вдруг выдаешь такое. Ты не должен так говорить: я ей всем обязана, и я люблю ее.
– Дорогая, мне это известно.
– Когда я впервые оказалась в Нью-Йорке, видел бы ты, как она тогда встретила меня, какой доброй была, как она смешила меня. О, да миллион других мелочей…
– Расскажи мне о них. – Он не смотрел на меня. – Я хочу понять. Расскажи.
– Ну, – начала я, – она может… потрясающе увлекаться, просто так. В ее присутствии способен засиять самый скучный день. Когда она тебе что-то рассказывает, она может все вывернуть шиворот-навыворот – она как жонглер, как фокусник. Она непредсказуема и… удивительна. Она не позволяет тебе почивать в покое. Она может перетряхнуть все, что угодно, рядом с ней нельзя быть скучным, или рассудительным, или жалким. Да, и она меняется – вот она счастливая, веселая, хохочущая, а потом внезапно печальная. Грусть поднимается у нее откуда-то изнутри – ты узнаешь это по ее глазам. Ты видишь и понимаешь… – Я запнулась. – Ты никогда не видел ее с Берти. Ты же не разбираешься в собаках.
– Расскажи мне о Берти.
И пока мы ехали, я рассказывала ему эту историю и еще другие. Я не так часто говорила с ним о моем детстве в Нью-Йорке, и, когда я заговорила, эпизод за эпизодом стали всплывать у меня в памяти. Его сосредоточенное молчаливое внимание, шипение шин, ощущение замкнутости и отъединенности от мира в коконе машины, летящей сквозь не пространство, а время, – все это влекло меня.
Поскольку я старалась убедить его, привлечь к Констанце, я в первый раз рассказала ему, как она принимала участие в моих поисках его, как она по моей просьбе звонила и писала.
– Она ждала твоих писем почти столь же страстно, как и я, Френк. Каждое утро, когда приходила почта, она клала мне письма на столик, где мы завтракали. Все были очень добры ко мне и много писали: Мод, Стини, Векстон, Фредди – все слали мне письма. Констанца, конечно же, знала их по почерку. Так что она знала, когда твои письма не приходили. Она была так мягка и добра ко мне. Она клала пачку их рядом с моей тарелкой. Порой она целовала меня или гладила по голове… Френк, что ты делаешь?
– Ничего, прости меня. Встречные фары ослепили меня. Я сброшу скорость. Продолжай.
– Больше ничего особенного. Просто… о, как мне хотелось бы, чтобы ты увидел ее. Какой она могла быть настоящей!
– Я предпочитаю видеться с ней сейчас.
– В самом деле? Я хочу, чтобы ты полюбил ее, Френк.
– Рассказывай дальше. Чем еще вы занимались?
– Ну, мы прогуливали Берти – каждый день, ты знаешь. Разве что, конечно, Констанца находилась в отлучке. Она возвращалась после дел, тормошила меня, и мы выбирались гулять. Да, мы останавливались по пути и опускали мои письма в почтовый ящик в холле. Затем мы шли в парк и…
– Как все обычно! – Он улыбнулся. Наступила секундная пауза. – И ее часто не бывало дома? Кто тогда приносил письма? Кто отправлял их? Что ты чувствовала при отсутствии всех этих ритуалов?
– Не могу припомнить. – Я зевнула. Меня снова клонило в сон. – Почту приносила горничная Мэтти, которая знала, как шарить по карманам. Я любила ее. Она ушла от нас в конце войны. Что же до Берти, мне не позволялось гулять с ним в одиночку, так что со мной выходила одна из гувернанток. И все было так же: мы опускали письма в холле и шли в парк. Без Констанцы было скучно.
– Вероятно, тебе было одиноко. Такая огромная квартира. Горничные, гувернантки, которые приходят и уходят…
– Я не чувствовала одиночества. Я очень много читала. Френк, уже поздно. Где мы?
– Почти на месте. – Он притормозил машину. И нахмурившись, не сводил глаз с дороги впереди. – Когда мы будем на месте, – как-то странно сказал он, – покажи мне почту… тот почтовый ящик в холле, ладно? Я хочу увидеть… откуда ты посылала мне письма. Представить тебя там. – Он сделал паузу. – Да, и ты покажешь мне ту библиотеку, хорошо? Это мне тоже интересно. Я хочу сам все увидеть.
Я показала ему почтовый ящик в холле, но библиотеку показывать не стала, по крайней мере, в эту ночь. Я сказала, когда мы вышли из лифта и оказались у дверей квартиры:
– Что-то очень тихо, слишком тихо для вечеринки. Тебе не кажется, что мы запоздали?
Тишина стояла потому, что не было никакой вечеринки. Все гости ушли несколько часов назад. Все, кроме одного. Когда мы вошли в гостиную, Констанца сидела в одиночестве в компании Бика Ван Дайнема. Впервые в жизни он рыдал так, что мог разжалобить камень. Он и сказал нам: Бобси погиб.
– Говорят, что он покончил с собой, – ровным, безжизненным голосом наконец сообщил Бик. – Это неправда. Это был несчастный случай. Он вечером был здесь. Я говорил с ним. Он не мог покончить с собой. Он мой близнец. Я-то знал бы!
Если это не было самоубийством, то довольно странным несчастным случаем. Бобси побыл на вечеринке у Констанцы, ушел около десяти и на скорости больше ста миль погнал по скоростной трассе Лонг-Айленда. Он обошел три патрульные машины, проскочил ту стоянку, где обычно останавливался, и машина на полной скорости вылетела в океан. Он не застегнул ремни безопасности. Дверцы машины были заперты, а окна открыты. Когда его нашли, в крови не обнаружили следов алкоголя. Он не захлебнулся, а погиб, когда машина врезалась в воду: ему размозжило грудную клетку о рулевую колонку.
Эта история сказалась на семье Ван Дайнем: Бик принялся пить запоями, которые через два года и покончили с ним. Я никогда больше его не видела. Последнее воспоминание о нем осталось связанным с той ночью, когда он стоял в центре гостиной Констанцы, смертельно бледный, не в силах сдвинуться с места, говоря снова и снова, что это не могло быть самоубийством.
Френк смотрел на него с каменным лицом, затем я увидела, что в его чертах мелькнуло сострадание. Он подошел к Бику и мягко обратился к нему.
– Не стоит ли вам побыть с вашими родителями? – тихо сказал он. – Сейчас они нуждаются в вас, Бик. Разве вы не хотите быть с ними?
– У меня нет машины. – Бик повернулся к Френку с детским растерянным выражением лица. Я потрясенно вспомнила, что Френк Джерард, который казался намного старше Бика, на самом деле был на несколько лет младше его. – И понимаете, у меня отняли права, – продолжил Бик. – А они уже уехали на Лонг-Айленд. Я бы поехал, но сомневаюсь, что найду такси. Ведь канун Нового года.
Я не отрывала глаз от пола. Машина Констанцы, как я знала, стояла внизу в гараже.
– Когда это произошло, Бик? – спросила я.
– Точно не знаю. Думаю, около полуночи. Или в час? – Он откашлялся. На его красивом аристократическом лице отражалась растерянность, он постоянно оглядывался, будто искал что-то. – Честно говоря, я не знаю, что мне делать. Я бы хотел остаться здесь. Мне нужна машина. Я толком не помню… когда ее у меня забрали.
– Все будет в порядке, – сказал Френк. – Я отвезу вас.
– До самого Лонг-Айленда? – резко вмешалась Констанца, в первый раз подав голос. Она встала. Она тоже была бледна. Она с силой сплела тонкие пальцы. – В это время, ночью? Бик в шоке. Он должен остаться.
С другой стороны комнаты я чувствовала остроту столкновения, в котором сошлись две воли. Я думаю, Констанца была готова и дальше сопротивляться, но выражение лица Френка остановило ее, и она сменила тон.
На мгновение неподдельная обеспокоенность на лице Констанцы сменилась растерянностью. Я поняла, что она не хотела отпускать потрясенного Бика Ван Дайнема в долгий путь до Лонг-Айленда с Френком Джерардом.
– Виктория останется с вами, – сказал Френк, увлекая Бика к дверям. – Виктория, было бы неплохо позвонить врачу.
– Мне не нужен врач, – подала голос Констанца. – Я не больна. Я себя отлично чувствую. Бик…
Тот уже был у дверей. Когда Констанца позвала его, он остановился.
– Может, мне не стоит ехать? – Бик умоляюще взглянул на Френка. – Мои родители… может, они хотят побыть одни. Я не могу оставлять Констанцу. Она так расстроена.
И тогда произошло нечто неожиданное: мелочь, еле заметная, но я никогда не забуду ее. Френк и Бик Ван Дайнем были около дверей, в дальнем конце помещения недвижимо застыла Констанца. Она смотрела на Френка с нескрываемой ненавистью. Пока я потрясенно глядела на нее, она перевела взгляд на Бика. Она склонила голову, легким кивком дав ему разрешение. Бик сразу же выскочил из комнаты.
Больше не было произнесено ни слова: разрешение было пронизано едва ли не презрением к одному из близнецов.
Я поежилась. Предполагаю, что именно тогда, в ту долю секунды, я наконец стала разбираться в Констанце.
Констанца должна была это почувствовать – ведь мы были очень близки. Чувствовала она скорее всего и то, что я нечто скрываю от нее. Когда я на следующий день увидела Френка, он почти ничего мне не рассказывал, ни как прошла поездка, ни что ему по пути говорил Бик. Это стало известно позднее. Но я видела, как он сосредоточен и обеспокоен. Он сказал только:
– Понимаешь ли ты, что нам придется поговорить о твоей крестной матери? И поговорить по-настоящему? Дальше это ждать не может.
Но тогда нам так и не удалось завести этот разговор: он понимал, что смерть Бобси Ван Дайнема глубоко потрясла меня. И на то могли быть свои причины. Вместо этого, взяв меня за руку, он сказал:
– Я должен устроить тебе встречу с Монтегю Штерном. Теперь ему лучше. Ты должна с ним поговорить. Хотя… – Он помолчал. – Думаю, Штерн предпочел бы, чтобы ты ничего не говорила своей крестной.
Я и не сказала: Констанца скорее всего чувствовала мою уклончивость, как и то, что я стала отдаляться от нее. Она перешла в нападение: она ясно давала мне понять, что после смерти Бобси Ван Дайнема она решительно настроена против Френка Джерарда.
Теперь я понимаю, что все последовавшее было продуманной кампанией, которую она старательно вела несколько месяцев. Она началась с тонких намеков, предположений, постепенно она набирала обороты. «Видишь ли, – могла сказать Констанца, – я не так уверена в твоем избраннике, как прежде, Виктория. Не собирается ли он изменить свои намерения? Кроме того, прошел целый год – и я совершенно не представляю, как будут развиваться события. Я не знаю, что происходит. Ты живешь с ним? Нет, не в полном смысле слова, но порой ты исчезаешь на целые дни. Я предполагаю, что он тебе так и не сделал предложения. Дорогая, ты должна быть очень осмотрительной! Я не могу и представить, что ты станешь страдать…»
Это был ее любимый подход, были и другие, более тонкие. «Я все думаю, – хмурясь, говорила она. – И меня беспокоит эта связь с твоим детством. Кого ты любишь: Френка Джерарда или память о Франце Якобе? Вы оба влюблены в прошлое, а не друг в друга».
Когда это не срабатывало, она использовала другой подход. Она начинала убеждать, что Френк не понимает меня.
– Ты же видишь, дорогая, насколько вы разные, сколько вас разделяет! Только подумай. Сколько он зарабатывает? Много ли имеет даже самый умный ученый? Куда меньше того, что заслуживает! В то время как нам с тобой явно переплачивают. Боюсь, это ему не нравится. В некоторых смыслах он безумно старомоден – я вижу, как он хмурится! Когда ты уехала, чтобы работать у Джианелли, он явно был недоволен, признай это…
– Констанца, порой приходится менять намеченные планы, вот и все. Ты сказала, что сама возьмешься за виллу Джианелли…
– Ну, не могу же я все брать на себя! Неужели он не понимает? Это же не та работа, которую можно сделать, сидя в кабинете.
– Констанца, он все понимает и не собирается возражать.
– Хочу надеяться, что ты права. Но не могу не сказать, что, похоже, он не понимает сути нашей работы. С одной стороны, в визуальном смысле, он просто слеп. Он не от мира сего! Он не видит разницы между обюссонским ковром и бухарским…
– Констанца, да прекратишь ли ты? Я вот не понимаю его работу…
– Это совсем другое! – вскричала Констанца. – Очень важно, чтобы мужчина и женщина имели нечто общее. И, может быть, дело не в любви, а в браке, это жизненно важно! Как у твоих родителей, например. Подумай. Они любили одну и ту же музыку, те же самые книги. Мы с Монтегю…
– Так что же у тебя было общего с Монтегю, Констанца?
– Мы одинаково думали!
– Может, мы с Френком тоже одинаково думаем. Это тебе приходит в голову?
– Конечно… и сначала я так и считала. Теперь я далеко не так уверена. Он полностью поглощен своей работой, и он очень умен. Но и ты ведь умна по-своему, пусть даже и не каждому это заметно, но я-то знаю! Но это совсем иное. Он аналитик, ты руководствуешься интуицией. Может быть, ему нужен тот, кто будет понимать его работу, кто трудится в той же области, имеет ту же подготовку. Вот так! И я в этом не сомневаюсь! Ведь эти мысли посещали и тебя, не так ли? Я вижу это по твоему лицу. Ох, дорогая, не будь грустной – я начинаю злиться! Я же знаю, как ты талантлива, и если он этого не понимает…
Так и шло, день за днем, месяц за месяцем. Когда я больше не могла выносить пребывание в этой квартире, я исчезла почти на неделю. Когда я вернулась, Констанца плакала. Она сказала, что знала: этим кончится. Френк Джерард ненавидит ее, он хочет поссорить нас.
– Это неправда, Констанца, – сказала я. – Он и слова против тебя не сказал. Ты становишься глупа, тобой овладевает паранойя. Я ушла, потому что меня стало мутить от всех разговоров. Я не хочу больше ничего слышать. Или ты будешь заниматься своими делами и перестанешь упоминать Френка, или я вообще съеду отсюда.
– Нет-нет, ты не должна так поступать. Он будет думать, что ты давишь на него, вынуждаешь его жениться на тебе…
– Констанца, я тебя предупредила. Отныне мы о нем больше не говорим. О чем угодно, но только не о Френке. Это унижает меня, унижает тебя, и необходимо положить этому конец. Я люблю его. Больше ни слова. И запомни это, Констанца.
– Очень хорошо. Больше я о нем и не заикнусь. – Констанца собралась. – Но скажу тебе последнее. Я люблю тебя, как свою дочь. Я любила и твоего отца, и очень сильно, и я пыталась, да, пыталась, занять его место. Я все время спрашиваю себя: что бы сделал Окленд, будь он здесь? Я понимаю, что ты не хочешь ничего слышать. Я знаю, что они могут тебя настроить против меня. И даже в этом случае я скажу все, что необходимо, потому что твои интересы принимаю близко к сердцу. И потому, что знаю: будь Окленд сейчас здесь, он бы сказал то же самое. Совершенно то же самое. И я хочу, чтобы ты это помнила, Виктория.
Это был самый большой дар Констанцы – инстинктивное ощущение ахиллесовой пяты другого. Удалось ли мне отделаться от ее слов? Кое от чего – да, но не от всего. Ее слова заползли мне в память. Я возмущалась тем, что они сказываются в моих мыслях.
* * *
Этой весной я наконец встретилась с Монтегю Штерном. Так получилось, что Френк не мог присутствовать при этом разговоре – у него возникли серьезные проблемы на работе.
Я заметила, что он несколько смущен и полон напряжения. Я должна была бы основательнее обеспокоиться этим, не будь я сама полна тревог. В течение прошедшего месяца Констанца продуманно нагружала меня работой сверх всякой меры. Сегодня столь же холодно и спокойно она объявила о новом заказе, который мы надеялись получить вот уже несколько месяцев – реставрация большого шато на Луаре, принадлежавшего семье, в распоряжении которой находилось едва ли не самое прекрасное собрание мебели в Европе.
– Милая, – сказала она, целуя меня, – это наше. Мы его получили. Точнее, заказ твой. И я хочу, чтобы ты его выполнила, Виктория, ты это заслужила. Сделай его и можешь считать, что ты состоялась. О, я так рада, дорогая.
Я же не испытывала радости. Заказ был в самом деле соблазнителен, но он также требовал трех месяцев пребывания во Франции.
– Френк, – начала я, когда мы вышли из машины, – ты не будешь против, если я попрошу тебя кое о чем? Это касается моей работы.
– Спрашивай, дорогая, но поторопимся. Черт бы побрал эти такси – мы опаздываем.
– Тебе моя работа кажется очень глупой? Порой мне думается, что так и должно быть. Ведь ты изучаешь болезни, пытаешься найти лекарства от них, а что я делаю? Смешиваю оттенки красок. Выбираю ткани. Вожусь с раскраской.
– Возишься? – Он нахмурился. – Вовсе ты не возишься. Это очень интересно, то, чем ты занимаешься. Может, я не так уж и хорошо разбираюсь, но пытаюсь понять. Ты помнишь, как мы сидели в мастерской, а ты смешивала глазурь, занималась лессировкой, экспериментируя с цветами? Это было очень занятно.
Я вспомнила тот случай: передо мной стояла задача сделать для клиента комнату в красной гамме – не того цвета, который Констанца часто пускала в ход, называя этрусским, а другого. Этого можно было добиться путем подбора правильной основы, которую придется покрыть несколькими прозрачными слоями лака. Каждый слой глазури, прозрачный и выразительный, менял цвет подложки: от киновари к кармину, розовый – на фуксин; пошел венецианский красный; затем последний мазок грубой умброй, чтобы подчеркнуть основной цвет и придать ему оттенок старины. Работа шла медленно, но восхищала меня, когда я экспериментировала с глазурью: способность цветов преображаться казалась мне колдовством.
– Как правда, понимаешь? – сказала я, поднимая глаза на Френка, когда положила последний мазок. – Так говорит Констанца. Всегда можно положить еще один слой. Каждый раз, когда ты добавляешь его, меняется окраска и восприятие слоя внизу.
– Как правда? – нахмурился Френк. – Я не согласен. Правда не может меняться. Она одна и неделима, разве не так? Я всегда считал, что правда очень проста. – Он сказал это с явным нетерпением, и на лицо его легло выражение замкнутости. Поняв, что снова цитировать Констанцу было ошибкой, я замолчала: мне хотелось бы считать, что он прав, но я не могла согласиться с ним.
И теперь, двигаясь в южную сторону и по-прежнему не видя ни одного такси, я взяла его за руку. Я думала об этом заказе во Франции, о его работе в лаборатории.
– Порой мне кажется, – продолжила я, – что между нами столько различий. Твоя работа жизненно необходима, а моя – дань роскоши. Это я знаю. Я занимаюсь ею потому, что она мне нравится, и потому, что она – единственная, с чем я хорошо справляюсь. Но, должно быть, она кажется тебе скучной и банальной. И порой… порой я думаю…
Френк остановился. Он развернул меня к себе и сжал мне лицо ладонями. Он заставил меня посмотреть ему в глаза.
– Это серьезно? Дорогая, скажи мне, о чем ты порой думаешь.
– Ну, иногда мне кажется, что тебе хочется: пусть рядом с тобой будет кто-то, понимающий твои труды и заботы куда лучше, чем я. Кто-то, с кем ты можешь разговаривать и спорить. Посмотри на меня. Я никогда не ходила в школу. Что касается науки, я ни в чем не разбираюсь. Я не умею играть в шахматы и вечно проигрываю в бридж. Я даже плохо готовлю: что я могу приготовить, кроме спагетти? Что я вообще умею? Обставить комнату. Не очень много, не так ли?
– Что еще… чего еще ты не умеешь делать? – Он с мягким юмором смотрел на меня.
– Дай мне время. Не сомневаюсь, припомню что-то еще.
– Нет, не дам. Вместо этого я напомню тебе то, что у тебя отлично получается. Ты можешь быть доброй и внимательной – так. Ты отлично все понимаешь – так. Ты можешь рассуждать и думать – так. Та трогательная – так. И ты умеешь любить. – Он поцеловал меня в лоб. – Не так много людей обладают подобными дарованиями, особенно последним. Ты это понимаешь?
– Френк, ты в самом деле так думаешь? Ты уверен?
– Уверен в чем?
– Во мне. Я хочу сказать, что смогу все понять, во всем разобраться. Со временем, если ты решишь, что тебе необходима… ну, какая-то другая женщина. Скажем, ученая, кто-то вроде…
– А, значит, вот что ты хочешь понять, да?
– Нет, но я смогу понять. Мне будет жутко тяжело, но…
– Вот это уже лучше. А теперь бери меня под руку, и по пути я расскажу о своем идеале женщины, ладно? – Он повернулся. – Дай-ка прикинуть. Итак, я думаю, она ядерный физик. Пока она жарит мне яичницу на завтрак, она объясняет, в чем ошибся Эйнштейн. Яйца, надо признать, ее коронный номер – жарит их она отменно, да и вообще она повар высшего класса – она брала уроки, когда заодно изучала русский язык…
– Русский?
– Ну, конечно. И еще китайский, как я думаю. Вот такая женщина! Бобби Фишер учился у нее играть в шахматы. И, кроме того, она очень красива…
– Да?
– Она выглядит, как… дай мне подумать. Так как же она выглядит? Как одна из тех странных женщин, которых ты видишь на обложках журналов. Кожа у нее словно китайский фарфор, а на лице вечно изумленное выражение. В постели она сущая тигрица и развратница…
– Ты заткнешься наконец?
– …ее обаяние известно на всех пяти континентах. По сути, у нее неправильно лишь одно, у этой смешной женщины… – Остановившись, он еще раз развернул меня к себе. Мы стояли у отеля «Пьер». Френк вел себя совершенно серьезно. – Она не ты – понимаешь? А люблю я только тебя. И никогда больше не говори мне такие вещи – никогда, слышала? Я знаю, кто вдалбливает тебе в голову эти мысли. Я знаю, кто пытается заставить тебя считать, что мы не пара. Этому надо положить конец. И вот тут, перед отелем, мы обрываем эту тему. А теперь заходим. Пора тебе встретиться с мужем твоей крестной матери.
Номер Штерна оказался больше, чем Френк описывал. Стены комнат были обшиты деревянными панелями, в них стоял легкий сумрак и царила тишина, как в аристократическом клубе. Рассматривая потертое кожаное кресло, глянец подлокотников, великолепные ковры, строгий мужской порядок, который поддерживался пожилым камердинером, я поняла, что Френк был неточен только в одном. Да, время остановило тут свой бег, но задолго до 1930 года. Меня словно перенесли во времена моего дедушки: и комната, в которой я очутилась, и человек, который вежливо поднялся, встречая меня, явился из эдвардианских времен.
Штерн слегка сутулился. Двигался он медленно. Констанца в свое время упоминала о его пристрастии к кричащим ярким жилетам, но сейчас на нем не было ничего подобного: его одежда, включавшая в себя черный бархатный смокинг, была изысканна, но отнюдь не вульгарна. Встретив меня, он склонился к моей руке. Когда он заговорил, я услышала запомнившийся мне акцент: английский, но с налетом Центральной Европы.








