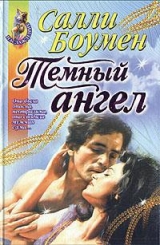
Текст книги "Темный ангел"
Автор книги: Салли Боумен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 53 страниц)
Я росла, и мне казалось, что Констанца теперь испытывает ко мне меньше любви. Возвращаясь из своих путешествий, она одаривала меня насмешливой ухмылкой; она могла сказать тоном обвинителя: «Ты подросла еще на дюйм». В другие времена она обрушивала на меня водопады обаяния, засыпала меня градом подарков. Когда мне минет двадцать один год, как-то сказала Констанца, она сделает меня своим партнером. А тем временем поступил заказ – ужасно симпатичный домик, не могу ли я заняться им? Я могу сразу же приступить к делу: она будет звонить мне, проверять детали из ее убежищ в Венеции, Париже или Эксе.
Таким образом, в конце 1950 года, незадолго до моего двадцатилетия, мне пришлось провести день в округе Вестчестер. Роза Джерард ждала меня в своем двенадцатом доме. Констанца сказала, что наконец решила бросить меня в клетку со львами, ибо на другой день она собралась в Европу. Вся эта ситуация казалась ей просто восхитительной.
Так же считали и мисс Марпрудер, и ассистентки, и секретарши, и вообще весь штат. Они устроили в мою честь небольшую вечеринку, дабы ознаменовать начало моего пути. В качестве подарка на счастье мне вручили пару затычек для ушей.
– Чтобы ты была на триста процентов тверда с ней, – сказала Констанца, провожая меня.
Секретарши стонали от смеха.
– Не забудь спросить ее о детях! – крикнула одна такая умница.
Я одарила их холодным взглядом. Я сказала себе, что они ведут себя как дети. Поскольку мне было почти двадцать лет, я была исполнена оптимизмом неопытности и убедила себя, что справлюсь. Да, с Розой Джерард нелегко, но мне удастся управиться с ней. С любым клиентом можно договориться. Просто я должна правильно вести себя.
Я вернулась домой через десять часов. Я была разбита и уничтожена.
– Констанца, пожалуйста, – сказала я. – Прошу тебя. Не заставляй меня. Она мне нравится, но работать с ней я не могу. Не уезжай в Европу. Останься. Или еще лучше, дай ей кого-нибудь другого.
– Она тебя полюбила, – ответила Констанца. – Как ты уехала, она уже три раза звонила. Она считает, что ты просто восхитительна. Симпатичная. Интеллигентная. Красивая. Оригинальная. Она без ума от тебя. – Констанца улыбнулась. Ей эта ситуация откровенно нравилась.
– Меня нет, – сказала я. – Что бы там Роза Джерард ни думала, я мертва. Я отмахала восемьдесят тысяч миль. Как и ее мужья, я скончалась. От меня ничего не осталось. – Я остановилась. – И, кстати, ты была не права на этот счет. О мужьях, я имею в виду. У нее был только один. И есть только он один. Выживший Макс.
– Неужто я ошиблась? – Констанца бросила на меня невинный взгляд. – Во всяком случае, получилась хорошая история. Но остается главное: если ты сработаешься с ней, то сработаешься с кем угодно. Миссис Джерард твоя. Как и ее мужья – прошу прощения, муж. И дети. Расскажи мне, ты встречалась с кем-нибудь из них?
– Да. С одним. – Я помедлила. – И только накоротке. Когда приехала и когда уезжала.
– Я тебе говорила. Они все разлетелись. Редкие птички. Но ты все же видела хоть одного. Потрясающе! Которого?
– Одного из сыновей.
– И? И? – Констанца наклонилась ко мне. – И как он выглядит? Я хочу узнать все подробности. Ты что-то не очень общительна…
– Это он был необщителен, так что никаких подробностей не существует. Он сказал лишь «здравствуйте» и «до свидания». Вот и все.
– Не могу поверить. Ты что-то скрываешь. Я вижу.
– Ничего подобного. Говорю тебе: нас представили друг другу, мы обменялись рукопожатием…
– Он тебе понравился?
– У меня не было времени разбираться, понравился или нет. Хотя, похоже, я у него симпатии не вызвала…
– Не может быть!
– Очень может быть. Может, у него аллергия на декораторов. И в тех обстоятельствах я могу его понять.
– Мда… В самом деле. Могу себе представить. – Констанца слегка нахмурилась. – И кто из них это был?
– Думаю, что второй сын. Френк Джерард.
– Симпатичный?
– Запоминается. Скорее всего, судя по тому, что рассказывала Роза… – Я отвернулась. – Это не важно, но, думаю, он получит Нобелевскую премию.
Часть восьмая
ФРЕНК ДЖЕРАРД
1
За те десять часов, что я провела с Розой Джерард, мы почти не продвинулись вперед по поводу обстановки ее дома, но достигли значительного прогресса в других областях. Уезжая, я была обладательницей семейной истории Розы, начиная от ее дедушек. Теперь я понимаю, почему Констанца, как всегда, расцвечивая свое повествование, была введена в заблуждение.
Она оказалась права лишь в одном: существовала дюжина детей. Девять были Розы, а трое – отпрысками брата мужа, которых Роза взяла на воспитание после смерти отца. Макс, единственный и неизменный муж, отсутствовал, и Роза дала понять, что это манера его поведения. Похоже, что когда профессор не читал лекции и не преподавал, то считал слишком трудным для себя находиться в доме. Тут он не мог, с нежностью сказала Роза, сосредоточиться на своих книгах. Это можно было понять: безумное количество детей носились по всему дому.
Роза справлялась с ними без усилий. Дети были в возрасте от пяти лет до двадцати с небольшим. Водя меня по дому, Роза то и дело останавливалась на половине предложения: то она уделяла внимание чьей-то царапине на коленке, то улаживала ссору, то показывала десятилетнему мальчишке, как бить по мячу, то успокаивала рассерженного подростка, который никак не мог найти чистую рубашку. Занималась она всем темпераментно и энергично, а затем возвращалась к предмету разговора, не упуская ни слова.
– А как вам этот ковер? Вам нравится этот ковер? Я его терпеть не могу, но Максу нравится, так что он остается, да? И как вы думаете, синее с ним сочетается? Или нет, может, желтое? Или зеленое? А это Даниель. Ему пятнадцать лет. Он пишет стихи. Все время. Кроме того, он теряет рубашки. Хочешь синюю рубашку, Даниель? А белую? О'кей, о'кей, бери синюю. Она в шкафу в твоей комнате. Lieber Gott, да в шкафу же у тебя в комнате! Во втором ящике слева. Пришить тебе пуговицу? Ладно, пришью тебе пуговицу. Может, стоит переместить ковер – разложить его внизу? Не будет ли Макс против, как вы думаете? Порой мне кажется, что он видит только свои книги. Мужчинам это свойственно. Вот сюда, Виктория. Еще одно знакомство. Вы ведете счет? Это Френк.
Френк Джерард, симпатичный молодой мужчина, поднялся, когда мы вошли, по всей видимости, мы оказались в его кабинете. Он читал книгу, которую вежливо отложил в сторону. Мы подали руки друг другу. Роза пустилась в длинное повествование, посвященное сначала успехам Френка, а потом моим достоинствам. Последовал весьма выразительный список моих достижений как декоратора и добросердечное, но путаное объяснение причин, в силу которых Роза почувствовала ко мне симпатию, едва только мы встретились.
Френк Джерард слушал ее молча. Я догадывалась, что он сомневался в точности изложения и считал столь бурную симпатию преждевременной. Он не делал никаких замечаний, а просто стоял, сложив руки на груди, пока Роза не подошла к концу своего панегирика. Ближе к концу, когда Роза стала чувствовать: что-то не так, существует какое-то подводное течение, она – что было для нее явно нехарактерно – запнулась, начала снова, потеряла нить мысли, после чего очень торопливо извлекла меня из комнаты.
Наша встреча носила не совсем тот характер, как я описала его Констанце. Френк был не единственным из сыновей, которые попадались мне на глаза; просто в этой встрече было нечто, что я даже сейчас хотела бы сохранить при себе.
– Он так много работает, – виновато тараторила Роза, – и мы ему помешали. Скоро он заканчивает Колумбийский университет. Он там на самом лучшем счету. – Остановившись, она покачала головой. – Прошлой ночью, например, он даже не ложился. Он и крошки в рот не взял. Лицо у него было бледным. Я сказала ему: Френк, ты себя уморишь работой. В жизни есть и другие вещи. Я попыталась рассказать ему о вас, как вы справляетесь – ну, чтобы он понял. Но нет, он даже не слушал. Мне показалось, что он был бледен, когда мы вошли. Вам так не кажется?
Я согласилась, что он был бледноват, хотя цвет его лица был далеко не главным из того, что мне запомнилось при этой встрече. После длительного повествования Розы о своем сыне, о его полной поглощенности медициной, о наградах, уже полученных им, удалось наконец вернуть Розу к теме дома.
Какое-то время она воодушевленно рассказывала мне о своих проектах переоборудования дома, но долго продолжать тему не удалось. Я думаю, что в определенном смысле Розу дом как таковой и не интересовал. Она мечтала, чтобы вокруг все было в порядке для семьи: комната для каждого ребенка, достаточно места, чтобы огромная семья могла радоваться обществу друг друга и в то же время иметь возможность для уединения, обеды точно вовремя, изысканная обстановка помещений.
Правда, когда речь шла о подборе цветов, Роза была утомительна и невыносима. Когда же разговор заходил о драмах и персонажах ее семьи, она становилась интересна.
Все это было внове для меня, ведь я была единственным ребенком. Я никогда не ходила в школу. У меня почти не было подруг и друзей моего возраста; и в детстве в Англии, и все годы в Нью-Йорке я, как правило, проводила время в обществе людей гораздо старше меня. Я жила вместе с Констанцей в квартире, которая была, можно сказать, антитезисом этому дому, в котором каждая вещь, каждый предмет обстановки, каждая картина должны были занимать неизменное место. Посещение Джерардов означало путешествие в чужую страну. Сидя здесь, слушая Розу, я испытывала невыразимое одиночество, страстное желание, чтобы я тоже росла вместе с братьями и сестрами, в играх и суматохе, в окружении друзей.
Может, Роза почувствовала это. Она была одной из тех женщин, теплота личности которых вызывает к себе доверие. Она обладала прямотой и решительностью, которым не мог противостоять барьер сдержанности. Она считала, что я очень скрытная, а затем, познакомившись с моей подноготной, рассмеялась.
– Ах, значит, вы англичанка, – сказала она. – Англичане все такие. Они сближаются с друзьями по миллиметру, вам не кажется? Чуть-чуть, потом еще немного. Лет через шестьдесят, может быть, вы скажете, что у вас есть друзья. Но не раньше. Ни в коем случае. А вот я – через шестьдесят минут. А иногда и через тридцать секунд. Если мне кто-то нравится, то в самом деле нравится. Я всегда чувствую, сразу же.
Роза была права на этот счет, права и относительно меня. Я была слишком настороженна и сдержанна. Я хотела стать другой. Я мечтала быть столь же бесстрашной, как Констанца, столь же открытой и импульсивной, как Роза. Порой я думала, что теряю время. Когда же она начнется, моя жизнь?
В силу этой причины я и попыталась открыться Розе, в результате чего Роза знала обо мне гораздо больше, чем кто-либо другой, не считая Констанцы, и я была не в состоянии сопротивляться, когда вопросы Розы подвигали меня все ближе и ближе к теме, которая была увлекательнее всего для нее, – романы.
Роза оказалась страстной романтической личностью. Она уже не раз рассказывала мне историю своей встречи с Максом, его ухаживания и их брака. Она также удостоила меня любовными историями своих родителей, своих дедушек и бабушек, дяди с материнской линии, нескольких кузин и женщины, которую она как-то случайно встретила в автобусе.
Роза неподражаемо рассказывала все эти истории. Речь шла о противостоянии родителей, непонимании, надеждах, искушениях. Все эти истории, насколько я припоминаю, имели нечто общее: у них был счастливый конец. Никаких разводов, смертей, никаких ссор и измен; и подобно романам, которые любила моя тетя Мод, когда я была ребенком, все истории Розы кончались обручальным кольцом и объятиями.
Прошло некоторое время, прежде чем я стала понимать: все эти сказки содержали в себе намек. Я осознала, что их истинный смысл заключался в паузах, взглядах и недомолвках. Роза ждала моей истории, моего романа. Но такового не существовало, о чем я могла только горько пожалеть. Когда, поддавшись давлению, я призналась в этом, Роза проявила искреннее сочувствие, сделала вид, что понимает меня до мозга костей. Опять английская сдержанность, предположила она. В свое время, может быть, я и удостою ее доверия. Нет– нет, все в порядке, никаких обид; больше ни слова, она не станет задавать никаких вопросов.
Но, едва переведя дыхание, она тут же задала его:
– С другой стороны, был ли у тебя какой-то особый друг? – Мы сидели в ее гостиной. У ног моих лежали образцы шелковых тканей, а на коленях располагалась тарелочка с куском пирога. Ароматный чай, вкусное пирожное, доверительное общение. – Я как-то не сомневаюсь… – Она задумчиво посмотрела на меня. – У такой симпатичной девушки, как ты, такой молодой, у которой вся жизнь впереди, должен быть кто-то. И ты ждешь, чтобы он позвонил, да? У тебя начинает частить сердце, когда ты слышишь его голос? Наверно, он пишет – как мой Макс писал мне, – и когда ты получаешь его письма…
– Нет, Роза, – с наивозможной твердостью сказала я. – Никаких звонков. Никаких писем. Говорю вам, никаких особых друзей.
Я остановилась. Как раз в эту минуту в комнату вошел Френк Джерард. Он задал матери какой-то вопрос, а затем, даже не взглянув в мою сторону, вышел.
– Какая скромность, – сказала Роза, когда дверь закрылась. Она бросила на меня взгляд, полный безумного самодовольства. – Ты что-то скрываешь. Ну хорошо, придет время, сама все расскажешь.
Роза оказалась права: я действительно сама ей все рассказала. Ко времени моего признания, много месяцев спустя, работа в доме Розы в Вестчестере была давно завершена. Она длилась восемь месяцев и скрепила нашу дружбу, хотя в ней были нередки и ссоры.
Я должна уточнить, что Роза обладала весьма странными вкусами. От своей семьи она унаследовала немалое количество редкой, хотя и несколько тяжеловатой, мебели и несколько прекрасных картин. У нее имелись великолепные гобелены, которые тем не менее в Вестчестере явно не смотрелись. Был старинный немецкий шкаф черного дуба, на котором высились внушающие почтительный страх канделябры. Предполагалось, что я рассыплюсь в витиеватых комплиментах мебели, многие образцы из которых Роза сама приобрела.
Роза обожала позолоту и завитушки. Она преклонялась перед рококо. Она испытывала слабость к Булю. У нее был целый набор, дорогостоящий и, как я подозреваю, фальшивый, кресел эпохи Людовика XIV. Одна комната была отведена под коллекцию штейбнских стеклянных зверюшек и изысканного мейсенского фарфора. Кроме того, сказывалось влияние Макса и многочисленных детей. Повсюду лежали книги, стопки журналов, водопады бумаг, пластинок, музыкальных инструментов, игрушек, спортивного снаряжения, академических атласов. Казалось, в этом доме порядок вел непрестанную борьбу с хаосом и проигрывал ее. Мне нравилось бывать здесь, но работать означало предать забвению все свои принципы.
Время от времени я пыталась объяснять это Констанце, но та только смеялась.
– Ох, да не будь же такой пуристкой, – сказала она. – Кончишь эту работу и забудешь. И никогда о ней и не вспомнишь.
Но я вернусь, это я знала. Роза притягивала меня; ее семья влекла меня; шаг за шагом я входила в круг ее домашних. Меня приглашали на семейные вечерние трапезы. За чаем мы с Розой обсуждали убранство очередных комнат – и я понимала, что работа, которая уже была завершена, шла кувырком. Каждую из законченных комнат Роза за неделю ставила вверх тормашками.
Мог исчезнуть уникальный складчатый абажур для лампы, на месте которого появлялось ужасное изделие литого стекла – Роза любила все, что блестело. Мейсенская статуэтка занимала предназначенное ей место и смотрелась прекрасно, если не считать, что Роза располагала рядом с ней уродливого стеклянного пеликана. Я обводила взглядом некогда прекрасную комнату и видела набор предметов.
– Роза, – как-то сказала я ей, – что я тут делаю? Ради Бога, в чем дело?
У меня был взрывной характер, таким же отличалась и Роза: эти споры вызывали у нее громогласную горячую нескончаемую реакцию. Как минимум, дважды я покидала ее, говоря, что не стану больше с ней работать. Как минимум, дважды Роза, трясясь от возмущения и прижимая к груди обиженных стеклянных пеликанов, или подушки, или абажуры, увольняла меня. Это ничего не меняло. На следующий день она всегда нанимала меня снова; и я всегда возвращалась.
Ближе к концу восьмого месяца, когда дом был уже почти закончен, обе мы начали понимать, что эти размолвки в какой-то мере веселили нас: они не могли предотвратить, правда, очередную ссору, и достаточно серьезную, после которой мы расходились, не в силах перевести дыхание, с раскрасневшимися лицами.
Ссора была настолько выразительной, громогласной и длинной, что привлекла свидетелей, хотя ни Роза, ни я не обратили на них внимания. Лишь позже я выяснила, что кое-кто из младших отпрысков Розы, привлеченные звуками ссоры, подсматривали за нами из безопасного коридора, покатываясь от смеха. Я выяснила, что за этим занятием детишек застал их старший брат Френк и шуганул, в результате чего ему довелось услышать конец ссоры, когда я уже ничего не говорила, предоставив это Розе.
– Я знаю, что ты думаешь! – говорила Роза или, точнее, кричала. – Ты думаешь, что у меня нет вкуса. Нет, еще хуже! Ты считаешь, что у меня есть вкус, но он ужасен! Так вот что я тебе скажу: никому не хочется жить в музее. Ты понимаешь, что в тебе неправильно, в чем ты ошибаешься? У тебя слишком много вкуса. Lieber Gott – да, у тебя отличный глаз – я готова это признать, но нет сердца. А я должна жить в этих комнатах. Мои дети, Макс – они тоже, как ты знаешь, живут здесь. И тут не витрина и не фотография. Это мой дом!
На самой высокой и возмущенной ноте Роза остановилась. И затем совершенно неожиданно расхохоталась.
– Только посмотрите на нас! Восемь месяцев – и все ругаются. Слушай, я все объясню. Когда ты кончила эту комнату, я заглянула в нее – она была такая милая, такая простая, и я подумала: Роза, ты должна измениться. Учись у Виктории. Попробуй. Но, понимаешь, вот я сижу в ней, и она мне кажется такой пустой! Мне не хватает моих безделушек. Мне нравится мой пеликан, которого ты так ненавидишь. Мне его подарил Макс! Мне нравится смотреть на книги Френка, на трубки Макса, на фотографии детей. Вот все эти толстые диванные подушки – их вышивала моя мать. Когда я смотрю на них, то возвращаюсь в прошлое. Поэтому… – она пересекла комнату и взяла мои руки в свои, – мы никогда не найдем общий язык, понимаешь? Мы по-разному смотрим на мир. И если так будет продолжаться, наговорим друг другу слова, о которых потом обе будем сожалеть, и я потеряю добрую подругу. Я не хочу этого. Так что теперь послушай меня, да? У меня есть предложение…
Это предложение – отделить профессиональные отношения от личных, дабы поберечь их, – оказалось отличным, и мы стали вести себя в соответствии с ним. Я больше не стала приводить в порядок комнаты для Розы: мы стали близкими подругами. В тот день Роза кое-чему научила меня. И если в роли декоратора я не проявляю больше диктата, а я надеюсь, что так и есть, то лишь благодаря Розе. Именно она показала мне нечто очень простое и совершенно очевидное, то, чего не хватало в уроках Констанцы: дом – это жилище.
Вскоре после этого я начала осознавать: великолепные комнаты в изысканных квартирах на Пятой авеню еще не дом. Как бы я ни любила Констанцу, подлинного дома, кроме как в Винтеркомбе, у меня не было, а я хотела обладать таковым. Констанца чувствовала, в чем дело, и раздражалась.
– Значит, опять? – могла сказать она, когда я в очередной раз оставляла ее ради Розы. – Что тебя так привлекает в Вестчестер, чего я не знаю? Ты отправляешься туда уже второй раз на неделе. Можно подумать, что Роза удочерила тебя!
Я предполагаю, что в определенном смысле так и было. Констанца часто отсутствовала, и в наборе ее достоинств чувство материнства отсутствовало. А у Розы оно было. Может быть, я посещала ее дом столь часто в надежде, что она может заполнить брешь, существование которой я только-только начала осознавать. Может, я заходила просто ради вечера в ее доме за шумным семейным ужином, в играх, спорах, перемежавшихся взрывами смеха, – это так отличалось от суховатой холодной элегантности, которую я наблюдала в домах друзей Констанцы. Может, я заходила в надежде увидеть Френка Джерарда. Но если даже причина была в этом, я не признавалась себе в ней.
К тому времени Френк завершил изучение медицины в Колумбийском университете и отправился в докторантуру в Йель. В Вестчестере он бывал редко и, как я заметила, никогда, если знал, что и я приглашена. Несколько раз, когда мне доводилось встречать его в доме, он замечал меня, но редко разговаривал. Как-то раз по настоянию Розы мы составили с ним пару при игре в бридж, но играли из рук вон плохо. В другой раз, на вечеринке у одной из его сестер, Френка уговорили – под аккомпанемент многочисленных подтруниваний – потанцевать со мной; в комнате набилось полно народу, висели клубы дыма, и импровизированное пространство было столь невелико, что там можно было лишь переминаться на месте. Он уделил мне, не в силах отвертеться, лишь один танец, уверенно ведя меня и отвернув голову. В третий раз, по предложению отца, он согласился подбросить меня в город; по пути, к моему облегчению, он несколько расслабился. Стояла весна, и был прекрасный вечер, помню, я испытала внезапный прилив радости, желание продолжить вечер в его обществе.
Я стала по его просьбе рассказывать об Англии и о Винтеркомбе. Мы выбрались на Пятую авеню и ехали в южную сторону. Когда мы проезжали мимо того входа в парк, через который я водила Берти на прогулки, поведение Френка изменилось с удивившей меня резкостью. Его лицо стало снова замкнутым, а поведение вежливым и отстраненным. Снова, подумалось мне. Я сказала или сделала нечто, что опять вызвало в нем враждебность. Рядом с домом Констанцы я с ледяной вежливостью попрощалась с ним. Когда я входила в дом, его машина уже миновала полквартала.
Я была заинтригована и вскоре стала пытать Розу: я хотела знать, что я такого сделала, чтобы спровоцировать его неприязнь. Роза отмахивалась. Это, сказала она, не имеет ко мне ровно никакого отношения. Френк вообще труден, сказала она, порой просто несносен. На то скорее всего была причина; сомневаться в ней не приходилось: Френк Джерард был влюблен в одну из своих женщин-коллег по Йелю. Она очень красивая, это Роза видела своими глазами.
Роза многословно описывала эту женщину. Чем больше она перечисляла набор ее достоинств, тем меньше она мне нравилась. Темные волосы, сообщила Роза, темные глаза, блистательное будущее. Я была полна необъяснимого отвращения.
– Да, влюблен, – продолжала Роза задумчиво, – я уверена. Френк проявляет все симптомы.
Конечно, она довольна, но в то же время и обеспокоена. Френк, сказала она, не из тех людей, у которых легко складывается любовь.
– Идеалист, – с легкой грустью продолжила она. – Он не умеет идти на компромиссы. Такой упрямый! Для Френка или все, или ничего.
Это показалось мне достоинством, Роза была меньше в этом уверена. Это может быть, сказала она, опасным. А что, если, предположим, Френк доверится недостойной женщине?
После этих слов наступило молчание, я наклонилась к ней.
– Роза… эти симптомы. Что они собой представляют?
Роза старательно перечислила их. Это было очень похоже на грипп.
– Ты и сама поймешь, когда почувствуешь их, – сказала она.
– Ты уверена, Роза?
– Я женщина! – В ее голосе звучала торжественная нотка. – Конечно же!
И в эту минуту во внезапном приступе откровенности я рассказала Розе о Бобси Ван Дайнеме.
Строго говоря, рассказывать было почти нечего. Боюсь, что это не остановило меня.
Я много лет дружила с семьей Ван Дайнем, из молодых близнецов я всегда больше любила Бобси. В то лето, когда я призналась Розе, Констанца была в Италии. Оглядываясь назад, я подозреваю, что с ней был Бик Ван Дайнем, который к тому времени основательно пил. Во всяком случае, Бика не было на Лонг-Айленде, и родители лишь смутно предполагали причину его отсутствия.
Без брата-близнеца Бобси Ван Дайнем явно тосковал. Он пребывал в подавленном состоянии духа; его любовь к проказам сошла на нет. Он явно уставал от внимания девушек, от партий в теннис, от игр и развлечений, которыми в то лето занималось семейство Ван Дайнем.
Похоже, он был склонен к разговорам – и хотел разговаривать со мной. Как-то на уик-энде я была приглашена в их дом, пришла я и на следующий. Бобси нравилось прогуливаться со мной по пляжу, где он сбрасывал привычную личину и молча смотрел в океан. Он любил гонять по ночам в новой машине «Феррари», но не в той, в которой он потом разбился. Порой он устраивался на балконе вместе со мной, и мы сидели там, слушая танцевальную музыку, которую доносили до нас порывы ветра, случалось, он говорил о Бике или о его дружбе с Констанцей, нередко каким-то окольным уклончивым образом, словно в ней была какая-то тайна, не дававшая ему покоя.
В один из таких вечеров на балконе он после долгого молчания поцеловал меня. Это был грустный, вежливый и полный сочувствия поцелуй, но тогда я этого не знала, у меня не было опыта в поцелуях.
Я должна была бы забыть этот инцидент – я не сомневалась, что Бобси так и поступил, – не будь моего посещения Розы, не будь этого долгого дурацкого подстрекательского разговора. Эти беседы вызывали у меня желание испытать, что такое любовь: расстаться с предположениями, испытать наконец опыт этих тонких странных чувств, о которых я читала в романах; оттуда был всего лишь шаг до убежденности, что я влюблена, особенно когда рядом находилась Роза, дававшая советы и ободрявшая меня.
Фантазии – и те, о которых я узнала из книг, и те, что являлись из рассказов Розы, – обуревали меня. Снова получив приглашение к Ван Дайнемам, вскоре после этого первого разговора с Розой, я вцепилась в Бобси Ван Дайнема так, что мне и сейчас стыдно вспоминать. Мои усилия скорее всего были глупы; они были полны смущения и отчаяния, и они увенчались успехом.
Бобси, который при своей легкомысленности был не очень принципиален и – теперь-то я это понимаю – глубоко несчастен, подчинился. Я флиртовала с ним, в ответ он флиртовал со мной. Мы то и дело выбирались на пляж, часто устраивались на балконе. Здесь, в виду океана, несколько недель спустя Бобси опять поцеловал меня. Он сказал усталым голосом:
– В самом деле, почему бы и нет?
В виду океана, на его фоне началось и так же кончилось мое первое любовное приключение.
Оно было кратким. Если я отчаянно старалась убедить себя, что влюблена, Бобси изменить было невозможно. Я была неуклюжа; Бобси был достаточно юн, никто из нас в то время не понимал, что такое процесс саморазрушения. Бобси продолжал на полной скорости гонять свою стремительную машину, он старался казаться прожигателем жизни и проявлять галантность. Я же отчаянно пыталась не обращать внимания на ширящуюся пропасть между реальностью и ожиданиями.
Несколько недель мы играли полагающиеся нам роли. Мы могли танцевать щека к щеке под пластинки Френка Синатры. Мы отправлялись на долгие ночные прогулки. При лунном свете мы гуляли по пляжу. Мы отчаянно старались подчиняться всем обязательствам, и в конце лета, когда мы оба поняли, что ничего не получается, наш роман завершился.
Мне повезло, ибо я могла испытать куда большее разочарование, попадись мне кто-то менее достойный. Бобси начал роман мило и непринужденно, расстался он со мной не менее изящно. Мы остались друзьями до самой его смерти, что наступила через несколько лет, и вспоминала я все годы нашей дружбы, а не краткий период нашего романа. Вот тогда я и стала понимать очевидное. Бобси не случайно пошел мне навстречу: я была своеобразным заменителем; тем летом я позволяла ему чувствовать близость Констанцы.
Роза, думаю, так и не поняла по-настоящему, что случилось. Я знала, что она не одобрит мои действия, поэтому я трусливо не посвящала ее в подробности. Роза, добродушная и в определенном смысле невинная душа, считала, что у меня роман, который только-только начался. Я не рассказала ей, когда он кончился. Он превратился в достаточно длинный роман, намекала она порой. Пару раз, уже после окончания интрижки, когда я видела в Бобси только приятеля, Роза намекнула мне, что я тяну, что пришло время наследнику Ван Дайнемов браться за ум. Она имела в виду свадьбу. К тому времени было бесполезно спорить и доказывать, что о любви нет и речи, что мы просто хорошие друзья. Роза, выслушав эти протесты, только улыбнулась бы и не поверила.
Я стала одной из ее историй, персонажем репертуара ее фантазий. Роза – потом я выяснила у Френка – доверяла семье свои надежды на меня. Блистательная пара! Она могла бесконечно разглагольствовать на эту тему, спрашивать совета у мужа и детей, как бы ей получше реализовать свои замыслы.
В результате, когда Бобси Ван Дайнем составил мне компанию в доме Розы, что мы позволяли себе и в то первое лето, и потом, наше посещение было встречено градом улыбок, понимающих взглядов и многозначительным молчанием. Бобси счел это забавным, я же – нет. И в двух случаях, когда присутствовал Френк Джерард, он откровенно дал понять, что Бобси Ван Дайнем ему не нравится.
Бедный очаровательный близнец! Мы сидели за шумным вечерним столом Розы в окружении ее толкового потомства, и Бобси с самоуверенностью, свойственной его классу, излагал свои унаследованные идеи, свои плохо осознаваемые политические мнения. Часто он терял нить в середине предложения. Хотя ему было свойственно обаяние, он не отличался ни особым умом, ни аналитическими способностями. Я понимала, что кое-кто из детей Розы сочли Бобси придурковатым. По крайней мере, они оказались достаточно вежливыми, чтобы скрыть свое мнение, чего нельзя было сказать о Френке Джерарде.
Сидя напротив Бобси, он, хмурясь, внимательно присматривался к нему. Пару раз, когда Бобси позволил себе особенно глупые реплики, он реагировал на них точно и остроумно, что подчеркивало несостоятельность Бобси.
В силу воспитания Бобси обладал толстокожестью. Я думаю, он вряд ли замечал такие эпизоды. Да и в противном случае они вряд ли обеспокоили бы его, поскольку Бобси было свойственно прирожденное добродушие, вытекавшее из его происхождения. Это меня беспокоило. Это вынудило меня выступить на его защиту. Я знала недостатки Бобси, но знала также и его положительные качества: он был глуповат и ленив, но способен к доброте и сочувствию. Я также начала понимать, насколько глубоко он несчастлив. Обаятельный Адонис из братства клуба «Брукс», который потерял смысл жизни. Я ненавидела Френка Джерарда за его саркастические замечания. Я сочла, что он вел себя грубо и высокомерно.








