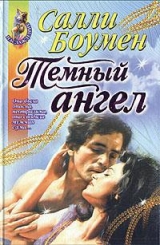
Текст книги "Темный ангел"
Автор книги: Салли Боумен
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 53 страниц)
Окленд, когда вошла Констанца, располагался в кресле на колесиках в нише этого эркера. Он был вымыт, выбрит и переодет – Джейн настаивала, чтобы он всегда был прибран. Тонкие кисти рук лежали на подлокотниках кресла. Худое строгое лицо было повернуто к окну. Свет падал под углом, и ореол волос лучился вокруг головы.
Констанца не поздоровалась с ним. Она взяла стул и села прямо напротив него, спиной к окну. Убедившись, что стул находится в поле его зрения и что глаза его, пусть и невидящие, открыты, она отдернула в сторону портьеру и выглянула из окна.
– Какая панорама, – начала она. – Открывается вид и на лес, и на озеро. Видна даже березовая роща. Там, как ты знаешь, Мальчик и покончил с собой. Это был не несчастный случай. Он вышиб себе мозги одним из своих «парди». Фредди и Стини сами все видели. Прежде чем он это сделал, Мальчик во всем признался Стини. Он рассказал ему, что убил моего отца. Я знала, что это неправда. Я думаю, хотя могу и ошибаться, что ты тоже это знаешь, Окленд.
Констанца села. Она присмотрелась к Окленду. Его лицо и руки оставались неподвижными; взгляд был устремлен в окно. Констанца была слегка разочарована.
– Ты меня слышишь, Окленд? Не сомневаюсь, что да. Почему ты стараешься спрятаться от меня? Почему закрываешься? У тебя ничего не получится. Мы слишком близки. Я знаю тебя, Окленд. Что бы ты ни делал, где бы ты ни был – я все видела. Я вижу тебя до глубины души. Я слышу твои мысли. Я смотрю твои сны. Ты не можешь спрятаться от меня, как и я от тебя. И если ты сделал что-то плохое или видел что-то плохое, я тоже! Я знаю, каково это – хотеть умереть. Пожалуйста, расскажи мне, Окленд, что случилось с тобой на войне? Или это произошло гораздо раньше и тебя снедает чувство вины? Я думаю, вина может так сказываться. Ох, Окленд, прошу, расскажи. Я так жду этого…
Констанца прервалась. Она ждала, перебарывая дрожь в руках. Тишина в комнате сгущалась. Окленд продолжал оставаться неподвижным.
– Неужели ты хоть раз не можешь посмотреть на меня? Я знаю, ты хочешь на меня глянуть, – сказала Констанца и, поскольку Окленд не пошевелился, вздохнула. Поднявшись, она стала вынимать заколки из волос. – Очень хорошо, – понизив голос, сказала она. – Ну и пусть. Я не собираюсь сдаваться. Смотри, Окленд, и слушай. Я покажу тебе себя. Я хочу убедиться, в самом ли деле ты мертв.
Она встряхнула головой, и волна волос хлынула ей на плечи. Затем медленно и аккуратно, словно была одна в комнате, она стала расстегивать пуговички платья. Распятие, один из подарков Штерна, которое в силу какой-то прихоти нерелигиозный муж преподнес своей нерелигиозной жене, скользнуло ей в ложбинку груди. Констанца прижала его ладонью к голой коже. Она слегка поежилась.
– Теперь я совсем одна. Никто меня не видит. Никто на меня не смотрит. Терпеть не могу, когда на меня смотрят. Так хорошо быть в тишине и секретничать сама с собой. Ты знаешь, порой мне грустно врать и вести себя так, словно на меня смотрит весь мир. Но когда приходится, я так и поступаю, вот что я делаю. Я вхожу сюда. Вхожу в этот маленький круг. А, вот я его и вижу! Вот он.
Вытянув носок, она провела им по полу небольшую дугу.
– Понимаешь, Окленд? Невидимый круг. Но ты-то его видишь. И я. А больше никто. Круг со стенами из стекла. Они очень прочные. Никто не может проникнуть к нам сюда, а когда мы за ними, то можем делать все, что угодно. Показать тебе, что мы будем делать? Мы прогоним тьму.
Теперь Констанца была уверена, что Окленд видит: она почти физически ощущала, как его взгляд касается ее кожи.
– Слушай, – сказала она, – я хочу рассказать тебе историю о Констанце и о ее любовнике. Его имя было Окленд. Он был единственным, которого она когда-либо любила и когда-либо хотела. Вот он был каков: он был ее врагом и ее другом, ее братом и ее доверенным. Какую из историй ты хочешь услышать? Их так много, есть, из чего выбирать. Он являлся к ней в самых разных обликах. Когда она была ребенком, он прилетал к ней огромной белой птицей! Он поднимал ее на своих крыльях, и они вместе облетали весь мир. Это одна история – я могу ее рассказать. Или я могу рассказать, как он приходил к ней человеком – и очень часто. Ночь за ночью. Он ласкал ее: сначала волосы – он так любил их; потом шею, затем грудь и потом бедра. Однажды они лежали вместе в снегу, и он заставил ее тело истекать слезами. Как-то они оказались в лесу, а в другой раз опустились на ступеньки лестницы, часто они скрывались вместе в большом шкафу, прижимаясь в темноте друг к другу среди одежды, и его руки были грубы и жестоки. В тот раз, когда она ласкала его, он был тверд, как металлический стержень, а когда она попробовала его на вкус, это был вкус бога. Вот как это было. Вот как это есть.
Констанца остановилась. Она издала слабый стон. Она плотно обхватила себя руками.
– И так продолжалось и продолжалось, год за годом, целое столетие. Расстаться было невыносимо, ибо казалось, что умираешь. Но не так давно случилось нечто ужасное. Как-то ночью он пришел к ней в комнату. Он взял ее на руки и сказал, что вернулся из мертвых. Он рассказал ей, что значит пересечь эту границу. Это было такой тайной! Он раскрыл рубашку и показал ей рану, которую получил прямо под сердце. Затем он сделал колечко из своих волос, своих светлых волос, и надел его на палец с обручальным кольцом. Она стала его суженой и его же вдовой. Понимаешь, она знала, что ему придется покинуть ее. И он в самом деле ушел. Он оставался с ней всю эту долгую ночь и затем ушел… когда настало утро. Это ты ушел.
Констанца вскинула голову. Она открыла глаза и в упор уставилась на Окленда.
– Ты ушел. Ты оставил меня. Я думала, что ты никогда не вернешься. Я думала, что это конец, моя кара и мой приговор: всегда быть одной. – Она помолчала. – И если так, мне придется искать свой путь, чтобы выжить. Я не умерла – не в прямом смысле слова, но должна была обрести уверенность – навсегда ли ты ушел или еще вернешься. Ты так и будешь сидеть? Я хочу коснуться тебя.
Окончив свой рассказ, Констанца встала. Ноги у нее подкашивались, комната перед ней вращалась. Она сделала шаг вперед, еще один. Склонившись к нему, она вгляделась Окленду в глаза. Она расстегнула воротник его рубашки, и ее ручка скользнула туда. Она уже была знакома с этим шрамом; она прижала к нему ладонь.
* * *
«Вот чего я хотела: стать волшебницей, –написала она. – Я хотела стать для Окленда его Цирцеей. Поэтому я и рассказала ему историю нашей любви и предстала перед ним обнаженной. Если его не тронут мои слова, то он увидит мое тело. Мужчины таковы. Думаю, им нравится моя кожа и мои рассказы.
Мои губы были так близки к его, что почти касались их. Окленд не был так уж мертв – это я увидела. Я могла коснуться его, чтобы убедиться в этом, – и мне этого слишком хотелось, но я сдержалась. Я решила, что он должен подать мне какой-то знак, и в конце концов он это сделал.
Он поднял руку. Я подумала, что он хочет коснуться моей груди. Но он прикоснулся к крестику, который подарил мне Монтегю. Его ладонь прошлась по моей коже. Он плотно сжал крестик в руке. Думаю, он чувствовал, как бьется мое сердце.
Я ждала. Из всех углов комнаты доносились шепоты, и воздух колыхался вокруг нас, а затем я решилась. Этого было достаточно. Я была едва ли не рада, что он не коснулся меня! Я не хотела, чтобы у нас все было, как полагается. Я перешла к следующему действию. Осталось совсем мало времени, и я должна была спешить. Я должна действовать практично и деловито.
Я доверху застегнула платье и вновь устроилась на своем стуле. Затем, удостоверившись, что он смотрит на меня, а не сквозь меня, я стала выкладывать ему факты, один за другим, как карты на стол: Мальчик, Дженна, Дженна и ребенок. (Я рассказала ему, как заботилась о его ребенке.) Я все объяснила относительно денег, которые его отец должен Монтегю. Я объяснила, как хочет Монтегю прибрать Винтеркомб. Я остановилась всего на мгновение. У Окленда было мертвенно-бледное лицо.
Я подумала: может, он испытывает чувство вины. Может, он чувствует себя виноватым перед Дженной и ребенком – он мог. Думаю, я понимаю принципы, из-за которых приходит чувство вины, но сомневаюсь, могу ли их чувствовать. Я не могла, даже когда погиб Мальчик. Что-то во мне противилось. Но Окленд был совсем другим – я-то знала. Поэтому я попыталась объяснить: вина – это бесполезная эмоция. Он не в силах изменить прошлое, сказала я, но в его силах определить будущее.
Встав, я подошла к окну. Я показала ему на сад, озеро и лес. Я сказала, что сомневаюсь, имеет ли все это для него значение, или он просто обязан беречь все, но в таком случае, если он стремится сохранить этот мир для себя, или для своих братьев, или для каких-то детей, которые еще могут у него появиться, все может принадлежать ему. Даже сейчас. Монтегю всем сердцем прикипел к этому месту, сказала я, но даже Монтегю можно уговорить, если только Окленд будет меня слушать. Все, что Окленду нужно, дабы сберечь свой дом, – это богатая жена. И кто же, добавила я, подходит тебе больше, чем Джейн Канингхэм?
Я снова села. Я стала перечислять все достоинства Джейн. Она исключительно богата и может оплатить все долги Дентона, спасти Винтеркомб и едва ли даже заметит расходы! Я напомнила ему, в каком он долгу перед Джейн. Ведь, кроме всего, она спасла ему жизнь и выхаживала его с таким терпением, которого я в ней не подозревала.
Я указала ему, что Джейн вот уже много лет любит его. Думаю, это удивило его: Окленд мог быть на удивление бестолковым. Поскольку она питает к нему такую любовь, сказала я, жениться на ней будет единственным способом заплатить ей этот долг. А если он считает мой подход слишком торгашеским, то, без сомнения, найдет способ возместить ей расходы – талантами он не обделен!
Мне показалось, что я не смогла убедить Окленда. У него было такое замкнутое лицо, такие холодные глаза. Я еще основательнее стала нажимать на него. Я сказала, что вполне понимаю, если он сочтет эту идею не очень привлекательной, но ведь, кроме всего прочего, Джейн станет ему великолепной женой, а со временем и образцовой матерью.
Подумай, Окленд, сказала я. Она умна и отважна. У вас так много общего. Она своими глазами видела, что такое война. Вы любите одну и ту же музыку и читаете одни и те же книги. Конечно, продолжала я, – и тут изобразила легкое смущение, – есть определенная несогласованность. Не могу себе представить, что ты в восторге от Джейн. Но если после нескольких лет семейной жизни ты почувствуешь необходимость в новых стимулах… то сможешь их себе позволить, хотя я не сомневаюсь, что ты будешь достаточно осторожен. Ты никогда не позволишь себе обидеть Джейн или другого человека, не принесешь им ни малейшего вреда. Так что, как видишь, ты будешь для нее идеальным мужем!
Мне показалось, что к тому времени Окленд уже устал – я видела, как напряглось его лицо, – и подумала про себя: он этого не сделает, он выберет бритву. Я торопливо закончила. Осталось лишь одно. Сущая мелочь. Если ты женишься и будешь жить здесь, тогда время от времени я смогу видеться с тобой. Ведь если я буду жить в доме Пиля – а я буду! – мы с тобой станем соседями. Мы сможем…
Тут я остановилась; мне не хотелось говорить ему все, чем мы сможем заниматься. Я и так знала, что Окленд понял меня. Я знала, что он мечтал об этом. Думаю, что тогда я ожидала услышать его голос. Когда этого не произошло, я обеспокоилась. Я с трудом могла удержать руки на месте. Я попыталась объяснить: вот почему мне хочется, чтобы так все и было, чтобы мы были и близко и далеко в одно и то же время, бок о бок – и отдалены друг от друга. Мы не должны даже прикасаться друг к другу, но можем думать друг о друге: это самая лучшая любовь, она никогда не блекнет.
Я вышла из себя от необходимости объясняться и все выкладывать таким дурацким образом. Я знала, что и он это понимает, ибо всегда воспринимал мир, как и я.
Наша тайная любовь. От гнева и возбуждения меня даже заколотило. Я ощутила паленый запах пылавшего во мне гнева. Я понимала, что должна торопиться. Настало время преподнести ему два подарка. Я подошла к его креслу и встала перед ним на колени. В кармане у меня была бритва, и я извлекла ее. И сжала в правой руке.
Я наклонилась вперед. Посмотрела ему в глаза. Во мне все искрилось! Я прижала губы к его губам. Я ощущала их вкус. Я позволила ему поцеловать меня. Вот твои подарки, сказала я: смерть в правой руке и жизнь – в левой. Выбирай, Окленд.
Окленд долго не отрывал глаз от бритвы. Похоже, она удивила его, хотя он должен был знать, что я принесу ее. Чтобы помочь ему принять решение, я открыла ее. Она была очень острой. Я чиркнула лезвием по ладони. Края разреза разошлись, как губы. Хлынула кровь. Поднеся руку к его лицу, я сказала: «Попробуй ее, Окленд. Я знаю, ты знаком со вкусом крови и ее запахом. Ее вкус поможет тебе найти дорогу. Ты этого хочешь? Если так, берись. Я помогу тебе, обещаю. Найду твое запястье или горло. Я помогу тебе не промахнуться и буду рядом с тобой, пока все не кончится. Дверь закрыта. Обещаю тебе, что не начну плакать или кричать – я не как другие женщины. Я знаю, что смогу это сделать, и если ты хочешь меня, я готова. Выбирай, Окленд.
Его пальцы сомкнулись на моей кисти. Мне показалось, что он вывернет мне руку. Бритва взлетела в воздух и свалилась на турецкий ковер у ножек комода.
Окленд сказал: «Ты необыкновенная женщина. Ты самая необыкновенная женщина из всех, что я видел в жизни».
Думаю, он сказал именно это. После того, как выбрал.
Я подобрала бритву. И сунула ее обратно в карман. Вот так это было. Мне хотелось сказать Окленду, что женщина, которую он любил, была не столь уж необыкновенной: она была… так, случайностью, легким капризом судьбы. Слишком многое неправильным образом сплелось воедино. Такая уж ей выпала доля от рождения – или, может быть, она появилась на свет, чтобы стать такой. Хотя я этого не сказала; я знала, что в этом нет необходимости. Окленд любил меня за живущие во мне противоречия и разнообразие. Он знал, что я могу предстать перед ним любой и всякой. Я могла стать его маленькой девственницей или маленькой шлюхой, его маленькой святой или юной грешницей. А он мой фантастический, непредсказуемый мужчина, который познал смерть и вернулся обратно, который мог бы покончить с собой ради меня. Окленд, единственный мой, смелость твоя не имеет границ!
Я подошла к дверям и коснулась выключателя. Снаружи уже темнело, и в комнате сгущались сумерки. Я включила свет. И снова выключила его. Смотри, Окленд, сказала я. Вот она я. И вот меня нет. Затем я покинула его.
Я вернулась к Монтегю. Мы занимались любовью, но она была грубовата. Мне это нравилось. Мне нравилось чувствовать себя во власти мужских рук. Все же я не могла не сопротивляться, если он входил в меня. Я осторожно спросила его, имел ли он так и других женщин? Да, пару раз, но это было давно и не должно меня волновать.
Он вот-вот был готов пожалеть меня, подумала я, и мне этого не хотелось. Притворюсь в следующий раз, решила я. Доведу его до экстаза.
– Ты почитала Окленду? – спросил он, когда мы переодевались к обеду.
Я ответила, что да, почитала. Я сказала, что книга называлась «Антиквар» – сюжет был непонятен, но читала я очень выразительно.
* * *
Джейн появилась у Окленда час спустя. Медсестра, решив, что Окленд задремал, оставила его сидеть в кресле у окна. Джейн, увидев, что глаза у него открыты, остановилась в дверях. Она подумала: он видит перед собой войну.
Она постаралась вернуться из Лондона как можно скорее. Пересекая холл внизу, она заметила Гвен, в одиночестве сидящую в гостиной. Голова ее была опущена, и весь облик изображал неизбывную скорбь.
Зрелище ее фигуры лишь подхлестнуло Джейн. Она знала, какая печаль владеет Гвен, она знала, сколько усилий ей стоит входить в комнату сына, говорить с ним, читать ему, оставаясь веселой и раскованной. Джейн взбежала по ступенькам; она была полна злости и негодования. У нее частило сердце. Пусть то, что она собирается сказать, противоречит всем ее установкам как медсестры, но она скажет. Она думала: «Я не позволю ему больше причинять такую боль своей семье. Не позволю. Это эгоистично».
Оказавшись рядом с ним, она опустилась на колени у кресла и сжала его руки. Сгустилась вечерняя тьма. Тени размывали черты лица Окленда, но даже в полумраке она увидела, что Окленд плакал.
«Меня по-прежнему потрясает, когда мужчина плачет, –написала она, – и всем сердцем я устремилась к нему. Я так любила его. Мое тело томилось по нему. Я прикидывала, что я скажу ему, какие выложу аргументы; но когда дошло до дела, все смешалось – и любовь, и гнев, и негодование. Думаю, что говорила я очень сбивчиво».
Джейн хотела, чтобы он понял: что бы ни случилось во Франции, что бы он там ни делал или чему ни был бы свидетелем, он все же остался в живых. Он получил самый драгоценный дар из всех – жизнь. Сколько десятков тысяч человек – да что там, миллионов! – были лишены его? Они никогда не вернутся, пройдет время, и битвы, в которых они пали, будут забыты.
Когда война наконец завершится, предположила Джейн, возведут военные кладбища, и люди станут посещать их. Начнут праздновать какие-то годовщины. Но будем ли мы помнить их? Под каждым из этих надгробий лежит человек; каждый крест отмечает историю жизни. Те, кто любил павших, будут помнить их, но когда и они уйдут, что останется? Неизвестность. Забвение. Люди очень быстро забывают войны.
Голос Джейн дрогнул, она заплакала. Она хотела заставить его увидеть, что поведение его совершенно неправильно. Это было больше, чем ошибкой; это был грех. Бог наделил его жизнью – а он швырял сей дар Ему обратно в лицо.
Говорить это было глупо, она это сразу же поняла. Окленд не верил в Бога – разве что война вернула ему веру, но вряд ли. Джейн попыталась начать все снова. Она старалась говорить четко и понятно. Ему так повезло, перед ним открывается жизнь, он вернулся с войны с руками и ногами, не калекой, здесь его окружает весь мыслимый комфорт, вокруг него семья, которая любит его… Джейн была преисполнена сил и решимости, но опасалась, что слова звучат банально, избито и глупо. В конце концов, видимо, окончательно разозлившись на себя, она сказала:
– Я люблю тебя, Окленд. Все эти годы, всегда, с начала мира я люблю тебя.
Он не пошевелился, не повернул головы, не приподнял руки, но Джейн была уверена, что он понял все. Горькая злость пронзила ее: он даже не позаботился дать хоть еле заметный знак, что слышал ее слова.
Джейн отошла к окну. Снаружи было темно. Из леса доносилось уханье совы. У нее давило в груди, и горло жгло так, что она не могла говорить, но силы в ней не иссякли. Она сказала:
– У меня есть своя жизнь, Окленд. И я должна жить ею. Я прекращаю ухаживать за тобой. Я люблю тебя, но расстаюсь с тобой. Я могла бы помочь тебе жить, если бы думала, что мне это по силам. Но я не хочу помогать тебе умирать – тем более когда в этом нет необходимости. И я презираю тебя за это. Я ненавижу тебя за то, что ты делаешь со своей матерью и с другими членами семьи. Есть люди, которым досталось гораздо больше тебя и которым живется куда хуже. Ты знаешь, о чем говорит твое кресло на колесиках и твое молчание? О трусости.
Джейн не оборачивалась, просто смотрела в окружающую дом темноту. «Подумалось: мне уже двадцать девять лет. Я помнила о сиротских домах, о деньгах, с помощью которых я могу сделать столько добра. Я услышала неясный звук. Сначала я не поняла, что он означает. Затем догадалась. Это был голос Окленда. Он произнес мое имя».
* * *
Он произнес ее имя трижды. Джейн повернулась, и Окленд протянул к ней руку. Он сказал:
– Я могу говорить. И двигаться. И думать. И чувствовать. Ты заставила меня… устыдиться.
Джейн сдавленно вскрикнула. В комнате почти не было света. Она видела лишь очертания коляски и фигуры Окленда. Бледное пятно его лица было почти неразличимо. На мгновение ей показалось, что она себе все это вообразила и Окленд по-прежнему сидит в кресле недвижимо, но тут она поняла, что ошибается. Из глаз ее хлынули слезы. Она сделала шаг вперед, еще один. Она увидела протянутые к ней руки, и, сжав их, она опустилась на колени.
– Ты обрезала волосы… – Пальцы Окленда коснулись ее шеи. Он пропустил прядь ее волос между пальцами. Джейн подняла глаза. – Я узнал тебя. Еще в пещерах… в Этапле. – Голос у него был тихим и медленным. Он запинался на согласных, словно бы не доверяя им. Джейн увидела, что в глазах его блеснула искорка, а затем его лицо опять обрело замкнутое сосредоточенное выражение. – Я узнал твой голос задолго до того, как ты подошла к моей койке. Я хотел подать голос, но не мог.
Он склонил голову. Джейн медленно протянула руку и коснулась его лица.
– Я всегда думал о тебе… – Остановившись, он продолжил: – Я думал о тебе как о будущей жене моего брата. Я… я не мог представить себе…
Джейн отдернула руку.
– Все хорошо, Окленд, – начала она. – Я это знала.
– Нет. Ты не понимаешь. Ты вообще не понимаешь. Я чувствую себя смертельно усталым. Думаю, что не могу даже объяснить. Если бы ты только могла вглядеться в меня…
Именно тогда в душе Джейн зародилась надежда. Она пыталась не давать ей воли, она говорила себе, что надеяться не на что, но с надеждой не так-то легко справиться. Джейн смотрела в глаза Окленда, разница цвета которых всегда волновала ее, но она неизменно любила их разноцветье. Выражение, которое сейчас в них было, она никогда раньше не видела и не надеялась увидеть.
– Окленд… – начала она.
– Я знаю. Разве это не странно? – Его руки сомкнулись вокруг нее. – Мне это никогда не могло прийти в голову. И тем не менее пришло… так сильно. Наверное, чувство было всегда. Просто я его не видел. Думаю, оно как-то промелькнуло. Раз или два. – Он поднял руку и коснулся ее щеки. – Сколько света у тебя в глазах. – Он позволил руке упасть. – И твои волосы… их шапка, словно шлем. Ты сейчас говорила с такой силой. – Он помолчал. – Это было смело – говорить такие вещи. Ты всегда была такой смелой? Почему я никогда этого не замечал?
– Нет. Нет. Я не была смелой, – быстро ответила Джейн. – Совсем нет. И если я изменилась…
– Иди ко мне.
Окленд встал. Он повлек ее за собой к окну, где они и остановились, глядя на Винтеркомб. Джейн видела, как клочья облаков затягивают луну, как ее свечение то меркнет, то вновь возникает. Затем Окленд повернулся к ней.
– Ты изменилась. Когда это произошло? И почему?
Джейн подумала: «Теперь я перестала быть для него невидимкой. И, может, никогда больше не буду ею».
– Скорее всего из-за моей работы, – сказала она. – Я повзрослела. И из-за войны…
– Ах, война, – ответил Окленд и привлек ее к себе.
* * *
Прочитав рассказ своей матери, я оставила Векстона развалившимся в кресле и вышла в сад. Я прошла к озеру и в березовую рощу; я очутилась в том мире, который когда-то тут был, в той ночи, когда в высоком эркере окна стоял мой отец, пришедший в себя.
Я услышала голос моей матери, и он был более отчетлив, чем за все тридцать лет: он снова вернул меня в детство. Я увидела ее такой, какой она была: тихое достоинство и ощущение надежности. За первые восемь лет моей жизни она никогда не дала мне повода усомниться в ее любви и внимании ко мне. Она никогда не позволяла себе сердиться, что было свойственно Констанце, из-за пустяков: мол, ей не подошло платье или не устраивала прическа. Она была лишена тщеславия. Гнев у нее могла вызвать лишь ложь. Такова была моя мать: теперь и меня коснулись ее сила и мужество. Она была великолепной женщиной. И чем я отплатила ей? Неверностью.
Я позволила, чтобы ее облик поблек в моей памяти; я позволила себе забыть; я позволила Констанце занять ее место. Я понимала, что могу найти себе извинения. Моя мать умерла еще молодой, а живые, как правило, занимают место мертвых. Доброта не самое бросающееся в глаза качество, порой она даже кажется глупой. О, извинений я могла найти более чем достаточно, но я презирала себя за это.
Я думала о супружеской любви, которая тоже может показаться утомительной и глупой, хотя и не сомневалась, что она приносит полное удовлетворение жизнью. Я хотела верить в рассказ моей матери, в то, что именно ее любовь излечила отца. В этом смысле, думала я, все мы остаемся детьми: нас не покидает необходимость верить в любовь, в силу которой мы и появились в этом мире – и даже задолго после того, как мы достигаем возраста, когда становится ясно, что такой необходимости и необязательно присутствовать. Вечная любовь, счастливая сказка, которую рассказывают детям на ночь: я страстно хотела верить, что это история моих родителей, что она истинна. Но, конечно, были и сомнения: они родились стараниями Констанцы.
Тогда я была близка к тому, чтобы возненавидеть ее. Я ненавидела ее за надменную уверенность, с которой она писала, за наглое предположение, что между ней и моим отцом существовали какие-то узы, за убежденность, что именно она обеспечила брак моих родителей, что это была торговая сделка, брак по расчету.
Ничто из воспоминаний о моих родителях не давало оснований так считать; если бы мне пришла в голову подобная мысль об отце, она была бы богохульством. Но все же существовали какие-то смутные сомнения, которые не покидали меня. Ко времени моего возвращения в дом я не сомневалась, что дар Констанцы из прошлого был сознательно направлен на причинение зла: и теперь я смотрела на ее дневники с неприязнью и подозрительностью.
Векстон, очнувшись от дремоты, зевнул и потянулся.
– Итак, – сказал он, – что же произошло дальше?
Я кое-что об этом уже знала, поскольку успела прочитать дальше. И я читала – лучше признаться в этом, – чувствуя злобное удовлетворение.
– Констанца получила отменную взбучку, – ответила я.
– Отлично, – сказал Векстон.
* * *
Когда новость об обручении Окленда с Джейн достигла Констанцы – даже непосредственным членам семьи Окленда об этом было сообщено лишь через несколько недель, – Констанца пустилась танцевать по гостиной того дома, который они снимали в Лондоне. Известие пришло к ней в виде письма от Гвен, Констанца кидала в воздух его листки. Она позволила им разлететься по ковру. Затем собрала. Мощь ее желаний была неодолимой, сопротивляться им было немыслимо: она целовала листки один за другим.
Это ощущение весь день не покидало ее. Она держала его при себе, дожидаясь возвращения мужа. Но даже и тогда она еще какое-то время крепилась. Когда лучше всего выложить новости? Как преподнести? Наслаждение – а Констанца любила лелеять секреты – было чрезмерным.
В течение всего обеда она не обмолвилась ни словом. Она вела себя перед мужем, подобно актрисе на сцене. Глаза ее сияли, щеки раскраснелись; тонкие кисти рук, поблескивая искрами колец, описывали круги в воздухе, когда она болтала. Вокруг запястья обвивался ее браслет в виде змейки; одно кольцо, второе, третье. «На этот раз я его перехитрила», – думала Констанца.
После обеда она повисла на руке мужа. Сначала она расцеловала свою собачку, потом его. Она играла одну из своих любимых ролей, этакой девочки-кокетки. Бросив на него игривый взгляд, она напомнила ему, что сегодня прием, на котором они обещали присутствовать, с подчеркнутой беззаботностью она дала ему понять, что куда интереснее было бы остаться дома.
К десяти, осыпая его поцелуями и что-то нашептывая, она вытащила его на лестницу. В десять пятнадцать, сначала якобы смущаясь, а потом откровенно, она разделась. В десять тридцать она уже затащила Штерна в постель. Она вскарабкалась на него. Она заплела свои ручки вокруг его шеи. Ногами она обхватила его за талию. «Я доведу его до экстаза, – сказала она себе, – а потом все расскажу».
За ее супружеским ложем висело зеркало. Констанца видела в нем себя. Она вздымалась и опадала. Кожа ее была нежно-розового цвета. Длинные смоляные волосы рассыпались по плечам. Губы были красны, как кровь. «Говори со мной, возбуди меня, – шептала она. – Мне это нравится».
Когда все закончилось, она еще какое-то время полежала в руках своего мужа. Она чувствовала блаженное изнеможение. На секунду ей захотелось погрузиться в сон. Закрывая глаза, она прикинула, сколько времени может себе позволить. Сколько ей еще подождать? Пятнадцать минут? Десять? И еще, стоит ли, упомянув об обручении, сразу же сказать, что она предпочла бы перебраться в дом Пиля, или подождать? Нет, она больше не выдержит оттяжки. Она выложит известие о помолвке, а потом, подчеркнув, насколько Окленд теперь увлечен Джейн, поднимет вопрос о доме.
Констанца села. Она очаровательно зевнула и потянулась.
– Монтегю, – начала она, – у меня есть кое-какие новости.
– Минутку, дорогая. – Штерн поднялся с постели. Он подошел к своему письменному столу, открыл его и повернулся. – Подарок для тебя, Констанца, – сказал он.
Констанца сразу же отвлеклась. Она с детским удовольствием получала подарки, а Штерн умел быть великодушным. Хотя этот подарок оказался довольно странным – два конверта. С вежливостью, которая сразу же заставила ее насторожиться, он положил их ей на колени.
Констанца открыла конверты. Какое-то время она рассматривала их содержимое. На спине кожа пошла мурашками. В руках ее были два билета на океанский лайнер.
– Что это? – сдавленным голосом наконец произнесла она.
– Ясно, что это такое, Констанца. Один для тебя, другой для меня. Смотри, тут и наши имена написаны.
– Это я вижу! – Констанца склонила голову, пряча лицо. – Тут есть и дата. Это в следующем месяце.
– В декабре. Да. К Рождеству, моя дорогая, мы будем в Нью-Йорке.
– В Нью-Йорке? Каким образом мы можем там оказаться? Ведь война продолжается.
– Пусть так. Но лайнеры курсируют. Путешествовать вполне возможно. Поездка не может быть отложена.
Констанца и так это поняла по ровному непреклонному тону его голоса. Она рискнула бросить взгляд на мужа. Он сидел рядом с ней, невозмутимо, с легкой улыбкой на губах, наблюдая за ней.
– И как долго мы там останемся, Монтегю? Месяц? Два месяца?
– О, гораздо больше, не исключаю, что навсегда.
Констанце не понравился тон, которым это было сказано. Под покровом внешней вежливости она, похолодев, почувствовала нотку триумфа. Она позволила себе застонать.
– Навсегда? – Она притянула к себе мужа. – Монтегю, дорогой мой, не дразни меня. Как мы сможем жить в Нью-Йорке? Все твои дела здесь. Банк. Заводы вооружения…
– О, я уже от всего избавился, – небрежно ответил Штерн. – Разве я не упоминал? Участие американцев в войне довольно обманчиво, как я чувствую. Долго оно не продлится. И я все продал – за более высокую цену, чем уплатил год назад.








