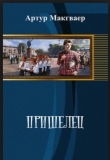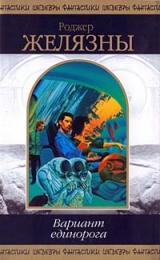
Текст книги "Вариант единорога"
Автор книги: Роджер Джозеф Желязны
Жанры:
Научная фантастика
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 54 страниц)
Коллекция Малатесты
Мне будет не хватать этих книг. Может, я просто стареющий пережиток тех развратных времен, однако мне нравится думать, что в моей привязанности есть и чисто научный интерес.
Но я ведь помог обнаружить их, и это единственное, что удерживает меня здесь теперь, когда их спрятали.
Не заблуждайся на этот счет, Космический Глаз, я говорю не от себя лично. Во всех нас есть что-то от меня, так же, как от Пола Малатесты.
Роден сейчас как раз взбирается на платформу. Книги спрятаны в ящик, ящик замурован в угловой камень, а статуя задрапирована.
Сегодня исполняется год с тех пор, как он сделал это открытие, совершенно случайно. Он копался в яме, этот чокнутый скульптор, раскапывал дыру во Времени. Это была одна из тех неразобранных насыпей, где иногда находят фрагменты древних цивилизаций. Он частенько ковыряется в них, надеясь наткнуться на бюст, торс или кусок фрески. Время от времени он наталкивается на потрясающие открытия.
Но коллекция Малатесты единственная в своем роде.
– Этот случай заслуживает некоторых комментариев,– начинает он.– Продиктовано ли это его печальной известностью или той ценностью, что он может представлять для историков, этого я сказать не могу. Но одно я могу сказать,– продолжает он.– То, что вы делаете,– неправильно. В свете вечных ценностей, вы совершаете грех, хороня то, что еще живо.
Вокруг него на платформе теснятся встревоженные лица. Но никто его не прерывает; никакое сопротивление невозможно перед массивным достоинством его девяноста лет. И он продолжает:
– Я добровольно принял участие в этой церемонии, потому что каждая могила заслуживает памятника, и это так же верно, как то, что корни порождают дерево. Каждый ушедший заслуживает достойного слова, хотя бы и с опозданием на столетия. Мы вызвали их на свет божий на краткий миг, и вы, дети света, были потрясены, ибо они оказались живыми. Теперь вы их хороните вновь, и меня, их отчима позвали, чтобы увековечить то, что вы делаете. Я ненавижу вас, всех вас. Но вы должны выслушать меня – вы слишком вежливы, чтобы отказаться,– и, без сомнения, вы будете аплодировать, когда я закончу. Я помню день, когда мы нашли их...
Я тоже помню тот день. Его сухенькая фигурка в неизменном поношенном плаще ворвалась в мой кабинет, подобно стреле. Дверь громыхнула о стену, и он запрыгал с ноги на ногу перед моим столом:
– Идем, быстро! Я нашел душу наших предков!
Он заметался, как ласточка, сделав несколько ложных выпадов к двери, хлопая себя по карманам, и тут вдруг заметил, что я даже не встал.
– Поднимайся на ноги и идем со мной! – приказал он.– Это слишком долго ждало нас!
– Сядьте,– сказал я ему.– У меня через полчаса лекция по Древней Литературе. Лишь нечто в высшей степени важное может отменить ее.
Его белые усы разлетелись в стороны.
– Древняя Литература! Все еще умиляетесь Памелой и Давидом Копперфильдом? Позволь мне сказать тебе кое-что: есть вещи гораздо более великие, и они у меня!
У Родена была Репутация.
Он был чудаком, почти парией, игрушкой богатых, хотя и швырял им оскорбления прямо в лицо, друг художника, которого он всегда воодушевлял на труды, хотя и в инфантильной манере,– человек богемы в эпоху, когда богема не может существовать, поставщик дешевого искусства за комиссионные, творец искусства, которое осталось незамеченным. Величайший из живущих скульпторов.
В конце концов он уселся в кресло, едва не превратив меня самого в статую своим величием.
– Я не упрямлюсь,– извинился я.– Просто у меня свои обязательства. Я не могу срываться с места, пока не знаю, за чем предстоит охотиться.
– Обязательства,– повторил он обманчиво мягким тоном.—Да, пожалуй, это важно. В наши дни каждый пеняет на обязательства. Немного осталось людей свободного духа, охотников за Граалем, которые поверили бы старику на слово, что существует нечто действительно важное, на что можно потратить час-другой.
Мне было больно это слышать, потому что я уважаю его больше, чем кто бы то ни было – за энциклопедические познания в искусстве, за его зажигательную эксцентричность и за тот холодный огонь, который пылает в его работах.
– Простите,– сказал я.– Расскажите мне, в чем дело.
– Ты – преподаватель литературы,– возвестил он,– Я нашел для тебя непрочитанную библиотеку.
Я глотнул, зажмурился, и перед моими сомкнутыми веками поплыли полки с книгами.
– Старые книги? – прошептал я.
Он кивнул.
– Насколько старые?
– Многие относятся к девятнадцатому и двадцатому -векам, но есть множество более древних.
Меня затрясло. Сколько лет мечтал я о такой находке! Насыпи в основном содержали мусор: бумага столь недолговечна.
– Много? – спросил я.
– Много,– признался он.
– Мне нужно сказать секретарю факультета, что лекции не будет,– Я встал.– Вернусь через минуту. Это далеко?
– Час езды.
Я полетел по коридору, сбрасывая с себя обязательства, словно перья.
Осмотрев их, мы не могли поверить в свою удачу. Их было так много, и все превосходно сохранились во тьме веков. Мощные стены строения уберегли их от влаги, старения, насекомых...
Я перебирал их дрожащими руками. Бэкон? Легендарный Шекспир, от которого до нас дошло только имя? Могли ли они так говорить? Я был очарован. Великолепная язвительность Марка Твена сохранилась – но это!
Я осторожно закрыл 1601и вложил в защитную упаковку, которую захватил с собой. Открыл книгу, принадлежащую перу человека по имени Миллер.
Через десять минут мне стало плохо, очень плохо. Я взял бутылку вина, которую Роден извлек из-под плаща. Пока я пил, он хранил молчание.
Пристроившись в углу, он делал странный набросок в свете свечи.
То, что осталось от двух человеческих существ, покоившихся на том, что осталось от кровати. Я старался не смотреть в том направлении, но их позы не вызывали сомнения. Но мои глаза то и дело обращались на руки скелетов. Я видел, что они лежали обнявшись, когда упала бомба; я ощущал, как бетон сотрясался от взрыва, тщетно пытаясь остановить радиацию, поглотившую его создателя. И вот теперь скелет обнимал скелет в саду из книг, скаля зубы в адрес живых созерцателей.
Я сделал вид, что изучаю «Молль Фландерс», заслонившись книгой от этого зрелища.
– Это место называли убежищем отшельника, не так ли?
– Верно. Многие люди строили их перед темными временами.
– И этот человек,– я взглянул на изящный экслибрис на странице «Кама Сутры»,– этот Пол Малатеста подготовил свое убежище довольно необычным образом, правда?
– Не знаю.– Он захлопнул альбом.– Не знаю, как они мыслили в те дни, но думаю, он оснастил его тем, что лелеял всю жизнь.
– Я преподаю литературу,– размышлял я вслух,– но никогда не слышал об этих книгах: автобиография Харриса, «Стихи по разным поводам» Рочестера, «Непристойности», «Гамиани», «Шлюхи», «Фестиваль любви» Корайата.
– Значит, пора услышать,– отозвался он,– поскольку они перед тобой.
– Но язык,– запротестовал я,– и предмет описания... все это так... так...
– Грубо? – подсказал он.– Приземленно? Примитивно? Сортирно? Неприлично?
– Да.
– Я нашел это место вчера. Всю ночь читал. Нам нужны эти книги, если мы хотим иметь верное представление о наших предках и самих себе.
– Самих себе?
– Да. Тебе бы лучше почитать вон те книги,– показал он на полку,– написанные неким Фрейдом. Ты думаешь, человек абсолютно рационален и морален?
– Конечно. Мы уничтожили преступность, образование стало обязательным. Мы далеко ушли от своих предков, как в этическом, так и в интеллектуальном плане.
– Чушь! – вновь фыркнул он.– Основополагающая природа человека оставалась неизменной на протяжении всей истории, насколько я могу понять.
– Но эти книги!..
– В те времена они уже летали на Луну, побеждали болезни, от которых мы страдаем до сих пор. Они признавали демонический дух Диониса, который живет в каждом из нас. Книги, которые дошли до нас, были просто наиболее многочисленными – маленькие тайники всегда снабжали нас самыми важными открытиями,– если только ты не почитаешь обилие признаком величия.
– Я не знаю, как они будут восприняты...
– Будут ли они восприняты,– тихо поправил Роден.
– Если вы выбрали путь демократизации искусства вне жизни, я бессилен остановить вас. Я могу только протестовать. Я могу частично оправдать вас в силу того, что вы все-таки решили не сжигать их. Но ваше решение заставить их дожидаться появления более квалифицированного поколения читателей равносильно вечному проклятию. И вам это известно, и я, в свою очередь, осуждаю вас за эту акцию...
Какой переполох, какую бурю критики, как научной, так и общественной, довелось мне тогда поднять!
Когда я принес коллекцию Малатесты в университет, из рядов профессуры раздались радостные возгласы, быстро сменившиеся удивленным поднятием бровей. Я не такой патриарх, как Роден, но в обществе, столь правильном, как наше, я достаточно стар, чтобы избежать открытых оскорблений. Но многие едва удерживались.
Сначала наступила растерянность.
– Это, безусловно, очень важная находка. Несомненно, книги проливают новый свет на историю литературы. Разумеется, они заслуживают самого пристального изучения. Но широкая публика... Словом, лучше подождать до тех пор, пока мы сумеет до конца оценить их.
Я никогда не сталкивался с таким отношением и сказал им об этом.
Мне показалось, что вокруг стола в конференц-зале сидят ледяные статуи. Они предпочли проигнорировать мои слова, лишь осуждающие взгляды поблескивали сквозь толстые стекла очков.
– Но Чосер,– настаивал я,– Хусманс, «Орестея»! Нельзя просто выбросить их вон только потому, что вам неприятно это читать! Все это – литература, квинтэссенция жизни, пропущенная через призму гениальности!..
– Мы не убеждены,– сказала одна из ледяных статуй,– что это является искусством.
Я взорвался и ушел с работы, но моя отставка не была принята, поэтому я все еще здесь. Литература – она как пирог, один кусок лучше, чем ни одного.
– Вы не выпустили их в свет. Вместо этого вы заточили их в краеугольный камень вашего нового Здания Философии – которое само по себе демонстрирует скрытую иронию жизни – и поручили мне, по прошествии года, соорудить им надгробие. Вы предпочитаете не использовать этого слова, но дабы смягчить муки совести – вы же люди высокоморальные – вы не смогли не увековечить величие того, чему были свидетели, хотя и отнеслись к этому с презрением. Я соорудил ваш мемориал – и это не мой обычный храм Маммоны, где ангелы моего раскаяния шныряют меж морских раковин, но памятник Человеку, такому, каким он был, есть и пребудет вечно...
О, мертвый Малатеста, со своей бледной госпожой Франческой укрывшийся в радиоактивной печи, пока ракеты пели свой гимн смерти!.. Рыдала ли она? Что сказала она в последний миг? Я читал твой дневник вплоть до финальной записи в последний день: «Мы поджариваемся. Дьявол! Нас найдут так, будто мы начали...» Я восхищаюсь тобой, Маластеста, так же, как я восхищаюсь Кастильоне и Да Винчи,– эрудит, ученый и человек до мозга костей! Вращайтесь же по своим орбитам, человеческие атомы, вы сделали закат моей жизни более красочным... Это,– он протянул руку к темному покрывалу,– воплощение человеческого начала.
Он сдернул покров.
Университетский двор наполнился вздохами, а мои глаза – слезами. Роден совершил это! В какую бы кладовку, на какой бы чердак они это ни спрятали, его слава будет жить в сердцах потомков.
Стальные ребра, покрытые белой эмалью,– та ужасная поза! – руки скелетов в вечном чувственном объятии и исполненные похоти улыбки на лицах, лишенных плоти.
На бронзовом пьедестале высечена простая надпись: «Поцелуй Родена».
И тут до меня донесся голос из зала:
– Вот оно. Делайте с этим что хотите – но никогда не подпускайте меня к этому близко!
Невольные аплодисменты разбили тишину, смешиваясь со вздохами и тихими комментариями.
В тот день я уволился еще раз, на этот раз окончательно.
Последняя вечеря
Как чувствует себя музыка, когда ее оркеструют? Поэма, когда ее пишут? Живопись...
Эти мысли витали в моем мозгу, но это были его мысли.
Я ощутил шероховатые и осторожные, словно кошачий язычок, прикосновения его кисти, обводящей мои щеки, затемняющей бороду.
Он коснулся моих глаз, и они открылись. Сначала левый, потом – правый, мгновенно.
Сознание включилось сразу и четко – никакого плывущего тумана, как это бывает при внезапном пробуждении. Я тоже пристально вглядывался в его темные глаза, сосредоточившиеся на моем лице. Он держал кисть бережно и мягко, словно перо, и ноготь его большого пальца отливал радужным спектром присохших красок.
Он стоял, любуясь мной.
– Да! – вздохнул он наконец.– Они правы! Вот – линии вины, стыда, ужаса, и все они сходятся у этих властно притягивающих глаз. Но взгляд их прям и тверд, и они не боятся света,– продолжал он,– Они не дрогнут! И в этом взоре – вся дерзость и боль Люцифера. Он не отведет этих глаз, когда придет время обмакнуть хлеб в вино... Бороду надо сделать покраснее,– добавил он.
– Но ненамного,– сказал я.
Он прищурился:
– Хотя и не слишком.
Он нежно дунул на мое лицо, затем закрыл меня занавесом.
«Сеанс через пятнадцать минут, – подумал он.– Придется прерваться».
Он мерил шагами студию здесь же, рядом. Я почувствовал, как он закуривает.
– Миньон придет в десять.
– Миньон сейчас придет,– сказал я.
– Да. Я покажу тебя ей. Ей нравятся картины, а эта – лучшее из всего, что мне до сих пор удавалось. Она не подозревает, что я способен на такое. Я покажу ей это. Она, конечно, не разбирается в искусстве...
– Ода.
Я услышал, как в дверь постучали. Он впустил ее. Я почувствовал, что он возбужден.
– Вы всегда приходите вовремя,– сказал он.
Она засмеялась, и смех ее прозвучал мелодично, словно перезвон дорогих часов.
– Всегда,– сказала она,– и до тех пор, пока портрет не будет закончен и я не смогу взглянуть на него. Я очень трилежна.
«Она уже улыбается так, словно глядит с портрета,– размышлял он, вешая ее пальто.– Сейчас она сидит в темном кресле. Темном, как ее волосы. Зеленый твидовый костюм и серебряная брошь. Почему она не надела бриллиантов? Они ведь у нее есть».
– А где бриллианты? – спросил я.
– А где бриллианты?
– Что? A-а, моя брошь...– Она коснулась ее, бросив взгляд на свою юную грудь.– Вы ведь еще не писали портретов до сих пор, не так ли? Я же позирую сейчас для уютного домашнего портрета, который будет висеть в гостиной у камина, а не для иллюстрации рассказика о фамильном состоянии, украшающего обложку модного журнала. Поэтому я и решила надеть что-нибудь простое.
Она опять улыбается. Насмехается надо мной?
– А что это у вас там закрыто покрывалом?
Она подошла к холсту.
– О,– сказал он скромно, в радостном трепещущем предвкушении,– Это, право же, пустяк.
– Позвольте мне взглянуть.
– Прошу вас.
Зашуршал занавес, прикрывавший холст, и я взглянул на женщину.
– Господи! – воскликнула она.– «Последняя вечеря» Питера Хелзи. Боже, да ведь это прекрасно.– Она отодвинулась еще дальше, пристально всматриваясь.– Он глядит так, словно вот-вот выйдет из рамы и еще рад предаст Его.
– Это так,– скромно сказал я.
– Пожалуй, верно,– заметил Питер.– Довольно занятный экземпляр.
– Да,– сказала она.– Я никогда раньше не видела столь точно подобранных красок. Глубина, переплетение тонов – он весьма необычен.
– Он и должен быть таким, – ответил художник.– Он сошел к нам со звезд.
– Со звезд? – недоуменно переспросила она.– Что вы хотите этим сказать?
– Пигмент, послуживший для его создания, я перетер из упавшего метеорита, который обнаружил нынешним летом. Мне сразу же бросилась в глаза краснота камня; к тому же оказалось, что размеры позволяют засунуть его в багажник.
Она изучала мое лицо на холсте.
– Для столь прекрасной картины вы создали ее невероятно быстро.
– Нет, какое-то время я носил это в себе,– сказал он.– Я ждал, пока у меня сложится совершенно четкое представление о том, каким он должен быть. Этот красный камень подсказал мне решение – это случилось как раз на той неделе, когда вы начали позировать мне. Стоило мне только начать, и дальше он фактически нарисовал себя сам.
– Он смотрит так, будто всем этим наслаждается,– засмеялась она.
– Я нисколько не возражаю...
– Сомневаюсь, что и он имеет что-то против.
– ...Так как я – тот самый подкидыш, которого боги запросто обменяли на кусок камня, понадобившегося им, чтобы ставить на него ноги.
– Кто знает, откуда он взялся?
Он закрыл мне лицо, взмахнув занавесом, точно плащом матадора.
– Начнем?
– Пожалуй.
Она вернулась к креслу.
Через некоторое время он попытался прочесть то, что светилось в ее глазах.
– Возьми ее. Она этого хочет.
Он положил кисть, пристально посмотрел на женщину, на свою работу – и снова на женщину.
Потом опять взялся за кисть.
– Решайся. Что ты теряешь? Подумай о том, что приобретешь. Это серебро на ее груди может обратиться в бриллианты. Думай о ее груди, думай о бриллиантах.
Он положил кисть.
– Что случилось?
– Какая-то внезапная усталость. Сигарета – и я готов продолжить.
Она поднялась с кресла и закинула руки за голову.
– Хотите, я подогрею кофе?
Он посмотрел туда, куда она указывала взглядом,– на стоящий в углу поднос с остывшим напитком.
– Нет, благодарю. Сигарету?
– Спасибо.
Его рука дрожала.
Она подумает, что это от усталости.
– У вас дрожит рука.
– Наверное, от усталости.
Она присела на кровать, стоящую здесь же, в студии. Он медленно опустился рядом и прилег.
– Здесь жарко.
– Да.
Он взял ее за руку:
– Вы тоже дрожите.
– Нервы. Delirium Tremens. Кто его знает?
Он поднес ее руку к губам:
– Я люблю вас.
Ее глаза испуганно расширились, губы дрогнули, рот приоткрылся.
– ...И у вас красивые зубы.
Он обнял ее.
– О, пожалуйста!
Он крепко поцеловал ее.
– Не надо. Вы же не хотите сказать...
– Хочу,– произнес он.– Хочу.
– Вы очаровательны,– вздохнула она,– как и ваше искусство. Я всегда это чувствовала. Но...
Он поцеловал ее снова и увлек за собой.
– Миньон...
Питер Хелзи глянул с балкона на раскинувшийся внизу аккуратный парк, разлинованный тропинками, проложенными еще в старые добрые времена Свифта,– парк с его живописным ландшафтом и своеобразным очарованием XVIII века,– и перевел взор вниз, на поручни ограждения, скалы и длинный, крутой спуск к заливу.
– Как хорошо,– сказал он и вернулся в комнату.
– Хорошо,– повторил я.
Я висел на стене комнаты. Он остановился передо мной.
– Чему ты ухмыляешься, старый ублюдок?
– Ничему.
Справа, из ванной, вышла Бланш, вытирая закатно-розовый нимб все еще влажных волос.
– Ты что-то сказал, милый?
– Да. Но я говорил не с тобой.
Она указала на меня большим пальцем:
– С ним?
– Вот именно. Он – мое единственное удачное создание, и мы неплохо с ним ладим.
Она содрогнулась:
– Чем-то он похож на тебя – только, пожалуй, выглядит позлее.
Он повернулся к ней:
– Ты в самом деле так считаешь?
– Угу. Особенно – глаза.
– Уйди,– сказал он.
– В чем дело, милый?
– Ни в чем.– Он сдержался.– Но скоро должна вернуться моя жена.
– Хорошо, папочка. Когда я снова тебя увижу?
– Я позвоню тебе.
– О’кей.
Зашуршали черные юбки – и она исчезла.
Питер не провожал ее до двери. Это было не в ее духе. Он еще немного поизучал меня, затем пересек комнату, остановился перед зеркалом и пристально всмотрелся в свое отражение.
– Гм,– возвестил он.– Какое-то сходство все же есть – этакая подсознательная тяга к ехидству.
– Конечно,– сказал я.
Он засунул руки в карманы шелкового халата, снова вышел на балкон и взглянул на океан.
– Mater Oceana,– произнес он.– Я счастлив и несчастлив. Унеси мою тоску.
– А в чем дело?
Он не ответил мне, но я знал.
За дверью послышались шаги Миньон. Дверь распахнулась.
Я знал. Он вернулся в комнату и посмотрел на женщину.
– Боже, да ты прекрасно выглядишь. Зачем тебе еще и косметический кабинет – эти лишние хлопоты?
– Чтобы всегда оставаться такой для тебя, милый. Я бы не хотела, чтобы ты охладел ко мне через пару месяцев.
– Ну, это вряд ли.
Он обнял ее.
«Я ненавижу тебя, богатая сука! Ты думаешь, что можешь распоряжаться моей жизнью, потому что оплачиваешь мои счета. Но ты не сама нахапала все это. Это все твой старик. Ну давай же, давай, спроси меня, работал ли я сегодня».
Она нехотя высвободилась из его объятий:
– Ты писал что-нибудь сегодня, дорогой?
«Нет. Я провел время в спальне с одной блондинкой».
– Нет, болела голова.
– О, прости меня! А как сейчас, лучше?
– Нет, все еще побаливает.– «Ах ты...»
– Пойдем куда-нибудь вечером?
– Куда же?
– Помнишь тот французский ресторан, мимо которого мы вчера проезжали? Как, бишь, его...
– «Лe-Буа».
– Я подумала, что ты, может быть, захочешь посидеть там немного сегодня вечером. Во всех остальных мы уже побывали.
– Нет. Не сегодня.
– Где же тогда мы поужинаем?
– Может, прямо здесь?
Она приняла озабоченный вид:
– Тогда мне придется позвонить вниз и сделать распоряжения.
«Держу пари, что ты не умеешь готовить. Мне ни разу не подвернулся случай выяснить это».
– Это было бы замечательно.
– Ты уверен, что не хочешь никуда пойти сегодня вечером?
– Да. Уверен.
Ее лицо прояснилось:
– Стол накроют в саду, а еду привезут на тележках – как для особых гостей.
– К чему все эти хлопоты?
– Мама говорила мне, что у них с отцом все было именно так, когда они проводили здесь медовый месяц. Вот я и хотела предложить тебе то же самое.
– Почему бы и нет? – Он пожал плечами.
Миньон посмотрела на часы. Потом подняла руку, поколебалась и постучала в дверь спальни:
– Ты еще не одет?
– Сейчас-сейчас.
«Почему бы тебе не сдохнуть и не оставить меня в покое? Может быть, тогда я смог бы снова творить. Ты не способна по-настоящему оценить мое искусство – как, впрочем, искусство вообще! Ты ничего не способна оценить. Дешевая, липовая эстетка! Тебе не знаком труд ради цели. Умри же! Тогда я смогу наконец собраться... да перестань же мешать мне!»
– Почему бы не сегодня вечером? – спросил я.
– Не знаю...– Он задумался.
– Для всех вы счастливая медовая пара. Ни у кого не возникнет подозрений. Продержи ее там допоздна. Накачай как следует шампанским. Танцуй с ней. Когда официанты притушат свет и уйдут, когда останетесь только вы двое, музыка, шампанское и темнота, когда она начнет слишком много смеяться, когда у нее начнут подгибаться ноги,– я закончил перечислять,– вот тогда и подведи ее к перилам.
В дверь снова постучали.
– Ты готов?
– Иду, дорогая.
«Боже! Сколько же она может пить? Да я раньше ее упаду под стол!»
– Еще шампанского, дорогая?
– Чуть-чуть.
Он наполнил бокал до краев:
– Осталось немного. Мы можем прикончить и эту бутылку.
– Ты что-то мало пьешь сегодня,– заметила она.
– Это не моя стихия.
Повсюду горели свечи. Непроницаемый покров темноты незаметно сгустился вокруг, и теперь в нем лишь угадывались некие смутные очертания и пятна. За дрожащим ореолом света лежала ночь, глубокая, чернильно-темная. Из невидимого динамика, кружась, летели вальсы Штрауса – величаво, приглушенно, sotto voce, как бы паря над столом. Ароматы невидимых цветов обострились, перед тем как исчезнуть совсем в надвинувшейся прохладе ночи.
Он посмотрел на нее:
– Тебе не холодно?
– Нет! Давай останемся здесь до утра. Это так восхитительно!
Он покосился на часы. Час действительно уже поздний.
«Надо выпить, чтобы собраться».
Кислое вино, выпитое залпом, обожгло. Подобно снежным хлопьям, уносящимся в желтое небо, в голове молнией пронеслись ледяные кристаллики.
«Пора».
Он наклонился и задул свечи.
– Зачем ты это сделал?
– Чтобы остаться вдвоем в темноте.
Она хихикнула.
Он нащупал ее руками и обнял.
– Поцелуй ее – вот так.
Он поставил ее на ноги, тщетно пытаясь ослабить хватку ее объятий, и, придерживая за талию, повел к белым перилам.
– Как красив океан в безлунную ночь,– сказала она низким грудным голосом.– Кажется, Ван Гог однажды изобразил Сену но...
Он ударил ее под колени левой рукой. Она опрокинулась назад, и он попытался подхватить ее. Ее голова стукнулась о камень лестницы. Он выругался.
«Все равно. Она и так будет в синяках и кровоподтеках, когда ее найдут».
Она тихо застонала, когда он поднимал ее, теплую и обмякшую.
Он наклонился и сильным движением перебросил ее через перила. Он услышал, как тело ударилось о камни, но музыка «Голубого Дуная» заглушила все остальные звуки.
– Спокойной ночи, Миньон.
– Спокойной ночи, Миньон.
– Это было ужасно,– сказал он детективу,– Я знаю, что сейчас пьян и не могу говорить связно – вот почему я не смог ее спасти. Мы так славно проводили время – танцевали и все такое. Она захотела взглянуть на океан, а потом я вернулся к столику, чтобы еще выпить. Услышал ее крик и... и...– Он закрыл лицо руками, выдавливая из себя рыдания.– Ее уже нет! – Он весь трясся.– Нам было так хорошо!
– Успокойтесь, мистер Хелзи.– Детектив положил руку ему на плечо.– Портье говорит, что у него есть какие-то таблетки. Примите их и лягте в постель. Право, это лучшее, что вы можете сейчас сделать. Сейчас ваши объяснения немногого стоят – мне и так ясно, что произошло. Я составлю отчет о происшествии утром. Сейчас там катер службы береговой охраны. Завтра вам придется поехать в морг. А сейчас просто идите и поспите.
– Нам было так хорошо,– повторял Питер Хелзи, бредя к лифту.
Войдя в лифт, он зажег сигарету.
Он отпер дверь и включил свет.
Помещение преобразилось.
Комнаты были разделены наспех поставленными перегородками. Из мебели, стоявшей здесь ранее, остались лишь несколько стульев и небольшой стол.
Посреди стола стояла афиша.
За афишей виднелась записная книжка в кожаном переплете. Он раскрыл ее, уронив сигарету на пол. Он читал...
Он читал имена критиков, обозревателей музейных экспозиций, агентов по продаже, покупателей, рецензентов.
Это был список приглашенных лиц.
От ковра поднималась тонкая струйка дыма. Машинально он поднял ногу и наступил на тлеющий окурок. Он вчитывался в афишу.
«Выставка работ Питера Хелзи, организованная миссис Хелзи в ознаменование двух самых счастливых месяцев в ее жизни. Открыто – с часу до двух дня. Пятница, суббота, воскресенье».
Он переходил от ниши к нише, глазами как бы заново создавая все работы, когда-либо сделанные его руками. Вот его акварели. Его опыты в духе кубизма. Его портреты. Она разыскала и либо скупила, либо взяла под залог все эти картины.
Портрет Миньон.
Он смотрел на ее улыбку и волосы, темные, как кресло, в котором она сидела; на зеленый твидовый костюм; на серебряную брошь, которая могла бы прикрывать бриллианты...
– ...– сказала она.
Она ничего не сказала.
Она была мертва.
А напротив нее, уставясь прямо в ее улыбку, с бородой цвета крови и куском хлеба в руке, среди просветленных лиц апостолов, сидящих вокруг, и с кованым серебряным нимбом над головой улыбался я.
– Поздравляю. Чек очень скоро придет по почте.
– Где мой шпатель?
– Ну вот еще! Ты ведь не собираешься повторить поступок Дориана Грея?
– Острое. Дайте мне что-то острое!
– Ну зачем же так? Ты создал меня таким, какой я есть. Ты мог бы так же легко использовать этот пигмент и для создания другого портрета. Его, например, или его. Но тебя вдохновлял я. Я! Мы черпали жизненные силы друг у друга, мы черпали их из твоего отчаяния. Разве мы не шедевр?
– Нет! – закричал он, снова закрывая лицо.– Нет!
– Прими эти таблетки и ложись в постель.
– Нет!
– Да.
– Она хотела видеть меня великим. Она старалась приобрести все это для меня. Но она хотела видеть меня великим.
– Конечно. Она любила тебя.
– Я не знал этого. Я убил ее...
– Разве не так поступают все мужчины? Вспомни Уайльда.
– Заткнись! Не смотри на меня!
– Не могу. Я – это ты.
– Я убью тебя.
– Тебе придется трудновато.
– Ты погубил меня!
– Ха! А кто столкнул ее вниз?
– Уходи! Пожалуйста!
– А как же моя выставка?
– Пожалуйста.
– Спокойной ночи, Питер Хелзи.
И я наблюдал за ним – за тенью среди теней. Он не шатался.
Он двигался как робот, как лунатик. Уверенно. Точно. Осмысленно.
Миновало десять часов, и взошло солнце. Теперь я скоро услышу их шаги в холле. Именитые, великие мира сего: Беренсоны, Дювены... Они задержатся за дверью. Осторожно постучат. И через какое-то время попробуют войти.
Они уже идут.
Они будут созерцать эти глаза – сухие глаза, окна души, погрязшей в грехе...
Они задержались за дверью.
Они увидят линии вины, стыда, ужаса и раскаяния – сходящиеся у этих властно притягивающих глаз...
Стук в дверь.
Но они обращены к свету, эти глаза,– они не дрогнут. Они будут смотреть прямо, не мигая!
Дверная ручка осторожно поворачивается.
– Входите, господа, входите! Великое искусство ожидает вас! Смотрите на корчащуюся душу – на нимб, выкованный из пунктов страхового договора, из гордости,– смотрите на преданного предателя! Входите! Смотрите на мой шедевр, господа,– вон он висит на стене.
И наши зубы, навсегда замерзшие в полуоскале.