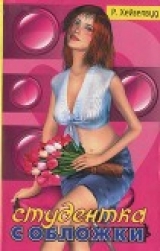
Текст книги "Студентка с обложки"
Автор книги: Робин Хейзелвуд
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 24 страниц)
– Воротник все равно неровный, – объявляет она.
Мириам, стилист, дергает воротник у моей шеи.
– Лучше?
Вздох.
– Нет.
– Я обрежу, – предлагает Кип.
– Нельзя. Тогда не будет колье, а это катастрофа. Сверху сказали использовать больше украшений.
Ди выпрямляется и одергивает юбку. В отличие от ассистенток – двух лошадеподобных девушек-отличниц, которые вполне соответствуют читательской аудитории «Харперс & Куин» (которой нравятся заголовки вроде «Сверхсекретные протоколы комитета благотворительного бала» и «Как заводить друзей во время игры в поло»), Ди очень похожа на модного редактора: худая как модель (хотя зачем добровольно соглашаться на подобные мучения, не понимаю), со стрижкой «прямо с подиума»: мальчишеская, сильно мелированная, которую она то и дело прочесывает пальцами. Кроме того, она вызывающе одета, точнее, раздета – узенькая мини-юбочка «Унгаро» и светлый шелковый топ, очень тонкий, какие носят только с тщательно подобранным бюстгальтером. Впрочем, Ди не заморачивается подобными пустяками. Даже отсюда видно, как торчат ее соски.
– Боже, как ты напряжен!
…Когда Ди фальшиво надувает губки и принимается массировать Кипу шею и плечи, у меня возникает сильное желание ее ударить.
– Эмили, я просила сидеть неподвижно, – напоминает мне Мириам.
Я отклоняюсь назад и разжимаю кулаки.
– Как теперь воротник? – спрашивает Мириам.
– Думаю, в порядке, – говорит Ди.
– Снимаем, – командует Кип.
– Стойте!
На меня набрасывается отряд стилистов-визажистов. Селеста: «Откинь голову назад!» Мириам: «Не так далеко, я прикалываю булавки!» Марко: «Карандаш! Не двигайся ни на миллиметр!»
– О'кей? – спрашивает Кип три минуты спустя.
– Угу.
– Снимаем!
Палец Кипа нажимает на затвор. Щелк. Щелк.
Я начинаю с улыбки с закрытыми губами. Вполне возможно, что у меня стиснуты зубы.
– Хорошо, – говорит Кип. – Теперь опусти подбородок.
Опускаю.
– Чуть отвернись от объектива.
Я отворачиваюсь.
– Лоб выглядит как-то странно, – вставляет Ди.
– Расслабь лоб.
Дрянь! Я расслабляюсь.
Ди хмурится.
– Хм-м, так разве лучше?
Не обращай на нее внимания, говорю я себе. Просто расслабься. Расслабься, чтобы заработать обложку.
Щелк. Щелк.
Этот заказ очень важен.
– Есть.
Щелк.
У кого обложка в двадцать, можно дальше не стараться.
Щелк.
Если нет обложки в двадцать, ты в глубокой… заднице.
Щелк.
Обложка должна быть твоей.
Щелк.
Обложка должна быть твоей. И все тут. Ну, куда они смотрят?
Щелк.
Может, на левый глаз? Иногда на ярком свету он плохо раскрывается.
Щелк.
Или…
– Улыбка какая-то кривоватая.
Щелк.
– А теперь совсем пропала.
Надо же, какая неожиданность!
Кип отходит от объектива и после секундного совещания садится рядом со мной на корточки, так что мы смотрим друг другу в глаза.
– Ну, как ты? – шепчет он.
Отвернув губы от объектива, я шиплю:
– Я злюсь и хочу секса. С чего начнем обсуждение?
Кип поднимает брови и ухмыляется:
– Уверен, что скоро смогу тебе помочь.
– Мне или Ди?
Ухмылка исчезает.
– Эмили! Не говори глупостей. Ди же лет сорок.
– Значит, вы ровесники!
– Ты как маленькая.
– Да, мне нет и двадцати!
– Послушай меня, Эм, – почти рычит Кип. – Ди замужем, у нее двое детей. Она любит пофлиртовать, и я не сопротивляюсь. Это безвредно – и, боюсь, это часть работы модного фотографа.
– Вижу, что боишься! – огрызаюсь я, но беззлобно.
Меня успокоили отчасти слова Кипа, отчасти его рука, которая постепенно перешла с его колена на мое бедро и незаметно его разминает.
Он наклоняется ближе.
– Знаешь, в чем секрет классной обложки?
– Переспать с фотографом?
Он награждает меня щипком.
– Нет, дорогая! Теплые глаза. Это единственное и самое важное, о чем надо помнить, потому что глаза не лгут. Когда снимаешься на обложку, нужно чувствовать то, что ты хочешь передать…
– То есть?
– Сексуальность и доступность. Всегда. А теперь закрой глаза и послушай меня.
Я подчиняюсь. Рука Кипа поднимается выше.
– Эмили. Я хочу, чтобы ты забыла о Ди, о воротнике и сосредоточилась на том, что ты любишь, что ты любишь и чего желаешь больше всего на свете. О чем-то красивом и настоящем… например, о том, что я тебя люблю.
Мои глаза распахиваются и смотрят в глаза Кипа: огромные, нежные и блестящие.
– Я люблю тебя, – повторяет он.
– О, Кип! – шепчу я. – Я тебя тоже!
– Кгм!
Я улыбаюсь Ди самой сияющей из своих улыбок.
Марко подходит, чтобы промокнуть меня салфеточкой – освещение для крупного плана лучше скрывает дефекты, но зато от него жарко, значит, больше хлопот визажисту. Мне дают два совета. Первый: между кадрами надувать щеки и гонять во рту воздух. Второй: вдыхать носом и выдыхать ртом.
Эти советы плюс три коротеньких слова Кипа действительно помогают. Из стерео гремит «Кьюэ», а я смотрю в объектив, передавая чувство сексуальности и доступности во всех смыслах, какие приходят мне в голову. Это несложно, потому что я чувствую только любовь, любовь, любовь. Кип меня любит! «Кьюэ» переходит в Дона Хенли, а того сменяет «Дюран-Дюран». Кип меня любит! Так мы доходим до моего последнего наряда – платья без рукавов, расшитого крошечными жемчужинками и стразами, и золотых клипсов с жемчугом в форме звезд.
– Нельзя ли сделать ей губы поярче? – вставляет Ди, когда я снова сажусь.
Кампания шепота уже прекратилась, и хотя Ди продолжает приставать к моему мужчине, мне уже все равно. Кип меня любит!
Марио смешивает на ладони несколько оттенков розового. Тут кто-то решил нас повеселить.
– У-у-ух ты! – визжит Ди, когда в студии раздаются первые такты хита Тоун Лока.
Кисточка Марио дотрагивается до моего рта.
– Так, теперь не шевелись, – говорит он.
«Wild thing…»[80]
Кип ритмично вращает бедрами. Ди в танце подходит к нему и садится верхом на его ногу. Ее юбка совсем задирается, а соски становятся по стойке смирно.
– Улыбнись, – говорит Марио, поправляя контур верхней губы.
«She loved to do the Wild Thing…»[81]
Ди наклоняется ниже и ниже.
«Wild thing…»
Кип поднимает Ди, охватив ладонью ее ягодицу.
– Кип, как тебе не стыдно! – с придыханием выговаривает Ди, прижимая его еще сильнее к себе. – Я, замужняя женщина…
И страшнее атомной войны.
– И ты женатый мужчина!
Что?
– Ой-ой-ой, – говорит Марио, и не потому, что помада оказалась у меня на подбородке.
– …с трехмесячным ребенком!
– ЧТО?!
Я это кричу. Ди, склонившаяся в очередной эротической позе, поворачивает голову ко мне. И Кип ее роняет.
– О-о-о!
– Кип, у тебя РЕБЕНОК?
– …Кип?
Я встаю, и с платья сыплются булавки. Скотч отклеивается. Стул съезжает влево и врезается в прожектор, прожектор начинает вибрировать.
Я делаю шаг вперед. Я умоляю его охрипшим голосом:
– Пожалуйста, скажи мне, что она шутит. Кип, пожалуйста! Ты ведь меня любишь. Ты сказал, что меня любишь!
Но Кип молчит. Ничего не говорит.
Платье сорвано еще до гримерки. Я бросаю его в угол, натягиваю джинсы, майку, кроссовки, запихиваю лифчик в рюкзак и ухожу прочь. Я пробежала уже два пролета, когда вверху заскрипела дверь. Кто-то сбегает по лестнице. Я хватаюсь за перила. Это Кип, наверное, он хочет сказать мне, что все это большое недоразумение, что он не женат и у него нет ребенка. Что он меня любит.
Это одна из ассистенток Ди.
– Простите, – говорит она. У нее мокрый лоб, грудь вздымается. Ладонь робко тянется через пропасть между нами. – Сережки! Нужно вернуть сережки.
Кейт вздыхает в трубку.
– Мне так жаль, Эмили! Я поняла, что ты не знаешь. И я так хотела тебе сказать еще тогда, но…
Из моих глаз текут слезы – это происходит уже несколько часов, с небольшими перерывами. Я сморкаюсь. Когда Кейт в первый раз перезвонила мне из «Ритца», она подумала, что я простудилась. Если бы!
– …Не было времени, знаю. Ничего страшного, – шмыгаю я носом.
Кейт не должна себя винить. Если бы она сказала мне перед пробой на обложку, я была бы в таком состоянии до съемок, а не после.
– Кип – нехороший человек, – говорит она.
– Кип – козел!
Факты, которые сообщает мне подруга, доказывают мою точку зрения. Кип Максвейн – легендарный «модельный кобель» (очевидно, я определила не все категории). Это хобби он не бросил, несмотря на то, что уже год женат на американской модели Кэрри и у них трехмесячный сын, которого назвали Ньютон (в честь фотографа Хельмута, а не сэра Исаака). Кэрри и маленький Ньют живут в Гемпшире, городке в часе езды от Лондона (если ехать не в час пик, как сказала Кейт). Неудобное дорожное сообщение ему очень даже удобно, потому что почти все вечера он проводит в студии, чтобы избежать «утомительной» поездки домой).
– Утомительной! Да, сказала бы я тебе, что его так утомляет, – горько говорю я.
– Старайся на этом не зацикливаться, – советует Кейт.
Как не зацикливаться? Минуту мы молчим, потому что струйки слез превращаются в потоки – я вспоминаю медвежью шкуру. Сколько других девушек на ней лежало? Кошмар.
– Я чувствую себя такой дурой!
– Ты не дура, – заверяет меня Кейт. – Послушай: я понимаю, что сейчас тебе очень плохо, но я надеюсь, что это не… повлияет на твое решение. Ты ведь останешься, правда?
– Не знаю.
– А заказ «Вот» в силе? – спрашивает она.
– Надо узнать.
– Так узнай.
Из «Вог» не отменили заказ, говорит мне Сигги по телефону, а уточнили время: в начале сентября. Тогда они, скорее всего, и будут снимать, потому что «сейчас все порядочные фотографы уезжают из города». Все непорядочные тоже. Сигги знала о Кипе, конечно. Теперь она убеждает меня остаться.
– Он чувствует себя омерзительно, уверяю тебя, – говорит она, – и это должно стоить ему восьми страниц.
Не меньше!
Глава 22
КОНТУЗИЯ СКОВОРОДОЙ
– Так почему ты все-таки решила вернуться? – спрашивает мама.
Мы на кухне в Балзаме – она попросила помочь ей «расправиться» с урожаем цуккини. Я беру нож и пожимаю плечами.
– Решила, что так будет лучше.
– Это как-то связано с парнем, который кричал: «Любимая»? – спрашивает мать.
Она ошибается по поводу конкретики, но общая идея? В тютельку! Впрочем, я совершенно не хочу вспоминать обо всем, что связано с мистером Максвином. Ни сейчас, ни когда-либо еще.
– Не то, чтобы, – отвечаю я.
Мама смотрит на толстый ломоть цуккини, который я срезала вместе с кожурой, и хоть на этот раз оставляет меня в покое.
А Кристина жаждет подробностей – и побольше, побольше. Она провела все лето в местной книжной лавке и истосковалась по новым впечатлениям. Мы лежим на набережной. Я перекатываюсь на спину и уже собираюсь ей все рассказать, но решила сначала закурить. Дома курить нельзя, и я уже просто изнываю.
– Ой, Эм, ты стала курить? – Кристина подается вперед, и ее глаза моментально становятся круглыми как трубы на срезе. – А кокаин? Ты его до сих пор нюхаешь? Да?
Боже правый, моя подруга – хуже чем трезвенница.
– Нет, завязала, – говорю я, и желание поделиться новостями как-то пропадает.
В конце концов я излагаю Кристине цензурированную версию событий «детям до шестнадцати», которая даже близко не стоит к правде. После этого я избегаю встреч с подругой.
Неделя цуккини-терапии (десять запеченных цуккини, четыре дюжины печений с цуккини и изюмом, три кастрюли цуккини, тушенных с чечевицей, и большой бачок «мешанки» из цуккини и тофу – все это навязано обитательницам приюта, одна из которых пробормотала себе под нос: «Быть зеленым нелегко»), и я возвращаюсь в университет, где живу с тремя замечательными подругами: Мохини, Пикси и Джордан, которых не рвет (по крайней мере, не чаще, чем обычных студенток) и которые не называют меня идиоткой.
Кстати, о Вивьен. Я уехала из Лондона так внезапно, что даже с ней не попрощалась. И с Рут тоже. Позже я узнаю, что от Рут на одной и той же неделе отказались и Стю, и «Дебют», и она исчезла. Что касается Вивьен, с ней я тоже никогда не встречусь, но позже – гораздо позже – увижу ее на обложке журнала «Таун энд кантри» в белом платье от Веры Вонг и с бриллиантовым кольцом в шесть каратов. Ее последний образ – невеста финансиста. Я успела попрощаться только с Эдвардом. За поспешным обедом он вручил мне подарок из универмага: две пары трусиков. «Я заметил, у тебя некоторые трусики чуть поизносились».
Как я уже сказала, я рада, что вернулась. Но, кроме подруг, я не желаю ни с кем видеться и ни с кем говорить. Байрон – не исключение. Он звонит, я не перезваниваю. Я знаю, что он собирается сказать, а мне как-то не хочется, чтобы на меня кричали, что я убежала от Сигги. Мне этого не вынести. Я еще не оправилась от Ужасного Шотландца.
Да, я все еще от него лечусь. Я подолгу валяюсь в постели, и слои фланели заглушают резкие вспышки гнева, сбивчивые откровения и – вот что больнее всего! – тихие слезы среди ночи. Наконец подруги силком вытаскивают меня из постели и заставляют учиться. Хотя поначалу и с неохотой, я начинаю учебу на втором курсе. Демонстрация по защите прав женщин, пострадавших от насилия? Я там. Организационный комитет проведения Дня экологии? Я в списке. Пикники, футбольные матчи и вечеринки на Хэллоуин? Скажите, во сколько! Мне уже лучше: я давно не была такой счастливой и спокойной.
Если не считать одного: денег. Мне нужны деньги.
В то лето, когда я работала моделью в Чикаго, я получила достаточно, чтобы покрыть учебу и счета по кредиткам, и даже немного отложила. Этот запас уже растворился: в Лондоне я заработала гораздо меньше, да и закончилось все раньше. Я обеспечила себе учебу на весь год, но и все на этом. Поэтому в начале ноября, когда зазвонил телефон, я навострила уши.
– Байрон хочет, чтобы ты пришла, – говорит мне Джастина. – Хочет тебе что-то показать.
– Да неужели? А что, он не может сам набрать номер?
Уши навострила, но злюсь по-прежнему. И это правильно, потому что Джастина не отвечает. Она вздыхает, потом спрашивает:
– Как насчет пятницы?
Я колеблюсь. Но, рисуя на бумажке кинжалы, я натыкаюсь на уголок счета по кредитной карточке, который выглядывает из-под кучи бумаг. Давно просроченный.
– Ладно, увидимся.
В назначенный день в «Шик» стоит дым от штукатурки и звон от разнообразного стучания, отбивания и соскребания. Включается что-то жужжащее, металлическое и опасное. В этот момент мимо скользящей походкой проходит Флер (восемнадцать лет, француженка, блондинка оттенка шампанского). Ее провожают взглядом три пары глаз над строительными масками. Кто-то сейчас отпилит себе руку.
– Привет, Флер!
– А, Амели! – Чмок-чмок. Флер щипает рукав парки, которую я повесила на руку. – На твоем месте я бы ее не снимала. Там жуткий холод, – говорит она и выразительно содрогается.
Если нет жировых тканей, холодно всегда. Но Флер права: сегодня самый холодный день сезона, утро, в которое Джордан достает свой нательный комбинезон, а все остальные с тоскою говорят о Калифорнии – короче, в такой день не очень-то хочется открывать окна, чтобы проветрить комнату.
Я захожу.
– Эй! Что тут у вас происходит?
Байрон сидит в черном шерстяном свитере, черных кожаных штанах, с головой, обвязанной оливковым кашемировым шарфом: тепло, хотя, возможно, мешает разговаривать по телефону.
– Стройка, – отрезает он.
Вижу. Холодно даже в куртке.
– Вижу, – отвечаю я. Рядом со столом заказов стоит пыльный хромированный стул. Я нетерпеливо барабаню по спинке. – И это ты хотел мне показать? Строительную площадку?
– Нет. – Байрон устало выдыхает и открывает ящик стола. – Вот это.
Последний номер британского «Джи-Кью». Открываю на заложенных страницах: две моих фотографии с Армином: черный бархат, красная помада, пышная прическа – сладкая девочка. Я улыбаюсь. Мне нравится.
– Что думаешь?
– Неплохо. Неплохо. Хорошие фотографии, видна фигура, – говорит Байрон.
– Какую ты повесишь? – Я вытягиваю шею. – Или уже повесил?
– Нет. У меня уже сорок девушек, Эмили. Сорок! – восклицает Байрон. – Стена трофеев теперь только для обложек. А то получалось слишком много фотографий. Я уже все руки изрезал о бумагу, пока их менял. Слишком много. – Байрон болтает пальцами в воздухе, хотя я точно знаю, фотографии обычно меняет Джон. – Кроме того, тебя тут не было.
– Была!
– Я имею в виду в агентстве.
Я пожимаю плечами.
Байрон крутится на стуле и скрещивает руки – жест, который идеально соответствует его раздраженному выражению лица.
– Эмили Вудс, ты еще считаешь себя моделью «Шик»?
– Думаю, да.
– Ты думаешь?! У меня сорок девушек, Эмили, со…
Я больше не могу сдерживаться.
– Да, я поняла, Байрон! Ты занят: слишком занят для меня, поэтому ты отправил меня в Лондон, а потом вообще забыл!
– Это неправда! Мы говорили по…
– Один раз! А сколько раз я тебе звонила!
Я стучу по спинке стула. Поднимается облако пыли. Байрон откатывается на колесиках в сторону.
– Послушай, Эмили, я бы хотел оставаться в тесном контакте с каждой девушкой, которую посылаю за границу, но это просто невозможно. Кроме того, я могу обвинить тебя в том же! Я звонил тебе после твоего приезда несколько раз! И ты ни разу мне не перезвонила!
– Я учусь, если ты забыл. В Колумбийском университете.
Байрон поджимает губы и подъезжает к своему столу.
– Значит, вот как. Понятно. Ты позволяешь другим девушкам, например, Фонье, занять свое место. Ладно, отлично. Спасибо, что зашла. Приятного просмотра фотографий.
Стоп. Деньги.
– Кто такая Фонья?
– Фонья – девушка, которая однажды проснулась знаменитой…
Оригинально! Я фыркаю от этой наглой попытки вызвать у меня зависть.
– Брюнетка, с темными глазами. Из Майами.
Майами? Благодаря постоянной погоде, многочисленным прямым рейсам самолетов и пастельным зданиям в стиле «ар деко» – идеальному фону для любой курортной коллекции – Майами уже становится горячей точкой моды. Но – я вас умоляю! – все знают, что модели из Майами третий сорт, девушки, которые кое-как зарабатывают на жизнь в немецких каталогах размером с телефонный справочник (немцы обожают Майами), где каждая страница просто задыхается от омерзительных фасонов. Для всех лакомых работ привозят моделей из Нью-Йорка. Байрон мог бы придумать что-то и получше. Я хихикаю.
– Ей двадцать один.
Я снова хихикаю: двадцать один? Старуха!
– Ее дела пошли круто в гору в начале сентября, когда один журнал не мог найти нужную девушку. Я прислал им по факсу ее композитку. Они вызвали ее для съемки четырех страниц.
Да, да, да…
– Замечательно.
– Британский «Бог» был такого же мнения. Они планировали снять девушку с определенной внешностью: брюнетку с широкими бровями и темными глазами, девушку, которую они назвали «молодая Ясмин Ле Бон».
Стройка, хаос – все звуки неожиданно пропали. Я смотрю Байрону в глаза, слабо шевеля пальцами.
– Да, Эмили. Им нужна была ты.
Нет, нет, только не «Вог»! Неужели я пропустила…
– Но, Байрон, почему же ты мне не сказал? Почему ты не…
О черт… Черт! Черт! Черт!
– …не позвонил? – подхватывает он. – Я звонил. Четыре раза, если мне не изменяет память. Ты ни разу не перезвонила. В журнале потеряли терпение и готовы были обратиться в другое место. Тогда я порекомендовал им другую девушку, которая хотела эту работу. Фонью. Вот о чем я и говорю. Одни стремятся к цели. Другие – нет. Ты, очевидно, относишься к последним.
Нет, нет! Невозможно! Неправда…
– Байрон, я действительно…
Он отмахивается.
– Нет, не надо. Ты «думаешь», что можешь работать моделью. «Думаешь». Этого недостаточно.
Мое сердце громко стучит. Я вскакиваю, опрокидывая стул. Чертов Кип! Лучше бы я осталась в Лондоне. Просто перетерпела бы, и все. Ведь это я встречалась с Лиз Тилберис! Это я ей была нужна! На месте Фоньи должна была быть – я! Я тяжело дышу.
– Ты не прав! Не прав, и все тут! Я стремлюсь к цели! Стремлюсь!
– Что ж… – скептически пожимая плечами, Байрон поправляет свой тюрбан, – тогда докажи.
– Докажу!
– Работай хорошо.
– Буду!
– Я имею в виду лучше, чем раньше. – Байрон меряет меня серьезным взглядом. – Эмили, я знаю, тебе нравится университет, но если ты хочешь остаться в «Шик», тебе придется уяснить следующее. Ты должна будешь уделять мне больше времени, гораздо больше. Поняла?
– Поняла.
– Я серьезно. Ты должна полностью отдаться моделингу. На сто процентов. И никаких оправданий.
Я киваю и кладу руку на сердце.
– Ты даже не будешь знать, что я студентка!
В течение следующих недель Байрон назначает мне массу собеседований – иногда на все почти невозможно успеть. Я все сношу безропотно, потому что очень хочу работать. Злость с того дня в агентстве не уменьшается, а растет. Ее подпитывает каждый номер «Вог», каждая фраза «проснулась знаменитой» и каждая ноябрьская обложка с Фоньей. А их много. На обложке «Мадемуазель» Фонья блистает в красном платье от Анны Кляйн со стразами, в британском «Мэри Клер» она в обтягивающем серебристом платье «Мизрахи» и в маленьком шиньоне; в итальянском «Леи» она – пухлогубая секс-бомба в декольтированном «Версаче». Мы с ней действительно похожи, хотя, если честно, глаза у нее немного косят, а когда она поднимает брови, их словно дергает за ниточку невидимый кукловод. А так, пожалуй, ничего. И она не стоит на месте, а движется: к славе. К богатству. Она скоро будет звездой.
Но ведь им нужна была я!
Что ж, я дала маху. Но больше это не повторится. На сей раз я действительно чего-то добьюсь, а когда добьюсь, как следует окопаюсь. Больше никаких глупых ошибок! Никаких шагов назад! Только вверх, вверх, вверх – прямо к звездам.
Работа моделью становится для меня самым главным приоритетом. Я не забываю об этом ни в День Благодарения, ни во время сессии, ни на Рождество. Ни на Новый год.
Новый год… Когда бьет двенадцать и под звон бокалов с шампанским все дают себе обещания, мое звучит очень просто: 1990-й будет моим годом, чего бы это мне ни стоило.
Глава 23
ЗАРЯ НОВОГО ДНЯ
– Очуметь! Я уже думала, придется пустить на твое место эту дурочку!
Я сажусь рядом с Пикси, тяжело дыша. Я ходила на собеседования. Пришлось брать такси, ехать на метро и еще тысячу ярдов быстро бежать – но я успела.
– Итак, начнем! – Венда, наш преподаватель, дважды хлопает в ладоши и осматривает аудиторию. – Добро пожаловать снова на семинар «ООО». Как указано в программе, сегодняшняя дискуссия – продолжение темы прошлой недели: исследование женской наготы в викторианской живописи.
Т. е. еще один анализ бездарных картин, – пишет Пикси на полях моей тетради.
Ты хотя бы видишь, что они бездарные! – отвечаю я. Я немного отстала от программы.
Предмет «Оскорбление, осмеяние, отравление: образы женской дискриминации» сначала показался нам неплохим выбором: семинары только раз в неделю, материал спорный, список для чтения минимальный – идеальный дополнительный предмет. К сожалению, через некоторое время, когда мы уже не могли безнаказанно убрать его из расписания, этот курс явил свои истинные цвета. Мы с Пикси – еще по-доброму – прозвали его «Обалдение, одурение, опупение».
Венда приглушает свет.
– Давайте посмотрим слайды. Некоторые вам знакомы по Дийкстре.
Ди… чего?
Автор нашего учебника!
Ну, хорошо, сильно отстала.
Проектор плюется и моргает, а потом выдает первую картинку: очень бледная и очень обнаженная дама полулежит на цветочном лугу в окружении белых голубей.
– «Женщины: смотрите, как они дремлют» – мрачным речитативом выводит Венда.
Сегодня она тоже словно только встала с постели – в жакете-кимоно с колоколообразными рукавами, в черных атласных туфлях, напоминающих тапочки. Глаза у нее еще более запавшие, чем обычно, а крупное, пухлое, как подушка, тело прячется под пузырящейся тканью. Единственное во внешности Венды, что не вызывает ощущения сонливости – ее волосы. Кучерявые лохмы, которые с трудом скрепляет грязная резинка. Короче говоря, от волос до пяток эта женщина – один большой плакат под названием «Так одеваться нельзя».
Мы переходим к слайду номер два: женщина, повалившаяся на постель. В нескольких дюймах от ее растопыренных пальцев ручной веер; простыня искусно драпирует все, что ниже пояса.
– Возможно, эти образы покажутся вам успокаивающими, даже мирными, – продолжает Венда. – Но я усматриваю нечто другое – соображения?
Веер вибрирует?
Я фыркаю и скрываю смех жалким приступом кашля. Краем глаза я замечаю мелькание какой-то яркой кляксы. О, нет…
«ООО» преподают в Барнарде, женском колледже, связанном с Колумбийским. В группе три студента из Колумбийского университета, и к двум из них Венда относится с подозрением («Почему вы выбрали совместное обучение?» – спросила она меня и Пикси фальшиво нейтральным тоном, каким обычно осведомляются: «Почему вы состоите в Национальной стрелковой ассоциации?»). Третий – единственный представитель мужского пола на семинаре, Патрик, пользуется ее неизменным одобрением (а как же ему не быть любимчиком преподавателя феминистского предмета! Ведь он мужчина). Этот тощий тип сегодня щеголяет в шикарных красных подтяжках, красных высоких кроссовках и шляпе «пирожком».
Лицо Венды озаряется улыбкой.
– Патрик?
– Я вижу пассивных жертв, – поет Патрик.
– Отлично! Их изображают…
Венда взмахивает рукой, за которой Патрик следит голодными глазами, как собака за костью. Пока ее рукав не застревает в слайд-проекторе.
– Белые мужчины-художники? – догадывается он.
– Совершенно верно! Я полагаю, Патрик, ты намекаешь, что эти женщины не просто «спят». – Венда наконец высвобождает руку, чтобы изобразить в воздухе кавычки. – Их апатия настолько преувеличена, настолько явно выражена, что становится…
Притворной.
Высокохудожественной.
– Вампирической? – предполагает Патрик.
Безопасное решение: «вампирический», «садистский», «женоненавистнический» и «аутоэротический» – хиты этого курса, особенно в комбинации с Ледой, Офелией, Медузой, Цирцеей или Саломеей.
– Верно, Патрик! Отлично!
По экрану проплывают все новые изображения спящих красавиц, и я сама начинаю засыпать под их гипнозом, особенно после бешеного рывка сюда. Пикси же нетерпеливо барабанит маркером по тетради. Помимо наших общих претензий к «ООО», у моей подруги есть и свои: качество произведений искусства, которые нам показывают.
«Низкопробно! – возмущалась она на прошлой неделе. – Как если бы через сто лет кто-то взялся изучать фарфоровые статуэтки массового производства».
Наконец Пикси не выдерживает.
– Венда!
– Да, Серена?
– Хотя предметы искусства, которые вы демонстрируете, м-м, представляют интерес, я хотела бы подчеркнуть, что в этот период времени было создано много изображений активных, энергичных, не лежащих женщин, причем большая их часть – кисти более известных художников.
– Например?
– Ну, очевидный пример – Дега. Его серия картин про балет.
Рукава кимоно скрещиваются.
– Дега? Дега, который писал, как женщины раздеваются? – Венда усмехается. – Боюсь, вам придется поискать пример получше, Серена. Дега был вуайеристом. – Она становится за проектор. – Итак, как нам верно подсказал Патрик, пассивность этих женских фигур свидетельствует о скрытой виктимизации…
– Но разве нельзя сказать, что все художники – вуайеристы?
Я прячу улыбку: молодчина, Пикси-Палочка! У Венды на лице возникает выражение человека, не ожидавшего, что у лестницы еще одна ступенька.
– Некоторые – больше других, Серена. В конце концов, Дега писал раздевающихся женщин с точки зрения человека, который прячется в шкафу – и это не фигура речи. Он был страстным вуайеристом. А теперь перейдем к…
Она тянется рукой к кнопке.
– Но натурщицы, очевидно, знали, что он там! – настаивает Пикси. – Разве это не сводит так называемый вуайеризм к обычному художественному трюку?
– Нет, если от тебя как от зрителя ожидают вуайеристического восприятия, – вступает девушка из второго ряда.
– А разве восприятие – не реальность? – спрашивает кто-то.
– Нет! Восприятие – это восприятие. Оно становится реальностью только при сознательном выборе, – говорит третья.
– Ты хочешь сказать, что реальность – это сознательный выбор?
Возникает дискуссия, похожая на гипнотическое колесо, которое крутится и крутится, никуда не приводя, – другими словами, наш любимый вид дискуссий.
– Довольно, студенты! Внимание! – взвизгивает Венда и в конце концов добивается молчания, как обычно, хлопая в ладоши. – Я думаю, все понимают суть этого разговора, так что позвольте мне представить новую грань. Если точнее, давайте сравним и противопоставим изображение женщин в конце девятнадцатого века с их репрезентацией в конце текущего столетия. То бишь в нашем сегодняшнем мире.
Порывшись в поцарапанном нейлоновом портфеле, Венда показывает нам стопку вырезок из журналов.
Черт!
– Да, студенты, ведь, несмотря на несколько мировых войн…
Около двух.
Серена поднимает голову и видит вырезки:
– Черт!
– …и бесчисленные женские движения, я бы сказала, что изменения ничтожны. Женщины все еще изображаются пассивными существами – жертвами, если хотите, – и я думаю, вы скоро согласитесь со мной, – чья главная цель – искушать мужчину-зрителя и доставлять ему удовольствие.
Венда смотрит в мою сторону. Патрик окидывает меня презрительным взглядом – может, мне показалось? Я нагибаюсь и быстро протираю щеки, затонированные для собеседований, надеясь, что никто не заметит. Теперь они, конечно, красные. В этой стопке есть мои фото? Только бы их не было!
Первая вырезка – фотография мужчины, который кладет девушке в рот виноградины. Не знаю, что за парень, но девушка работает в «Шик».
– Соображения? – спрашивает Венда.
Патрик поднимает руку. Он любит задирать руку высоко и трясти ею – как в начальной школе. Я успеваю заговорить первой:
– Венда, то, что женщина в горизонтальном положении, необязательно означает ее пассивность.
– Возможно, – говорит Венда. Она удивлена: обычно на ее занятиях я открываю рот разве только чтобы зевнуть. – Но эта модель не просто в горизонтальном положении, ее кормят виноградом – мысли? Патрик?
– Очевидная отсылка к вакханалиям, – говорит Патрик. – Бог мужского пола Дионис опаивает женщину, чтобы дико ею овладеть.
Дико овладеть? Что за бред…
– С тем же успехом можно заявить, что это римская богиня, которой прислуживает один из ее слуг, – парирую я.
– Я вижу вакханалии, – настаивает Патрик.
– Ливия, жена Цезаря, – отвечаю я.
– Которая была убийцей! – шипит Патрик.
– Что делает ее странной жертвой! – огрызаюсь я.
– Довольно, студенты! – кричит Венда, но безрезультатно.
Она снова выпустила поводья, однако на сей раз галопом помчалась я. Я раздражена. Я не хочу уступать тому, кто одевается как клоун, хотя дело не только в этом. Я защищаю свою профессию перед судом равных.
– Это развлечение, а не образование, – говорю я. – Фантазия, а не реальность. Читатели сами видят разницу. Иногда «Мадемуазель» – это просто «Мадемуазель».
– А иногда нет!
Девушка с французской косой и в байке с пятнами поджимает губы, состроив классическую мину всезнайки.
– Исследования показали, что журнальные образы влияют на самооценку юных девушек. Возьмите исторические тенденции: модели и актрисы становятся все худее. Например… – она делает паузу, прежде чем нанести удар милосердия, – Мэрилин Монро была двенадцатого размера.








