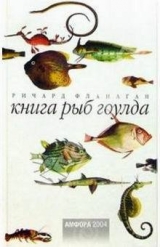
Текст книги "Книга рыб гоулда"
Автор книги: Ричард Фланаган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц)
X
Топчак, или, как его прозвали у нас, Хрущ, был потрясающе жестоким устройством. Он порождал впечатление, будто всё твоё тело состоит не из мяса и костей, а из одной только боли. И достигалось это не только напряжением всех физических сил или тем, что уже после нескольких часов беспрерывного карабкания вверх по бессчётным ступеням в грубых, как наждак, арестантских штанах человеческий пах превращался в сплошную саднящую массу кровоточивой плоти, а самим чудовищным великолепием совершенной никчёмности, бессмысленности и бесполезности этого занятия, ибо день подобного изнурительного, адского труда не оставлял никаких сомнений, что у него нет иной цели, кроме как приводить в движение дьявольское устройство.
Топчак имел вид гигантского мельничного водяного колеса, уходящего под пол с одной стороны и выходящего из-под него с другой, со ступицей на опорах, слегка выступающих над уровнем пола. Он напоминал также исполинскую скалку, которую усеивали деревянные плицы, служившие нам ступенями. Его высота превышала два человеческих роста, в ширину же оно было добрых две сотни ярдов, так что наказанию на нём могло подвергаться до тридцати человек одновременно.
Мы забирались по невысокой лесенке почти на высоту собственного роста и, ухватившись там за прикреплённые к топчаку, от одного его края до другого, где-то на высоте пояса, перила, липкие от пота и крови, прыгали на вращающееся «мельничное» колесо, выполняя тем самым роль воды. И все последующие десять часов мы продолжали восхождение по адскому кругу, оставаясь там же, где были вначале; и никогда нам не удавалось подняться выше следующей ступеньки, надвигающейся на нас; и всё это время мы пытались не слышать стоны друг друга, скрип ступицы, неотвязное звяканье наших цепей, и так каждый день. Стояла изнуряющая, мучительная жара, и пот лил ручьями, ступеньки становились скользкими от него, а мы сходили с ума от жажды.
В конце второго дня у одного из нас, некоего ломателя машин из Глазго, приключились судороги; ноги его свело так, что ему стоило огромного труда передвигать их. Невзирая на мольбы, надсмотрщики не позволяли ему спуститься с колеса. Не в силах далее переступать с места на место, бедняга в конце концов упал, и его затянуло вниз. Он застрял между топчаком и лестницей, по которой мы все взбирались. Но лопасти продолжали опускаться, терзая его тело; огромное колесо, словно повинуясь не законам сего мира, но каким-то иным, вращалось и вращалось, пока мы не возопили, умоляя охранников позволить нам остановиться. Но после того, как наконец прозвучал приказ сойти на дощатый пол, не представлялось уже никакой возможности погасить огромную инерцию колеса, и оно продолжало толочь и плющить беднягу, пока не замерло, застопорившись окончательно.
Одним из нас не было никакого дела до происшедшего – они только радовались передышке, которую дали нам его страдания, и говорили, что ему повезло: он, должно быть, умрёт. Другие же, вцепившись как сумасшедшие в колесо, навалились на него, пытались повернуть вспять и вытащить несчастного. Мы что-то говорили этому злополучному бедолаге луддиту, и он порой отвечал нам. Из его уст сочилась кровь, и вместе с её сгустками из них истекали злые слова: он сожалел, что не стал настоящим Злодеем. Взревев, мы выразили одобрение и наконец сумели высвободить его переломанное тело, столь невыразимо искалеченное, и положили прямо на грязный пол перед колесом.
«Мой отец был ткачом, – прошептал он, – и мне жаль, что я опозорил его, но ткацкое ремесло теперь и гроша не стоит; по правде сказать, оно вообще не стоит ничего». Затем он умолк надолго, и мы стали гадать, собирается он с мыслями или же умирает.
Но всё-таки нам довелось ещё раз услышать его голос, хотя на сей раз тот звучал так тихо и так глухо, словно весь хлопок для всех ткацких станков мира набился в его окровавленный рот.
«Мой отец был ткачом, – повторил он, – да только вот в наше время лучше красть шёлк, чем ткать матерьял из хлопка с помощью паровых…» Но слово «машин» он сумел выговорить не раньше, чем сплюнул на пол, откашлявшись, ещё один сгусток крови.
Вскоре он начал бредить, утверждая, что «келпи» вот-вот приплывёт за ним и заберёт с собой. Другой шотландец, работавший на колесе, пояснил, что келпи – это дух вод, похожий на лошадь, и он топит тех, кто заплывает слишком уж далеко от дома.
Нам приказали вернуться на колесо, и мы оставили ткача лежать там, где он есть, пока не удастся найти доктора. Постепенно вопли его сделались не столь пронзительными и перешли в какое-то злобное кулдыкание, похожее на крик индюка; стало казаться, будто беднягу вот-вот стошнит всеми паровыми ткацкими станками на свете; ему явно хотелось это проделать, только никак не получалось.
Капуа Смерть громко заговорил с ткачом, что было строго запрещено всем работающим на топчаке, но охранники предпочли не вмешиваться, ибо это, по-видимому, несколько успокоило страдальца и он перестал кричать. Капуа Смерть принялся рассказывать о том, что некогда поведала ему мать о стране, где родилась и выросла, о многих удивительных вещах, которые она там узнала, которые чуть не каждый день видела собственными глазами, пока не явились работорговцы и вожди племени её не продали. То опускаясь вниз на ступеньке топчака, то вновь залезая на него по лестнице, я тоже слушал и пытался представить себе, каково летать, – ведь предки рассказчика, по его словам, когда-то могли это делать; вот бы и мне воспарить в небо, унестись подальше от Земли Ван-Димена и её цепей, её топчаков – для этого только и надо, что съесть рыбьи глаза, вымазать руки до плеч птичьей кровью и спрыгнуть с волшебной горы, – а затем нырнуть в море, скрыться в его волнах и плавать там вместе с рыбами, доколе сам не превращусь в рыбу.
И пока Капуа Смерть говорил, он время от времени оборачивался, чтобы посмотреть в глаза луддиту, ломателю машин, который теперь сам был изломан дьявольскою машиной, чтобы удостовериться, жив ли ещё тот, однако взор умирающего оставался светел, глаза его горели ярче тлеющих на ветру углей и неотступно глядели на нас, будто обвиняя в том, что мы допустили такую штуку, как перемалывающий нас Хрущ, что покорились ему и ведём себя так, словно повинны в куда более ужасных преступлениях, чем те нелепые нарушения закона, кои перечислены в обвинительном приговоре каждого из нас.
XI
Во время десятидневного плавания на маленьком пакетботе вокруг безлюдного южного побережья Земли Ван-Димена к бухте Маккуори море разбушевалось настолько, что мы были вынуждены искать спасения на безопасном рейде близ Порт-Дейви, где и бросили якорь.
И тут обнаружилось, что проживающая в Кейптауне любовница капитана, попав под влияние некоего невежественного каббалиста, к услугам коего прибегла, дабы тот предсказал ей будущее, уверовала, будто всему истинному сопутствует число три. Вследствие сего обстоятельства капитан отправил ей избранные посланцами любви три кольца из золотых зубов, кои жестокая необходимость исторгла из челюстей нескольких каторжников, довольно богатых в недавнем прошлом; за ними последовали три живых австралийских страуса эму, передохших, впрочем, во время длительного перехода в Африку; и, наконец, преисполнясь тягой к экзотике, он послал ей три челюсти белой акулы – правда, последний сувенир был выбран скорее в память о тех радостях, коими та его некогда одарила, нежели с намерением её обрадовать.
Вот уже восемнадцать месяцев, как наш капитан не имел от неё вестей; он тревожился и подозревал, что его дарам следует стать более утончёнными и загадочными; в связи с этим присутствие на борту вверенного ему судна живописца, с работами коего он, как почётный гражданин всех постоялых дворов Хобарта, был неплохо знаком, натолкнуло его на мысль о триптихе, изображающем причудливо-странных представителей австралийской фауны.
Меня привели на палубу вместе с моим знакомцем Капуа, ибо капитан в прежние времена много раз выпивал в заведении последнего, а также пользовался его женщинами. Первое моё предложение – нарисовать трёх белоголовых орлов – он поспешил отвергнуть, так же как идею о трёх венках из глициний. Он предупредил, что больше не хочет ничего провокационного в духе миссис Артур с её чёрным младенцем; напротив, требуется нечто на первый взгляд абсолютно невинное, но при желании поддающееся совершенно противоположному истолкованию. Капуа Смерть предположил, что на триптихе должны быть изображены зверь, птица и рыба, и капитан, похоже, счёл идею блестящей. Какую истину сие должно было обнаружить, каким послужить увещеванием, предостережением или поощрением, осталось для меня неведомым, но я решил, что мне, увы, не дано понять, чем отзываются в душах людских мои работы, почувствовать, какие тончайшие флюиды от них исходят.
«Ты рыба, – представил мне Капуа Смерть своё непрошеное мнение, – ты не сеть».
На следующее утро я был призван пред капитанские очи и, представ перед ними, получил набор акварельных красок и поручение изобразить трофеи утренней охоты на берегу: попугая с оранжевой грудкой – его, разумеется, следовало нарисовать до того, как он будет ощипан и попадёт в попугаевый пирог, заказанный капитаном к пяти часам, когда тот, истинный англичанин, сядет, как всегда, пить чай, – и некрупного кенгуру, каких вандименцы называют валлаби – из этого, когда я покончу с ним, предстояло сделать рагу.
Как я ни старался, всё равно изображённое мною не слишком соответствовало натуре, и, стало быть, я отступил от истины. Попугай с оранжевой грудкой – маленькая, довольно милая, цветастая птичка – на бумаге значительно увеличился в размерах. То было неизбежно: большую часть головы несчастной пичуги снесло выстрелом капитана, а тушка так выпачкалась в крови, что мне пришлось призвать на помощь весь свой предшествующий опыт, дабы восполнить утрату, в коей повинен был капитан; и, поскольку я вступил на привычную стезю, птица сия под моей кистью обрела царственное величие, поза производила впечатление затаённой угрозы, а клюв… да что говорить, всё пернатое куда более походило на североамериканского белоголового орла, чем на австралийского попугая. Кенгуру вышел ещё хуже: добродушная мордочка сего миловидного животного на моём рисунке вытянулась и заострилась, как у злобно-подозрительных грызунов, а к ней прилагалось тело, страдающее всеми мыслимыми нарушениями осанки, и этот абсурд ещё дополнялся длинным, схожим с верёвкой хвостом, более подходящим для воздушного змея.
Как вы, должно быть, уже догадались, после всех ужасов, кои навлёк на меня гнев капитана Пинчбека, недовольного моею работой, моё тело уже заранее покрылось липким потом и чесалось, как от золотухи. Во рту пересохло, язык напоминал подвешенную коптиться треску. Сперва я попробовал исправить содеянное, потом сдался и начал всё сызнова, но результат оказывался всё плачевнее с каждым разом: мой кенгуру стал напоминать оленя, больного водянкою, с невообразимым анатомическим строением; попугай же с каждою новой попыткой всё больше походил на хищное дитя воздушной стихии, а дурно сидящее на нём оперение самых крикливых цветов воплощало воинственный североамериканский дух.
Когда капитан – это было уже почти в сумерки – зашёл проверить, как продвигается дело, воспоминания о petite noyade нахлынули, словно вода в тот жуткий ящик, в котором меня протащили под килем. Не в силах вымолвить ни слова, ловя ртом воздух и чувствуя, как морская солёная влага уже льётся мне в глотку, я робко поставил свои творения перед ним на палубу без лишних объяснений. Но, в отличие от капитана Пинчбека, сей пенитель моря, похоже, остался доволен случайно вкравшимся налётом неправдоподобия. Картины мои, по его словам, отобразили мир более диковинный и в то же время, как ни странно, более знакомый и узнаваемый, нежели тот, в котором мы обитаем; короче, всё вышло как надо, и он почувствовал, что триптих сослужит ему добрую службу, ибо поможет в конце концов умилостивить его возлюбленную.
Чтобы я мог закончить триптих, капитан на следующий день принёс рыбину, которую моряки часто ловят за рифами, опоясывающими гавань, на леску с крючком, а затем коптят и съедают. Рыбина оказалась крупной и довольно любопытной окраски; возможно, именно последняя её особенность и заставила капитана полагать, что она может потрафить вкусу его дамы сердца. Мне было сказано, что излюбленный её корм – морские водоросли, кои могучими подводными лесами окружили Землю Ван-Димена и зовутся здесь келп, а потому эту рыбу каторжники окрестили келпи.
XII
Что она меньше всего напоминала, так это лошадь. Она походила на замечательную двухфунтовую рыбину, которую можно, если ты достаточно голоден, закоптить и съесть; пожалуй, она могла сгодиться для этого. Однако сей факт отнюдь не способствовал поднятию моего духа. Кто сия келпи? Сам келпи или простая рыбина? И была ли сия рыбина просторыбой? Затем я заглянул в проклятые глаза этой не то рыбы-келпи, не то водяного, и против моей воли они в один миг, то есть куда быстрей, чем потребовалось бы мистеру Бэнксу, чтобы лишить черномазого парня головы, заставили меня вернуться назад, на топчак по прозванию Хрущ, и мы опять сидели на полу, ожидая, когда умрёт ломатель машин из Глазго, стараясь угадать, дотянет он до утра или сыграет в ящик нынешней же ночью, и размышляли, как бы выпросить у повара немного свиного жира, чтобы смазать им стёртые до мяса бёдра, и Капуа Смерть заговорил снова.
Он обладал властностью, природу которой объяснить невозможно и которая совсем не вязалась с его физическим обликом. Если нарисовать его точный портрет, на нём предстал бы невысокого роста негр с небольшим безвольным подбородком, какой-то кособокий, одно плечо выше другого, что придавало ему довольно комичный вид, но в его облике чувствовалось одновременно и что-то пугающее, подозрительное, ибо постоянно казалось, будто он оборачивается посмотреть, что делается позади, будто он может закручивать винтом туловище, чтобы выслушивать вас, глядя прямо в глаза и словно собираясь ударить.
Сперва Капуа Смерть жил в Сан-Доминго, западной части острова Гаити, и его сморщенное, как чернослив, лицо избороздили морщины, столь же затейливые, как его судьба. Подобно другим бывшим рабам, коих мне доводилось встречать, он повсюду таскал с собой бутылку, служившую обителью духу. То была незатейливая глиняная ёмкость, вроде кувшинчика с узким горлышком, вся испещрённая царапинами, в коей, по его словам, хранилась нерушимая память о том, что он сам добыл для себя свободу, а для пущей надёжности заключил её в прежде столь знаменитый «хулиганский суп». Когда хозяин привёз его с Ямайки на Бермуды, чтобы продать, ему удалось подкупить одного солдата, и тот написал ему фальшивую вольную, с которой он после того сбежал в Англию, где нашёл сперва работу гарпунщика на китобое, промышлявшем в Северной Атлантике, а впоследствии место лакея, но эту должность он потерял заодно со свободой, когда его застукали за кражей господского серебра.
У него был кривой рот, находящийся в постоянном движении, и, когда нам той ночью приказали вернуться в барак, где мы спали, и прихватить луддита, поскольку никакой доктор так и не прибыл, Капуа поведал нам, лежащим вповалку на соломенных тюфяках, влажных и старых, историю великого восстания рабов в Сан-Доминго, во время которого полмиллиона невольников свергли власть белых, потом победили солдат французской монархии, отразили вторжение испанцев, а впоследствии также и английского шеститысячного экспедиционного корпуса, не говоря уж о том, что напоследок они одолели и вторую французскую экспедицию во главе с родичем самого Бонапарта, причём всё это было изложено столь подробно и с таким эпическим размахом, что казалось, его повести не будет конца.
И рассказывал он так, словно сам воевал в рядах повстанцев, стрелял, перезаряжал мушкет, снова стрелял, и всё с невозмутимым лицом, без пауз и лишних эмоций; и ужас, и слава, и невообразимость происходящего нагнетались, накапливались с каждой сообщаемой им подробностью, коим не видно было конца: он говорил о том, как ещё ребёнком стал очевидцем жестокостей революции, о попытке Бонапартова родственника задушить её и о том, что видел своими глазами, как негров публично скармливали собакам, как их сжигали живьём; он вёл речь и об их вожде Туссен-Лувертюре, об этом чёрном Наполеоне, преданном белым Наполеоном, о служившем в армии Лувертюра чёрном генерале Морепа, человеке образованном, который принуждён был смотреть, как французские солдаты у него на глазах топят его жену и детей; к его плечам прибили деревянные эполеты, смеясь и приговаривая: «Теперь ты настоящий Бонапарт». Но был и другой француз, морской капитан Мазар, которому он обязан жизнью, ибо тот отказался утопить сто пятьдесят рабов, которых ему передали именно для такой цели, а вместо этого увёз их на Ямайку. Там Мазар продал невольников английским плантаторам, за что его возненавидели как белые, так и негры, ибо первые желали смерти вторых в наказание за мятеж, а те готовы были умереть любой смертью, но не жить как рабы, ведь умри они свободными, это значило бы, что восстание продолжается.
Капуа Смерть замолчал. На какой-то миг нам всем показалось, что мы снова на колесе, что слышится глухой звон кандалов, клацающих, когда мы переступаем с одной ступеньки на другую: бряк-бряк, дзынъ-дзынъ, клак-клак-клак, да ещё раздаётся скрип медленно вращающегося колеса, и ещё нам вдруг почудилось, будто нету для нас иного исхода, кроме таких вот рассказов. И тогда ломатель машин из Глазго заговорил снова, звук его голоса превратился в сухой хрип, и он просил нас прикончить его.
Сперва мы лишь отмахивались от подобной мольбы, ободряли беднягу, уверяя, что скоро придёт доктор и вылечит его.
Но он тяжело дышал, всё время ловил воздух открытым ртом, будто залезая на какое-то невидимое колесо, и повторял без конца, следуя ритму его вращения: «Умираю!»
И снова, и снова, и снова, клак-клак-клак…
Как будто мы в этом сомневались.
XIII
Тогда Капуа Смерть подхватил свой тюфяк и пошёл к тому месту, где лежал ломатель машин. Встал рядом с ним на колени, не глядя ему в глаза. Казалось, Капуа смотрит на густые чёрные волосы умирающего, которые отвёл со лба и пригладил осторожными движениями руки. Тыльной стороной ладони он провёл по щеке луддита, задержав руку на какой-то миг. Затем поднялся на ноги, набросил тюфяк на черноволосую голову, сел сверху, крепко залов её между коленями через тюфяк и натянув его как можно сильнее.
Оседлав луддита таким образом, он не давал ему высвободиться и в то же время затянул мягким голосом песню, одну из тех, которым научился от матери. Задыхающийся страдалец бился в конвульсиях, брыкался и отпихивал седока, но эти метания вскоре прекратились – как показалось всем, чересчур быстро, – и он замер. Капуа Смерть сидел на нём ещё добрую минуту, затем оборвал пение, встал и оттащил свой тюфяк в сторону.
Никто не пошевелился. Все взгляды были устремлены на луддита в ожидании, не подаст ли он признаков жизни. Их не последовало. Капуа Смерть пошарил в карманах и, нащупав там половинку кольца красного цвета, просунул его в горлышко своей бутылки. Затем лёг на свой тюфяк, прикрыл веки, и в тот же момент на палубе перевозящего каторжников судна открыл глаза я, и увидел невдалеке пологие, покрытые девственным лесом холмы вокруг Порт-Дейви, и понял: всё в прошлом, а самое страшное, что мне предстоит, это нарисовать рыбу, которую прислал капитан, дабы та послужила сюжетом для третьей части триптиха, предназначенного его далёкой возлюбленной. Келпи, которую капитан выдал мне в качестве натуры, по-видимому, не прозревала уготованной ей судьбы – послужить вестником любви. Свернувшаяся на узком дне ведёрка с морскою водой, она была ещё жива и, похоже, с некоторым осуждением воспринимала новое своё положение. Я вынул её из ведра примерно на минуту и за этот короткий срок успел поместить на стоящий рядом стол и сделать беглую зарисовку, стараясь выполнить оную как можно быстрее, а затем отправил рыбу обратно в ведро, чтобы она там «отдышалась», ведь ей предстояло ещё немного пожить. Мне пришло в голову, что для неё мой сухой стол – то же, чем был для меня ящик с дырками во время petite noyade, что я для неё – капитан Пинчбек. Подобно мне, эта рыбина подверглась наказанию и не знала за что.
Выяснилось, что воспроизвести образ келпи с разумной степенью точности не так уж трудно, но немигающий взгляд рыбьих глаз преследовал меня, и я прочёл в нём знание всех наших истинных преступлений, вот так и глаза луддита следили за мной до самого смертного мига; но не совсем такой изобразил я эту рыбину – я не собирался показать один только укоризненный, полный страха взгляд существа, очутившегося на пороге смерти. Нет, мне хотелось нарисовать не просто её глаза: вдохновлённый тем, что капитан столь неожиданно для меня одобрил те странности, которые вкрались в предыдущие две работы, я взял на себя смелость по-своему написать всю голову рыбы – так, чтобы передать и всеведущий рыбий зрак, и весь ужас, читавшийся в глазах луддита, когда он впился взглядом своим в нас, вращающих колесо; каюсь, я отразил и вид рыбьей морды, и выражение человеческого лица, и много, много чего ещё. То были глаза самого Капуа, уставившегося на лоб шотландца, и его оскал, и его полуиспуганная, полувосхищенная оглядка на собственное прошлое через плечо в тот миг, когда ломатель машин затрепетал под ним. Там была вся кровь: кровь рыбьих глаз, кровь разрываемых в клочья восставших рабов, и та, что сочилась из пробитых гвоздями плеч генерала Морепа, и та, которую мы увидели в глазах луддита, после того как Капуа снял с него тюфяк, но был там и мой собственный страх, страх перед этим давшим трещину, расколовшимся миром, в который и я, и только что мною упомянутые, все и вся попали точно в ловушку. Сперва это показалось мне забавным, однако затем я понял: нет ничего забавного в том, что все эти вещи на миг оказались связанными друг с другом и стали реальностью, воплотившись в одной умирающей рыбине.
Конечно, мысли, пришедшие мне тогда в голову, были дурацкими, и я обрадовался, когда капитан забрал картину, чтобы отправить любовнице, а матросы закоптили келпи и съели.








