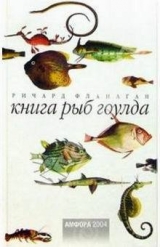
Текст книги "Книга рыб гоулда"
Автор книги: Ричард Фланаган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 29 страниц)
VIII
Я приготовился к смерти.
Несколько часов я позволял взору своему бродить по стенам и потолку хижины, разглядывать внутреннюю поверхность кровли из листьев чайного дерева и обкладку из перьев, таких неровных, таких мягких. Теперь хижина казалась сложенными надо мною домиком стариковскими руками, которые, несмотря на узловатость пальцев, напоминают опущенные крылья птиц; всё в ней было цвета светлого табака – полагаю, из-за дыма, поднимавшегося некогда от очага, где теперь остались лишь чёрные мёртвые головешки.
Шкурки опоссумов и валлаби висели на стенах под самыми причудливыми углами по отношению к оперённой поверхности, и казалось, что они могут мгновенно принять прежний облик и спрыгнуть вниз. Я разглядывал рисунки, сделанные на этих шкурах топлёным салом с примесью сажи и охры, изображения сумчатых волков и сумчатых дьяволов, а также кенгуру, группы охотников, пляшущих человечков, мужчин и женщин, луны в разных её фазах, которые, как мне казалось, обладали завораживающим очарованием и непонятною силой.
Я снял шкуры со стен, лёг на них и укрылся ими. Я свернулся калачиком, и надо мною бродили вомбаты, сумчатые дьяволы, танцоры, охотники, и луна была участницей тех событий, о коих я и не чаял что-либо разузнать. В безмятежной тьме хижины-улья, выложенной изнутри птичьими перьями, укутавшись в непонятные мне истории из прошлого, положив под бок несъедобную книгу о неудобоваримой любви, я наконец заснул.
Подобно раку, скрывшемуся от меня под водою, после того как он сменил панцирь, я приготовился покинуть прежнюю свою оболочку и превратиться в кого-то другого. Внутренним взором я увидел сияющую арку из голубого пламени, источавшего запах палёной фланели, который затем улетучился – стараниями всех этих танцующих зверей он со свистом утекал из хижины, и я наконец ощутил, что душа моя полетела.
Жизнь движется поступательно, по прямой, и если представить её в письменном виде, то предложения неизбежно последуют одно за другим, кирпич на кирпич, однако красота сего мира есть бесконечная тайна, обращающаяся по кругу. Солнце, луна и небесные сферы находятся в бесконечном вращении. Чёрный человек – полный круг; белый человек – перечёркнутый круг; жизнь – это третий круг, и так далее, в том же роде, такие дела.
Мне снилось, что я плюнул на корочку засохшей, цвета сепии, крови, которая оставалась на дне чернильницы Брейди, и приготовил алые чернила, напоминающие краски сумрачного рассвета. В сию тёмную адскую жижу я погрузил кончик старого пера и сделал ещё одну запись в дневнике Брейди, на пергаменте, выделанном из кожи валлаби, в том месте, где заканчивались его мечты и грёзы и начинались чистые, пустые страницы: «Orbis tercius», и эти латинские слова мои означали «круг третий».
А затем, разорвав-таки паутину бесконечной памяти, в которой совсем было завяз, я устремил свои мечты к человеку, коим некогда был, к осуждённому за подделку и подлог каторжнику, называющему себя Вильям Бьюлоу Гоулд, который открыл, что в одном простом морском коньке может скрываться целая вселенная, что любой человек способен быть кем или чем угодно, то есть может стать кем или чем захочет, что нумминер есть палауа, а палауа есть нумминер, который нарисовал несколько странных картинок с рыбами, а затем умер.
IX
Я украл песни у Бога.
Х
Пока я спал, мне пришло в голову, что, если бы всё это было обычным сном, а я – тем, кто видит его, многие странные образы вполне могли бы оказаться мною самим. Не могло ли так статься, что, хотя Комендант и повелевал мною, я был тем самым Комендантом? И не вышло ли так, что, хотя мистер Лемприер и приказывал мне рисовать рыб, я был тем мистером Лемприером? И что, хотя я и нарисовал рыб, на самом деле?..
Но продолжить в том же роде я посчитал попросту невозможным.
Послышались крики, брань, звуки тяжёлых шагов, громкие вопли «Нашёл! Нашёл!», что-то забренчало, и я ощутил острый, аммиачный запах смятения и страха. Открыв глаза, я увидел, что от моей головы во все стороны расходятся стволы ружей, словно я морской ёж, а эти опущенные дула мушкетов – мои шипы. Оружие наставляли на меня какие-то грязные солдаты, явно живущие на подножном корму и промышляющие на свой страх и риск. То были молодые деревенские увальни с пунцовыми щеками – всяко поярче их мундиров, полусгнивших и выцветших, – и вылупленными, удивлёнными глазами. В следующее мгновение меня выволокли из-под вороха шкур, а затем из хижины. Я застонал, выплюнул мусор, набившийся в рот, ибо голова моя пропахала весь путь до того места, где меня швырнули на землю, и приподнял её, то есть голову.
Передо мною маячила грязная шапка из меха сумчатого волка и мёртвые глаза солдата, чьё налитое кровью глупое лицо показалось мне знакомым; оглядев обнажённый торс, на который была плотно насажена его голова, я признал бандита, предателя, насильника, душегуба и охотника на тюленей по имени Клукас. Я тогда ещё не подозревал, что, выполнив свои обязательства в части поставки нескольких бочонков пороха – им были заряжены и наведённые на меня мушкеты, Клукас ожидал расплаты, кою вскоре и получил, причём смертоносной монетою. Но, едва отведя от него взгляд свой и ещё не остановив оный на лице стоящего рядом, я уже угадал имя будущего убийцы. Ибо при неярком свете восхода в глаза мне бросился чудовищный, похожий на вымя силуэт огромной мошонки, обладателем коей мог быть лишь Муша Пуг.
Рыба одиннадцатая
Солнечник


О превратностях времени – Сожжение Новой Венеции – Предан ради опиума – Аморальные откровения – Процесс потрошения – Мятеж – Солнечник детонирует – Мечты, дождь, надежда и железнодорожные вагоны – Рассказ о любви, оплаченной смертью – Размышления о Рембрандте ван Рейне и о различных иных материях – Заговор рыб – Страшная месть
I
Вилли Гоулд проснулся сильно испуганным. Встряхнув головой, он ощупал густо заросший подбородок и принялся чесать все места, где его кусали проклятые вши. Внезапно ему захотелось сделать какое-нибудь движение, лишь бы не чувствовать мерзкого зуда и хоть на миг позабыть о страшном сне; Вилли Гоулд вскочил на ноги, подпрыгнул, ухватился за прутья решётки над головой, подтянулся к крошечному окошку и посмотрел в него. К моему большому облегчению, всюду, куда ни глянь, можно было наблюдать убогое величие Комендантовой Новой Венеции, и сердце моё сжалось от благодарности к Муше Пугу за то, что вновь доставил сюда.
Мне следовало бы знать, почему я оказался здесь, но, по правде говоря, всё никак не удаётся вспомнить. Хоть я и описывал всё на свете, если честно, в памяти всплывают лишь два слова – «послать к…». С другой стороны, забытое мною, наверное, по-настоящему впечатляет. Должно быть, вся Александрийская библиотека не вместила бы описания тех вещей, о которых я ведать не ведаю. Например, я никак не возьму в толк, почему меня хотят повесить за два убийства, коих я никогда не совершал, а за целую кучу черепов на том далёком кострище так никто и не ответил. А ещё я не понимаю, почему убийство Пудинга и Йоргенсена считают преступлением, а истребление целого народа в лучшем случае признают сложной проблемой, подлежащей доскональному изучению, а в худшем – доказанной наукой необходимостью. Есть и ещё много такого, чего я не могу вспомнить. Например, почему люди воспринимают всерьёз писания Боудлер-Шарпа, но не обычные сказки. Почему в нашей вселенной может существовать алфавит, но в нашем алфавите вселенная существовать не может. Подобные вещи и ещё множество других остаются для меня совершеннейшими загадками. Например, почему суда плавают по поверхности воды. Почему мы представляем жизнь свою в виде лестницы, в то время как мир вращается вокруг нас. Как действует известковый раствор. Отчего мужчина трепещет, как рыба, когда мимо проходит женщина. Почему здания не разваливаются. Как так вышло, что человек может ходить, но не может летать. Отчего мне приснилось, что я превратился в лес, но, проснувшись, пропахал хайлом землю до самых сапог Муши Пуга. Какие бы скрытые намерения ни руководили ищейками Пуга, официальной задачею его команды являлось прочёсывание лесов в целях сбора сведений о перемещениях Брейди, так что, увидев меня спящим под шкурами, они даже сперва возликовали: наконец сей великий человек пойман! Я рассказал им, что действительно встретил однажды разыскиваемую ими персону, и указал направление, обратное тому, в котором ушли Салли Дешёвка и дети.
– Ты что, думал, Брейди тебя спасёт? – рассмеялся, пнув меня в лицо, Муша Пуг.
– Разумеется, – ответил я, ибо догадывался, что именно такого ответа он ждёт, хотя и знал теперь, насколько тогда ошибался.
Окажись перед ним всё, какие только есть на свете, книги о страданиях сего мира, Мэтт Брейди, кем бы он ни являлся, и то не сумел бы нас спасти. Ничто не спасло бы нас. Ни Докторова Наука. Ни Комендантова Культура. Ни сам Господь Бог, который бесконечен во времени. Не могли бы спасти себя и мы сами. В нашем прошлом не находилось утешения и надежды. Не было их и в будущем. Даже в идее загробного воздаяния. Существовали только сапоги Муши Пуга, один из которых нанёс удар по моей щеке, а потом скользнул по рту, после чего я поцеловал его. Поцеловал, потому что, кроме этих сапог, не осталось в мире ничего, что я смог бы полюбить.
II
За крошечным окошком, на решётке коего я висел, открывался вид, показавшийся мне сразу и чудесным, и поучительным: на молу сушила сети свои рыбацкая артель, а рядом со сколоченной из грубых досок пристанью в назидание нашим падшим душам была поставлена виселица – она как бы присматривала за нами с высоты, дабы мы ни на минуту не забывали о воздаянии за грехи, пока не всё ещё потеряно. У её подножия при отливе обычно взгляду открывались отбелённые солнцем и обкатанные волнами черепа и кости солдат лейтенанта Летборга – прибой то и дело выбрасывал их на прибрежный песок. После поимки меня поместили в новую камеру – камеру смертников, – дабы я ждал неминуемого наказания, которое должно было последовать на восьмой день, то есть через неделю.
Новый мой дом обладал своими достоинствами. Его не затопляло каждый день приливом, и потолки здесь выглядели прочными. То была одна из трёх смежных камер, несколько больших, чем моя предыдущая, и находившихся на противоположной стороне острова, – и я мог бы почти наслаждаться таким, незнамо от кого доставшимся наследством, когда бы не Побджой, который и тут взял за правило то и дело нарушать моё уединение.
Я попробовал ещё повисеть на манер Христа, но меня не настолько уж и увлекали собственные страдания, особенно по сравнению с муками всего мира, о которых так любил когда-то поговорить старый священник. Исхудавшие руки не могли долго удерживать даже мой ничтожный вес, и я упал во тьму камеры, меж тем как Побджой, по привычке сутулясь, будто он стремился снизойти до чего-то весьма невысокого, громогласно требовал возвращения масляных красок. До сего момента меня не оставляла надежда, что корыстолюбие Побджоя, стремящегося постоянно пополнять запас поддельных Констеблов, стакнется с моим желанием выжить. Вышло же совсем наоборот: он спокойно заявил, что моя надвигающаяся смерть его более ничуть не волнует.
– Я подозреваю, – проговорил он, решительно вторгаясь в мою камеру и жадно хватая набор красок, а заодно и новоиспечённого Констебла, и тут же поправился: – Нет, я знаю, я даже более чем уверен, что могу точно сказать, каким образом ты сбежал.
Я окидываю взглядом его веснушчатое, круглое, как луна, лицо, бельмо на его глазу, которое, верно, и объясняет, что он видит всё в кривом свете. Нижняя губа у него сильно выдаётся вперёд, выступающий красный подбородок покрыт давно не бритой щетиной; при взгляде на него невольно приходит на память большая уродливая морда рыбы-солнечника. Не знаю почему, но я никогда не брался рисовать солнечников. Это слишком сложно.
Мне следовало сразу догадаться по той небрежной манере, с какой он в последнее время носит свой красный мундир не застёгнутым на все пуговицы, что его мучает позыв Неутолённой Страсти. Желания его оказались воистину грандиозны.
– Я хочу, – заявил он, и голова его дёрнулась назад, сразу и высокомерно, и нервически, выдавая мечту вкусить запретный плод, который мог обернуться для него отравой, – стать Художником.
Я стал уверять, что есть и худшие разновидности честолюбия, но в ту минуту не сумел вспомнить ни одного подходящего примера.
Чем более он настаивал, тем краснее становилось его лицо и тем сильней дёргалась голова. И чем резче она двигалась, чем ярче обозначалась приливающая к физиономии кровь, тем сильнее выпячивались губы, словно в стремлении преодолеть какой-то детский дефект речи. И чем более выдавались эти губы, точно рыло солнечника с его способным чуть не до бесконечности выдвигаться вперёд ртом, тем более я терялся в догадках, действительно ли он мне что-то говорит или пытается высосать из меня своим невероятным ртом то самое важное, что должно питать его безумные эстетические устремления.
Затем, наверное, его одолела ностальгия по добрым старым временам, и он задал мне хорошую трёпку, пустив в ход даже сапоги. После чего я заверил тюремщика, что он обладает всем необходимым для успешной карьеры живописца, но, к сожалению, рот мой слишком сильно распух, чтобы я смог доставить ему удовольствие, перечислив, что именно, а ведь его действительно отличали и должная посредственность, и способность жестоко расправиться с вероятными соперниками, и желание не просто самому добиться успеха, но и увидеть, как неудача постигнет собрата по цеху, а также потрясающие неискренность и способность предать. Фортуна благоволит глупцам, хотелось мне объяснить ему, но я только и сумел, что выплюнуть зубы вместе с кровью. Тогда Побджой расплакался и заговорил про вечное своё невезение; ему не пофартило, когда его забрили в солдаты, затем он имел несчастье отправиться служить в этакую даль, в этакую глушь, но худшая неудача состоит в том, что ему приказали сторожить таких олухов, как я. Мне удалось-таки привести свои губы в движение, и я завёл очередную историю, чтобы позабавить, утешить и хоть как-то воздать за его несчастную долю, но это лишь опять разозлило его, и он велел мне заткнуться.
– Я позабочусь о том, чтобы тебя утопили и четвертовали, – заорал он, – я сам лично стану сечь твою спину, пока от неё ничего не останется, пока все девять хвостов кошки не выскочат с противоположной стороны, чтобы пощекотать тебе грудь!
Он шмыгнул носом, втягивая поглубже сопли, и, когда те достигли глотки, прочистил её, а затем сплюнул, попав-таки в меня, и спросил:
– Ты что, правда такой полоумный, Гоулд?
Я был не настолько глуп, чтобы спорить с представителем власти, а потому, отирая лицо рукой, смиренно признал его правоту.
– Заткнись! Немедля заткнись, ты, тупой ублюдок, или ты настолько туп, что не можешь понять, насколько осточертел мне со своими дурацкими россказнями? Если ты ещё скажешь хоть слово, я опять задам тебе взбучку!
И я рассказал ему про некоего Неда Хеннесси родом из Уотерфорда, который был такой простачок, что приятели однажды вздумали разыграть его. Они обставили дело так, будто один из них умер, положили его в гроб и попросили Неда Хеннесси покараулить ночью с пистолетом – на случай, если потусторонние силы захотят выкрасть их друга. Посреди ночи предполагаемый труп поднялся и сказал: «Привет, Нед!» – а тот, напуганный темнотой, вытащил пистолет и – бац! – влепил заряд падкому на шалости приятелю прямо в лоб!
– Заткнись, – устало произнёс Побджой.
– Вот такой субъект, – заключил я, – был Нед Хеннесси.
Всё это время Побджой исправно колотил меня кулаками, бодал головой, даже несколько раз ударил ящиком с красками, однако ногами больше не бил, и я понял, что в сердце своём он сменил гнев на милость. Бедный Побджой!
– Такой человек, как вы, – начал я, но речь моя была неразборчива, ибо слова перемешивались с кровью, которая всё продолжала идти, да и говорить лёжа на холодном полу весьма неудобно, – вступивший в пору зрелости и расцвета… – Но тут я услышал, как хлопнула дверь камеры и заскрежетали засовы, и, выхаркнув последние зубы, должен был признать, что встреча вышла не совсем дружеской, что я теперь остался без красок и что на сей раз мне, похоже, действительно крышка.
III
Когда на следующее утро я снова повис на высоком зарешечённом окошке моей камеры и глазел по сторонам, взгляд мой уже сторонился виселицы, стараясь останавливаться на далёких столбах дыма, которые с каждым днём всё более приближались к нам со стороны Френчменз-Кэпа. Прочих обитателей колонии поначалу весьма мало занимал сейнадвигающийся пожар, пожиравший не отмеченные на картах сосновые и миртовые леса, которые Комендант ещё не успел продать, а японцы – вывезти. Никто не поверил бы, вздумай я объяснить, как начался сей пожар, да и кому, скажите на милость, я мог бы о том поведать? Кому я мог сообщить, что растопкой для пламени послужила поэзия самой Системы?
Вначале мы все рассматривали сей огнь лишь через призму собственных мелочных интересов. Для некоторых арестантов насыщенный гарью воздух стал ещё одной принадлежностью мира насилия, который виделся им одной большою тюрьмой, тогда как помрачённый сиянием золота взор Коменданта узрел в сём бедствии лишь возможность новых успехов на почве коммерции; он тут же послал эмиссаров куда-то в португальские колонии с предложением о поставке древесного угля, который, как и ртуть, необходим для извлечения золота из руды, добываемой в отдалённых джунглях Нового Света; таким образом, каждый смотрел на пожар как на часть собственного мирка или, лучше сказать, как на продолжение оного, между тем как огню предстояло положить конец всему тому универсуму, в коем мы жили.
За пять дней до казни с неба начали падать хлопья пепла и сажи. Когда ветер набрал силу, на нас обрушился настоящий дождь из обуглившихся листьев мирта и обожжённых веток папоротника; они полностью сохранили форму, но стали чёрными и хрусткими, эти знаки нашей судьбы, порхающие повсюду, слетающие на плечи и головы вестниками бед, насланных из иного мира, из другого времени; однако мы неверно истолковали их, а потому сие кружение оказалось напрасным.
За трое суток до казни выпало столько пепла, что в некоторых местах воздвиглись сугробы, в кои нога проваливалась до бедра, и к следующему утру только крыши бараков, верхние этажи самых высоких зданий да узкие проулки, которые команда колодников расчищала всю ночь в поте лица, напоминали, что на сём острове, выглядевшем теперь огромной кучей золы, некогда существовало поселение.
Северо-восточный ветер всё крепчал и крепчал, пожар ещё более разгорелся и подступил ближе; и каторжники, где бы они ни находились: в камерах смертников ли, в командах колодников или на тёплых местечках, – ощутили его силу, осознали вполне его мощь и поверили, что это дело рук Брейди, часть его грандиозного замысла, по исполнении коего мы все станем свободны – о, сколь велик сей человек! Использовать поработившую нас природу, заставить её освободить порабощённых и в то же время уничтожить себя саму! И они стали ждать, когда наконец сей великий муж, и Маккейб, и остальные его сподвижники нагрянут, словно величественные всадники Апокалипсиса, вырвавшиеся из ада в предначертанный день, чтобы творить огненный, праведный суд под гром своих мушкетов.
И, зная, что судный день близок, арестанты уже не обращали внимания ни на солдат, ни на констеблей.
За сутки до казни я услышал, как стражники шепчутся о том, что пильщик Бен Джошуа отказался взять в руки пилу и заявил Муше Пугу:
– Брейди доберётся и до тебя, Муша. – Так прямо вот и сказал, а потом добавил: – Брейди тебя скрутит верёвками, как тушку цыплёнка для жарки, и твою мошонку подвяжет тоже; он заткнёт твою грязную глотку кляпом и будет держать твою голову под водой, пока твои зенки не вылезут на лоб; и будут тебе бусины вместо глаз и молот вместо твоих дружков, которые тебе больше не помогут, ибо его вобьют в тебя на целую сажень.
Муша Пуг дал ему, однако удар сей мог показаться чувствительным скорее женщине, чем мужчине, и нанесён был не кулаком, а тыльною стороной руки, а потом Муша Пуг отвернулся и пошёл прочь, ковыляя на своих трёх ногах, и все поняли, что он просто шлёпнул, а не припечатал. Все видели, как Муша Пуг уходит, и все понимали, почему дело ограничилось шлепком. И колодники подняли констеблей на смех, когда те приказали им браться за работу, а эти констебли-надсмотрщики, набранные из арестантов, отказались применить силу, когда начальство приказало им навести порядок. Вместо того чтобы бить ослушников чем ни попадя, часть из них разбрелась по своим углам от греха подальше, другая постаралась снискать расположение смутьянов, угощая их табаком, шуточками и делясь предположениями, сколько народу придёт с блистательным Брейди.
Артель лесорубов отказалась покинуть остров и тем более отправиться вверх по реке. На верфи плотники разлеглись внутри корпуса куттера, который они в то время строили, а бочары пошли прочь от недоделанных бочек, напоминающих полураскрытые бутоны, и никакие угрозы, никакие мольбы не заставили никого пошевелить хоть мизинцем, так что вскоре весь остров замер и все – как надсмотрщики, так и их подопечные – просто ждали, что будет.
Но вот Муша Пуг выкатил бочонок с ромом, потом другой и пошёл по кругу, угощая и пильщиков, и корабелов, и бочаров – словом, всех работников верфи, говоря им, что добрые каторжане кобберы не должны быть доносчиками. Потом подошли солдаты, но только затем, чтобы забрать бочонок себе в казарму, где и сидели, как мыши, тихо выпивая, кто – чтобы обрести мужество, а кто – дабы забыться. К заходу солнца весь остров был вдрызг пьяным, все разговоры сводились к безумным мечтам о новой жизни, все глаза пристально наблюдали за горным массивом на востоке, ожидая разглядеть в дыму хоть какой-нибудь знак скорейшего пришествия Брейди, и даже я, сидя в камере смертников среди кромешной тьмы и ожидая назначенной на утро казни, не мог подавить слабый всплеск надежды.








