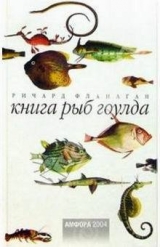
Текст книги "Книга рыб гоулда"
Автор книги: Ричард Фланаган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
IV
Прежде чем приняться за неё, я спросил Короля: «Как бы мне лучше начать столь величественные анналы? Воспеть истоки, написав новую Книгу Бытия? Воспеть рыб и человека, обречённого судьбою стать ссыльным каторжником, который когда-то, давным-давно покинул страну англичан и прибыл в страну Ван-Димена, в эту островную тюрьму, а также поведать о том, сколь велики были в этой земле, у этого моря его страдания, насланные богами, коих давно полагали мёртвыми, страдания человека, чьи преступления взывали к возмездию, воздаянию той же монетой?»
Нет. Я догадался, что Король посчитает за лучшее просто намазать краскою пальцы и замарать их отпечатками все страницы; такая пачкотня представляется ему куда предпочтительнее подобной чепухи, ибо кому в здравом уме придёт в голову лишний раз воспевать здешнюю страну?
Король знает столь же хорошо, как и я, – а может, и лучше, – что живущие в этой стране людишки будут гораздо более счастливы, если тоскливые песни и образы Старого Света продолжат снедать их души, если опять и опять повторится унылая байка, которую я сто раз слышал с тех пор, как мне крупно не повезло в Бристольском суде: вина доказана, и ты должен её искупить, и ты всех менее… и вот увидите, как всё новые певцы и всё новые художники станут нести ту же чепуху, что и тот бристольский судья
в чёрном парике. И ещё долго после того, как сии решётки падут, они будут воспевать их и воспроизводить на своих полотнах и обрекут на вечное заключение и вас, и ваших близких, и ваших потомков, – с радостью припевая и подрисовывая: Менее! Менее! Менее!
«Художники! Ха! Тюремщики сердец! – взревел я, обращаясь к моему сокамернику Королю. – Поэты! Ха! Сторожевые псы душ! То, что я пишу здесь, и то, что рисую, есть эксперимент и попытка заглянуть в будущее, так что не суди, не мерь ни то, ни другое тем жульническим, коротким аршином, который зовут Литературою и Искусством; эти компасы сломаны и показывают неверное направление».
Чтобы ещё лучше довести до него мою точку зрения, я пригрозил Королю тем, что оказалось столь эффективным аргументом для Побджоя, и, увидев у меня в руке то, чем я приготовился ему возразить, скажи он хоть слово мне наперекор, Король струсил и благоразумно предпочёл молчать. И тем не менее, как всегда, его взгляд показался мне заслуживающим внимания, и я решил не воспевать новый край и зарождение новой, благородной расы, а начал с того, что написал правду, хотя и неприглядную, а именно: «Я, Вильям Бьюлоу Гоулд, осуждённый за убийство художник…» – и тому подобные маловажные сведения. Недостаток добродетели понуждает меня предупредить вас, читающих написанное мною и отправившихся, таким образом, в мысленное путешествие по моему прошлому, что я самый неблагонадёжный проводник из всех, кому вам когда-либо придётся довериться, человек отпетый, осуждённый за обман и подлог в мрачных чертогах Бристольского суда в ненастный день 10 июля 1825 года. Судья ещё добавил при этом, если только мне не послышалось, что моё имя хорошо будет смотреться среди имён других таких же преступников в «Справочнике Ньюгейтской тюрьмы», после чего потрогал свой парик и приговорил меня к казни через повешение.
Тёмное дерево, коим в изобилии была отделана зала суда, изо всех сил пыжилось, стараясь воспринимать себя всерьёз. Дабы мрачная сия древесина наконец просветлела, мне следовало бы рассказать ей свою историю, какою я намереваюсь изложить её вам, то есть подразумевая, что жизнь есть анекдот. Так её легче оценить, особенно когда вы придёте к открытию, что и рай, и ад проявляются всего заметнее в самых малозначительных вещах, вроде испачканной простыни, охоты на кенгуру и глаз рыб. Но я тогда не сказал ничего, сильно переоценив могущество тишины. Судья подумал, что я раскаиваюсь, и заменил повешение высылкой в Землю Ван-Димена.
На четверть обнадёженный и наполовину лишённый надежды, я ещё не был тем полновесным шиллингом по имени Вилли Гоулд, которому однажды высокопарно приказали изобразить великого морского бога Протея, способного – как не преминул напомнить мне наш Доктор на своей собачьей латыни – принимать облик любой водной твари. Мне предстояло, таким образом, нарисовать все живущие в море создания: акул, крабов и осьминогов, кальмаров и пингвинов. Но когда я закончил сей труд моей жизни, то, к своему ужасу, обнаружил, что все образы слились и отразились в чертах моего лица.
Являлся ли я сам Протеем, или Протеем был другой такой же простак, попавший в переплёт? Неужто я и вправду бессмертен? О нет, навряд ли; похоже, меня просто ввели в заблуждение.
Ибо я, видите ли, не был зачат от дьявола, но появился на свет в результате обычной интрижки, завязавшейся в базарный день; плод мимолётной бездумной похоти, такой же случайной и глупой, как надувательская игра в три напёрстка или как те три части, из которых состоит моё нынешнее полное имя: за каждой из них на самом деле ничего нет!
Забавница судьба, забросившая французского еврея-ткача на ирландскую ярмарку, явила ткачу – язык не поворачивается назвать его отцом – свой грозный лик, поразив его в амбаре апоплексическим' ударом в самый разгар грубых любовных утех, когда он полагал, что, оседлав любимого конька, будет кататься весь день. Однако не тут-то было: внезапная смерть вышибла его из седла, и он ушёл из жизни ещё быстрей, чем сойдёт со страниц моей повести, едва на них появившись. Та женщина, которую он за полчаса до того повстречал в палатке с вывескою «фрументи», где она, давясь от смеха, поглощала не приправленную корицей сладкую пшеничную кашу на молоке, а сдобренную ромом овсянку, коей успела основательно накушаться, теперь так напугалась, что не могла ни вскрикнуть, ни выругаться, ни заплакать. Она лишь оттолкнула ткача, подтёрлась его шикарной вельветового жилеткой, которая совсем недавно вскружила ей голову – такой он в ней был неотразимый красавчик денди, да ещё обладатель длинных, прямо-таки зазывных ресниц, не говоря уже о прононсе, выдававшем в этом симпатяге настоящего французика, – и, выскочив опрометью из амбара, побрела, куда несли ноги, пока не наткнулась на большую толпу, ждущую чего-то прямо посреди открытого поля.
Будучи ростом не выше цапки (и, как мне рассказывали, с очень похожим характером, добавьте рот, похожий на механическую прялку), она не могла сразу же увидеть, что привлекает внимание толпы, однако любопытство, вдруг овладевшее ею, – возможно, ей требовалось как-то отвлечься, забыть то, чему она только что стала свидетельницею, – заставило бедняжку проталкиваться и протискиваться, пока она не оказалась впереди всех, прямо напротив грубо сколоченного помоста.
Галдёж толпы неожиданно прекратился, все замерли, и она стала озираться по сторонам, пытаясь понять, что могло их так утихомирить – уж не её ли нежданное появление перед всеми? Но, обернувшись, она поняла, что все взоры обращены вовсе не на неё, а на что-то у неё за спиною, причём на достаточной высоте; и это вынудило её повернуться и, следуя направлению взглядов, увидеть, что помост на самом деле возведён под виселицу.
И в этот самый миг она услыхала скрип открывающегося люка и увидела тощего человека в длинном грязном балахоне с петлёю на шее и большой рыбиною в руках – он упал откуда-то сверху и оказался прямо перед ней. Когда его тело достигло в падении крайней точки, когда верёвка, натянувшись, рывком остановила его полёт, послышался негромкий, но хорошо различимый хруст: это сломалась шея под тяжестью тела повешенного; с тех пор эту сцену ей приходилось не единожды видеть во сне, снова и снова, и каждый раз тощий мужчина, падая, раскрывал рот, однако не крик исходил из его отверстых уст, но сияющий луч синего света. Она смотрела, как синее пламя летит над полем, а потом запрыгивает прямо в её разинутый от изумления рот.
Несчастной овладела мысль, что злой дух, коим, вне всяких сомнений, был одержим повешенный, теперь вселился в неё, и после сего она прожила не долее, чем требовалось, чтобы родить меня и сдать в работный дом для бедняков, будучи в полной уверенности, что коли я появился на свет синим, то, стало быть, и есть воплощение того самого злого духа.
Я вырос в работном доме, населённом множеством старух, одни из которых были сумасшедшими, другие приветливыми, а третьи – ни то ни сё, но у всех у них водились в изобилии вши и всяческие истории о мертвецах и о тех, кто ещё не стал мертвецами; ничего больше не водилось в этом тёмном, холодном, промозглом доме – только вши да россказни; и те и другие вызывали у меня зуд и чесотку, после коих на теле оставались язвы и струпья, со временем рубцевавшиеся в небольшие грязные шрамы. Я вырос на этих историях (в том числе на самых ими любимых: об умершем за работой ткаче, о висельнике, его рыбине, синем свете и обо мне), больше им поделиться со мной было почти нечем.
Старик священник, живший при нашем работном доме, сперва по ошибке посчитал меня будущим грамотеем и принялся давать мне уроки. Обычно он читал мне «Четьи-Минеи», где на каждый день года приходится житие какого-нибудь святого – причудливая повесть о страданиях, пытках и всяких изощрённых мучениях; то был впечатляющий каталог девственных мучениц, чьи роскошные, но неизменно чистые и невинные груди терзали похотливые римские префекты; средневековых монахов, коих привязывали в трапезной верёвками к скамьям, дабы их левитация, то есть парение в воздухе, не мешала остальной братии вкушать пищу; флагеллантов из числа анахоретов-отшельников, бичевавших себя за просто так сорок дней и ночей. Воистину, ничто лучше не могло подготовить меня к жизни в Земле Ван-Димена.
Уроки священника послужили мне в жизни поддержкой, коей служит верёвка повешенному. Он научил меня двадцати шести латинским буквам и любил, чтобы я читал ему вслух Библию и Молитвенник, в то время как он совершал омовение моих ног – подошв, затем уже всех ступней, потом тощих икр – и всё время при этом нашёптывал: «Скажи мне, когда семя созреет в тебе и будет готово пролиться, скажи мне, пожалуйста».
На это обычно я отвечал: «А-Бэ-Цэ-Дэ…» и далее, ибо воображал, что все божественные слова уже содержатся в этих буквах и Он способен перемешать их так, чтобы они сложились в любые наисовершеннейшие молитвы, любые места из Священного Писания, какие Он только пожелает, стоит лишь восслать к нему все двадцать шесть букв, А-Бэ-Цэ-Дэ… и далее; но один раз, когда священник полез своими потрескавшимися, словно куски мела, пальцами выше, к внутренней стороне моих бёдер, я пнул его чисто вымытой ногой прямо в слюнявый рот.
Старик священник вскрикнул от боли и прошипел: «Может, буквы твои действительно принадлежат Богу, но языком твоим несомненно владеет дьявол. Никакой ты не грамотей, а сам Вельзевул!» С тех пор он оставил в покое и меня, и мои ноги.
Одну из старух в нашем доме, которая ненавидела священника, это столь впечатлило, что она показала мне свою библиотеку из дюжины шестипенсовых книжонок, которой ей было дозволено владеть в виде особой привилегии, и разрешила брать книжки по одной и читать.
Я стал бояться, что каждой ночью, пока я сплю, буквы в шестипенсовых книжечках могут меняться местами и образовывать новые слова, наделённые новым смыслом, под синей обложкою, ибо, читая их, убедился, что Бог действительно способен перемешивать все двадцать шесть букв как угодно, чтобы значение их соответствовало Его замыслу, а потому все книги святы. Но если Бог действительно, как утверждал священник, хранил некую Тайну, то в ней, видно, и крылась та самая причина, по которой все содержащиеся в синих книжках истории по-прежнему вызывали у меня зуд.
Такие шестипенсовые книжки продавались повсюду, но за это я любил их ещё больше – за то, что они принадлежат всем. Меня восхищала любая, от «Детских стишков старой вдовы Хикатрифт» до «Басен» Эзопа, причём настолько, что задолго до знакомства с Вильямом Шекспиром, Александром Попом и французским Просвещением они стали для меня истинною Литературой и настоящим Искусством. И ныне детские стишки об апельсинах и лимонах, в названии которых будто бы слышится перезвон колоколов церкви Сент-Клеменс и которые едут на палочке – деревянной лошадочке, а их конь занёс прямо в Бенбери-Кросс, обладают для меня свойствами истинной поэзии и неизбежно очаровывают меня. Вскоре священник, вступив в сговор с бидлом, смотрителем нашего дома, задумал продать меня местному каменщику, однако я в силу худосочного телосложения оказался непригоден для тяжёлой работы, и, когда я сбежал от хозяина посмотреть Англию, тот, вероятно, лишь обрадовался, что избавлен от криворукого негодника, ибо не предпринял никаких попыток вернуть меня.
Сперва я кое-как перебивался в Лондоне, продавая себя тем, кого считал обязанными раскошелиться за право мыть мне ноги, и отдаваясь за так тем, к кому испытывал жалость. Когда я решал, кто должен платить, а кто нет, у меня возникало ощущение, будто я обладаю некой властью, хотя в действительности у меня не было ничего – совсем ничего, кроме неисцелимых болезненных язв, ещё обильнее усеявших мою душу, и новых маленьких грязных шрамов на ней же, коих становилось всё больше и больше, чтобы покрыть мой позор, коему я тогда не знал имени.
Затем какое-то время я бродяжничал и грабил, и у меня создалось впечатление, будто эти маленькие грязные шрамы исчезают под напором более сильных чувств, таких как азарт, удовольствие и страх. В ту пору я был очень плохим человеком, настоящим негодяем и надменным мерзавцем и немало гордился собой. Я заходил всё дальше и дальше, сперва в поисках славы и золота, а затем в поисках оправданий, и ненасытно жаждал всего на свете, но лишь оттого, что обладание хоть чем-то могло хоть как-то мне доказать, что я живу, что я не тот безродный отпрыск безымянной женщины из безымянного же городка, не тот, кто был вскормлен вызывающими зуд рассказами, которыми дразнили моё воображение отёчные старухи, вычёсывая вшей из пакли своих волос, да паршивыми чесоточными песнями, украденными у Бога из шестипенсовых книжонок.
Я насмотрелся всякой всячины на самой заре моей жизни, повидал множество ужасных вещей, весьма впечатляющих, но к закату, увы, во всём вновь обретённом мире, мире унылых, вечно пьяных завсегдатаев портовых таверн, говорунов-пустозвонов, сводников, разбитных девиц и дружков их, плутоватых воришек, не нашёл никого, кто сумел бы ответить на моё настойчивое «почему», которое, как я осознал вскоре, самый глупый, бессмысленный и вредный из всех вопросов. И вот, придя к выводу, будто ничто на земле не способно пойти человеку на пользу, кроме прилагаемых им же самим усилий, я прекратил не слишком настойчивые поиски ответа на вопрос, за которым ничего не стоит. Я пресытился Старым Светом, устал от него и однажды вечером, в кабаке, за грогом, расхваливая каким-то девицам из Спиталфилдса достоинства шестипенсовых книжек, неожиданно обнаружил, что соглашаюсь – после нескольких увесистых затрещин, суливших в случае излишней строптивости куда более серьёзные телесные повреждения от рук здоровенных вербовщиков, настоящего цвета английской нации, – соглашаюсь с тем, будто давно мечтал отплыть юнгой в составе экспедиции губернатора Боуэна, несущей цивилизацию к берегам Земли Ван-Димена. Вот так меня и склонили отправиться в Новый Свет, коему, как мне сообщили, принадлежит будущее и где обитает прогресс.
V
Я взялся за кисть случайно и сперва не придал этому значения; лишь позднее умение обращаться с нею стало единственным, в чём я действительно кое-чего достиг. Сперва подобная работёнка показалась мне лёгкой, а когда заблуждение рассеялось, было поздно учиться чему-то ещё. Это случилось в Новом Свете, когда я пытался тайком возвратиться в Англию после успешного, хотя и превратно истолкованного участия в освоении Австралии – тогда мне и повстречался в болотах Луизианы один креол, который некоторым образом повинен в поразившей меня страсти к рыбам. Звали его Жан-Бабёф Одюбон, и был он человек самого простецкого вида, коротышка, более всего приметный большими кружевными манжетами, которые он упорно носил всегда и везде и которые поэтому вечно были обтрёпаны и засалены.
Жан-Бабёф Одюбон убедил меня, что в двадцать с лишком пора жить своей головой, обеспечить будущее, обезопасившись от ударов судьбы, а для этого приумножить тот небольшой капитал, который мне удалось прихватить с собой, вложив его в деловое предприятие, затеянное им на паях с неким англичанином по имени Джордж Ките, а именно в паровой катер, стоящий у крохотной деревенской пристани в штате Кентукки. Покупка им – тотчас по получении денег – нескольких превосходных фраков ничуть не ослабила моей веры в мечту, навеянную нечистым звуком его манка, на который я полетел, словно глупая утка, ибо, подобно всем истинным негодяям, готов был поверить в любое надувательство, по размаху своему превосходящее явную и немедленную кражу.
Хоть оба мы и стремились стать капиталистами, но именно от Одюбона мне довелось узнать, что такое живопись, ибо тот частенько занимался этим ремеслом, столь же поразительным тогда для меня, как и рассказы о его отце; как и мой, тот был, по-видимому, француз, но только не ткач, а кажется, дофин, который под вымышленным именем сражался при Вэлли-Фордж вместе с самим Вашингтоном. Мы считали себя людьми практичными и покатывались со смеху при одном лишь упоминании о брате нашего приятеля Китса, мечтателе по имени Джон, который остался в Старом Свете, возжелав стать поэтом, но которому, в отличие от нас, никогда ничего не удастся достичь. Но сколь бы практичными мы ни были и как бы ни жаждали стать капиталистами, это не помогло, когда паровой котёл на катере взорвался, а местные фермеры отвергли затею Одюбона и Китса, как глупую, и предпочли пользоваться обычными барками, кои передвигались с помощью шестов или конной тяги; обитатели же лесной глухомани и негры вообще сочли за лучшее путешествовать пешком, чтобы не платить деньги, взимавшиеся нами, дабы самим как-то удержаться на плаву.
Падение интереса к катеру, вставшему на прикол, высвободило нам время для иных занятий, преимущественно для походов по лесам и охоты на птиц, коих мы приносили домой. Мне нравилось смотреть, как при помощи проволочек Одюбон придавал окровавленным тушкам такой вид, будто они взлетают или, наоборот, садятся; это выглядело очень эффектно; он расправлял им крылья и так, и эдак, а затем делал наброски карандашом и даже писал картины маслом, на которых грязные, замученные пичуги преображались в красу пернатых.
Я считал Одюбона выдающимся живописцем и не раз говорил ему это, но мои комплименты его не трогали, и он начинал бранить меня самым неблагородным образом, а его креольский акцент становился при этом ещё заметнее. Он не любил искусство. Утверждал, что этим словом называют картины после того, как они украдены и проданы. И рисовал только птиц.
Вскоре я узнал – скорей от тех птиц, коих Жану-Бабёфу не удалось подстрелить, чем от него самого, – насколько важно в этой жизни всегда оставаться движущейся мишенью, ибо сильнее всего люди любят нечто им противоположное или противостоящее. Так, например, в Америке я обнаружил, насколько там выгодно быть сразу и англичанином, и представителем английского дна; позднее, вернувшись на это самое английское дно, я неплохо сыграл на положении прибывшего из Америки искателя приключений; наконец, здесь, на Земле Ван-Димена, всем, похоже, очень пришёлся по вкусу Художник из… в общем, откуда-то, под чем, конечно, подразумевалась Европа, и всем было наплевать, какая он на самом деле посредственность. Если когда-нибудь мне удастся вернуться в Европу, то, разумеется, я сочту за непременную обязанность примерить на себя роль неправедно осуждённого и оклеветанного деревенского увальня, который, проведя полжизни в колониальной глуши, на всё таращит глаза.
Одюбон много чего знал о птицах, их повадках и законах птичьего сообщества; и картины, где он всё это изображал, производили сильное впечатление, ибо птицы на них выходили словно живые; он вовсе не стремился нарисовать мягких, пушистых пташек – наоборот, его полотна дышали суровой правдой жизни. Будто из-под крыла матери, птицы Одюбона появлялись из-под его грязных кружевных манжет уже практически взрослыми – красивыми, печальными и живыми. Именно у Одюбона я научился отыскивать для каждого изображаемого живого существа интересный характер, подмечать типичные для его облика гордость или серьёзность, жестокость или глупость, а то и прямо-таки находить в нём некую сумасшедшинку. Ведь то были не просто особи, представители определённого вида; нет, их жизнь представлялась моему другу неким подобием энциклопедии, трактующей о самых различных предметах, и ему, художнику-анималисту, оставалось лишь только одно – правда, он признавал, что порой сделать это не так просто, – постараться понять, уловить истину, а затем отразить её, показать как можно правдивее и точнее.
Для того чтобы сделать это – передать в каждом образе всю полноту жизни, – ему требовались всяческие истории; и гениальность его проявлялась в том, что находил он их не в лесах и полях, а в тех совсем недавно возникших малых и больших городах Америки, кои усеяли, словно вследствие фатального приступа пеллагры, лик сей юной земли; он также черпал их в мечтах и чаяниях окружающих людей.
Одюбон писал свадьбы, ухаживания, показывая всю тщету принятых в нашем обществе так называемых приличий; и всегда его персонажами были птицы, и все его птицы прекрасно распродавались; блестящая находка: он создавал естественную историю новых бюргеров. И я мог бы рисовать рыб в том же духе, и тогда местные свободные поселенцы стали бы у меня плавать косяками. Но именно рыбы кажутся мне воплощением здешней жизни: они одиноки, бесстрашны, у них нет дома, им некуда убежать, негде спрятаться. И даже помести я рядом двух моих рыб, разве получился бы из этой пары настоящий косяк или хотя бы стайка? И разве сумею я передать, как выглядит океан под волнами, если таким его видят одни лишь туземные женщины, что ныряют за раками?
Нет.
На каждом развороте я хочу поместить только двух рыб, но каждая будет одинока, полна страха, и единственное, что станет объединять их, это ужас смерти, который увижу я в их глазах. Одюбон рисовал мечты новой страны, на которые всегда найдётся покупатель; мои же рыбы – это кошмар прошлого, для которого нет рынка сбыта. То, что я делаю, никто не назовёт блестящей находкой, как работы Жана-Бабёфа Одюбона, и мой альбом не снищет нигде популярности, ибо это естественная история мёртвых.
В итоге наш катер сгорел и на нас тут же набросились разгневанные кредиторы; мы отбивались от них как могли, но всё равно разорились, и, когда я в последний раз видел Жана-Бабёфа Одюбона, тот махал мне рукой в грязной кружевной манжете, просунутой сквозь малюсенькое зарешечённое оконце местной каталажки, куда его поместили как несостоятельного должника. На сей раз ни одна птица не появилась волшебным образом из-под засаленных кружев. Оставшийся на свободе Ките, сидя снаружи у тюремной стены, читал своему другу слезливые стихи брата о гораздой на подлые шутки судьбе, подстерегающей тех, кто польстился на блага Нового Света; стихи эти, как мне думается, не слишком подбадривали узника, который из заточения продолжал взывать к безжалостным кредиторам на ужасном креольском диалекте:
– Йа йэст англески капуталист. Йа йэст…
Сидевший под окном Ките, не обращая внимания на его вопли, декламировал:
– Их дурные цветы не пахнут, и птицы их не поют…
– Йа чиловек чисты, – орал удручённый Одюбон. – Йа заплачу… Если присодят!
– Сама Природа непогрешимая, – продолжал Ките, – ныне, похоже, ошиблась.








