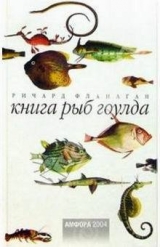
Текст книги "Книга рыб гоулда"
Автор книги: Ричард Фланаган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 29 страниц)
IX
Сырость и зловоние, испарения и влажная почва – все эти прелести Великого Дворца Маджонга привели в тому, что Комендантова чахотка, кою он подхватил в ночных рощицах, развлекаясь с девушками-сиамками, достигла той стадии, когда уже не помогали никакие кровопускания, даже самые обильные.
И Коменданта, и Доктора одновременно постигло пренеприятное подозрение, что, даже заполнив весь рейд кровью, нельзя, похоже, достигнуть целительного эффекта. Не поддавалась теперь чахотка и прочим, до сей поры самым верным, способам излечения. Не помогало ни ежевечернее употребление внутрь домашнего щёлока, получаемого Доктором путём сбраживания собственной мочи, ни ежеутреннее глотание «чёрного белка» – или, как его называл Доктор, album nigrum, – на самом деле представлявшего собой крысиные экскременты, которые, правда, обладали одним несомненным достоинством: то было самое доступное лекарство на острове; это не относилось к табаку, но и он тоже не помогал, хотя Доктор прибег к нему как к самому последнему и отчаянному средству, чтобы с его помощью подвергать Коменданта инсуффляции, то есть вдуванию табачного дыма в анальное отверстие после каждой дефекации.
Затем, дабы у Коменданта создалось впечатление, будто организм его всё-таки проходит лечение, а не просто испражняется курящимся дерьмом, Доктор взял на вооружение новую методу, коя завоёвывала популярность в Англии и состояла в том, что Коменданту предписывалось по нескольку раз в день поглощать коровье масло в огромных количествах. Комендант сперва противился – под тем нелепым предлогом, будто сие лечение вызывает у него рвоту, однако, во-первых, оно имело собой твёрдую научную основу, а во-вторых, постигнуть оную представлялось весьма затруднительным, а потому сии две причины не позволяли его отвергнуть.
Теперь Комендант страдал не только чахоткою, но и недостаточностью питания, что не улучшило его настроения, которое становилось всё более ипохондрическим и всё менее предсказуемым. Его мучили кошмарные сны, в коих он представал уже не римским императором, а поэтом Озёрной школы, задремавшим в деревушке Грасмир и грезящим о возвышенном и величественном, но ему казалось, что даже сны норовят вбить ему в голову некую крайне нужную мысль, да так сильно, что он начинал задыхаться; она, эта мысль, душила его; ведь отец народа должен быть рождён для сей роли, а не тужиться изо всех сил, дабы оказаться под стать ей.
Он знал: ничто не даётся ему легко, даже жёсткость, и это ещё больше злило его; как и то, что в это проклятое время, когда ему не помешала бы хоть капля сочувствия, многие по ошибке считали, будто грубая суровость и есть его истинная натура, а ведь даже злонравие стоило ему немалых трудов – ив части воспитания оного в себе, и в части борьбы с ним.
– Ты понимаешь меня, О'Риордан? – кричал он, вскакивая со своего солдатского соломенного тюфяка, хватаясь за лежащий рядом мушкет и ударяя с размаху прикладом в лицо своего помощника, снова и снова, не обращая внимания на лепет бедняги лейтенанта, что его фамилия вовсе не О'Риордан, а Летборг. Протестующие крики лишь сильнее распаляли Коменданта, ибо он знал, что все солдаты на острове набраны из тупых и трусливых ирландских мужланов, а этот О'Риордан, по всей видимости, мало того, что туп и труслив, но вдобавок ещё и лжив.
Повалив лейтенанта, Комендант пинал его в голову, шепча: «Брейди… Брейди… Брейди…» – с той безграничной яростью, которую легко можно было принять за веселье, когда б не очевидность того, что оба плачут, только один – кровавыми слезами, а другой – чистыми, без примеси, ведь он был Комендант, и ему, человеку крутого нрава, подобало блюсти некоторое достоинство, – и вообще, отчего не ему рок судил сочинять «Тинтернское аббатство» на берегу озера Райдал?
Из-за того что гнев его истолковали или могли истолковать превратно, Коменданту пришлось распорядиться о взятии лейтенанта и всего взвода предателей-папистов, состоявших в подчинении последнего, под стражу – их арестовали, связали, заткнули им рты кляпами; и, поскольку Коменданту было невыносимо горестно вздыхать о полученных О'Риорданом ранах, он поневоле велел бросить всех изменников в море на корм рыбам – у него просто не оставалось иного выбора.
«С каждым днём симптомы усиливаются», – писал Доктор сэру Исайе Ньютону, своему именитому коллеге из Ливерпуля, с коим некогда вместе учился и у коего теперь испрашивал профессионального совета относительно того, что делать с Комендантом, ибо «грудь его всё более нездорова и трепыхается, как пойманный мотылёк в банке». При том великом расстоянии, что их разделяло, ожидание ответа могло растянуться на многие месяцы, а может быть, и годы; а между тем пойманный мотылёк превратился в кефаль, бьющуюся в полусгнившей рыбной корзине, которую теперь напоминала грудная клетка нашего Коменданта.
– Видите ли, Комендант, – лепетал Доктор, – такие вещи требуют времени…
– Времени! – ревел Комендант. – К чёрту его! Именно времени, дорогой Доктор, и нет у моего народа! – Ныне в сознании этого человека его личный удел и судьба народа, судьба сотворённой им Нации составляли единое целое – вот почему Комендант и не мог игнорировать ту тишину, что опустилась на остров после череды неудач, таких как провал затеи с Национальной железной дорогой и Великим Дворцом Маджонга и множество других катастроф.
По ночам он не мог спать – ему не хватало звуков, да, звуков его народа, его страны. Всё, что он ухитрялся расслышать, бродя по пустынным проходам громадного рынка и будя там звонкое эхо, шагая огромными залами, где должны были кипеть торговля и бурлить людской водоворот, это гулкие печальные удары волн, разбивающихся о тёмный берег.
И вот он лежал без сна, и страх его всё нарастал, и он начинал задаваться вопросами: а точно ли то звук прибоя – может, это шумы и хрипы в его собственных лёгких? А может, это сама судьба зовёт его – шу-у-у… шу-у-у… шу-у-у… – обратно в тёмное прошлое? Или то сиплое дыхание его шепчет: брейди-брейди-брейди! А вдруг это каторжники передают из уст в уста бесконечные изменнические россказни о том, как придёт Брейди и освободит их… словно никому нет дела, сколько стариков каторжников он заставил стоять за пустыми прилавками, изображая торговлю… как придёт Брейди и отомстит за них всех… и всем плевать, сколько чудесных каменных зданий поставил он между собой и своими ночными видениями, и никого не волнует, что он воздвиг едва ли не целую часть света, Европу, между собой и безмолвием? В итоге всё равно к нему неизбежно приходил один и тот же кошмар: море всё поднималось и поднималось, и Брейди подбирался всё ближе и ближе, и языки адского пламени становились всё горячее…
Рыба шестая
Морской угорь


Которая не столь длинна, как иные рыбы – Неодолимые желания – Создание нации – Несчастье с мистером Лемприером – Бушприт корабля-страдальца – Бочки с говорящими чёрными головами – Возвышение Космо Вилера и другие несчастья – Прискорбный конец мистера Лемприера – Каслри как убийца
I
Да, вот он каков, этот Гоулд, этот жалкий плут и обманщик, этот пьяница, изо всех сил стремящийся удержаться на плаву, дабы не оказаться вновь закованным в кандалы и не попасть на «колыбель». Он пытается, если вам угодно – а уж как ему самому-то этого хочется, – взойти на ступеньку повыше, хотя бы и в обществе каторжников, и что же из этого получается?
После того как его заставили рисовать рыб, а затем освободили от сей повинности, от сих гнилых комков слизи и чешуи, после того как его определили на постой в самое лучшее место, дали самую лакомую работёнку, написать этого прощелыгу Коменданта в сотне разных исторических поз, что мы наблюдаем?
Он что, не хочет воспользоваться новым своим положением и повлиять на Коменданта, чтобы продвинуться дальше?
Нет, не хочет.
Он что, не желает стать из лакея близким лицом, наперсником и советчиком, со всеми вытекающими из этого последствиями?
Нет, ничего подобного не наблюдается. Он, может быть, и не прочь обернуть к своей пользе выпавший случай, но ему мешают Мысли. Они смущают его. Стремленья его, по правде сказать, не простираются дальше того, чтобы потеплее устроиться, но штука в том, что его Фантазии, его Бредни есть чистая каторга и он всё более ощущает себя их узником.
Так что сами видите, кто он такой, – и тут мне, боюсь, возразить будет нечего – перед вами круглый дурак, обуреваемый, понимаете ли, неодолимым желаниемснова рисовать рыб.
Но почему? Может, он полюбил их?
Вовсе нет.
Может, он считает, будто тем поможет Науке?
Тоже нет.
Ради служенья Искусству?
Боже упаси, разумеется, нет, тысячу раз нет! Это Господа Бога волнует на земле всякая всячина, а его попросту тянет к рыбам, и он не в силах справиться с этим!
Но прежде чем я перейду к более подробному описанию сих испытаний, я должен получше заточить перо моё из косточки акулы и, обмакнув его вновь в нынешние, зелёные чернила, эту настойку опия, сделать некоторое отступление, необходимое, ежели мы хотим достичь цели, то есть объяснить попонятнее причину всё возрастающего расстройства ума нашего героя, ума, представлявшего собой воистину камеру-садок, что заполняется в прилив морскою водой, сей символ его неотвратимо мерзкого удела, и для этого посетить одну из ночных попоек, частенько устраиваемых Комендантом и Доктором в доме последнего.
Как вы могли догадаться сами, мистер Лемприер теперь пребывает в более чем мрачном состоянии духа, ибо его Великие Труды на благо Науки, состоящие в отыскании новых пород трансильванских рыб, приостановлены, возможно навсегда, потребностью Коменданта поставить Искусство на службу Нации, а не Науке. Так что позвольте мне опять переменить ход повествования – дабы коршуном ринуться вниз, на Сара-Айленд, пронестись над головами Комендантовых молуккских стражников и кубарем скатиться вниз по давно не чищенному дымоходу Доктора прямо в чадную атмосферу его гостиной, где захмелевший Комендант печалуется по поводу того, что судьба надругалась над его честолюбивыми устремлениями.
– Стать нацией, да, вот, боже мой, чем мы можем и должны быть – независимым государством, – заявляет он мистеру Лемприеру, – и не подумайте, сэр, я вовсе не стыжусь говорить это. Как я могу, когда само Провидение избрало меня для сего. Быть отцом Нации… а она, Нация, вовсе не презираемый Богом хлам вроде островной каторжной колонии! Та Нация, отцом которой я стану, отцом, какого почитают и боготворят, воспевают в эпических поэмах, рисуют маслом на белом коне среди штормовой ночи… Ты слышишь меня, Лемприер? И никто не догадается, что в основании сокрыт большой труд, наш тяжелейший труд, наш пот, наши жертвы, которые возвысили сей остров, превратив его из тюрьмы в нацию.
– ССАТЬ, – пробормотал пьяный Доктор, – ХОЧУ… – Насилу встав, он с кряхтением наклонился, ухватил ручку и поднял скользящую раму своего знаменитого английского окна, после чего подался вперёд, тихо выдохнул: – У-У-Х-Х-Х-О-О-Р-О-О-Ш-Ш-О-О-О, – и принялся облегчаться.
Мистер Лемприер одевался по моде самое меньшее тридцатилетней давности, в частности, в бриджи до колен, а также носил башмаки с большими пряжками, которые прежде каждый вечер поручал мне надраивать до блеска. В своё время их явно сделали из оловянной кружки какого-то бедняка, однако мистер Лемприер клялся и божился, что из серебряной, хотя пряжки были тусклее помоев и ни за что не хотели блестеть. И вот он покачивался на каблуках взад и вперёд, внося поправки в траекторию испускаемой им за окно струи.
Но в тот миг, когда он ощутил себя окончательно облегчённым, одна из пряжек не выдержала тягот долгой и неравной борьбы с конвульсиями чересчур грузного тела. Она треснула. Нога мистера Лемприера дёрнулась. Немедля рука его соскользнула с рамы, за которую он держался, и Доктор покачнулся сперва назад, а затем вперёд. Рама рухнула вниз, с грохотом ударившись о подоконник, на коем, подобно обмякшей гусенице, лежал Докторов член.
На основании всего, изложенного мною выше, вы могли бы предположить, что мистер Лемприер взревел, как индийский буйвол, или завизжал что было мочи, но нет, за исключением того, что его мертвенно бледное от свинцовых белил лицо вдруг вспыхнуло, приобретя весьма необычный оттенок розового коралла, какое-то время не происходило ничего, что обнаружило бы ужас из-за случившегося с ним несчастья.
Возможно, в сию страшную для него минуту он осознал, что никакой рёв или вопль не исправит происшедшего, раз признак его мужского достоинства столь страшно искалечен в результате несчастного случая. У него, верно, совсем голова пошла кругом от боли и осознания того, чем это грозит ему в будущем. И он почувствовал, как немеют ноги, как подгибаются, увлекая его на пол, и в ту же минуту узрел надвигающуюся на него темноту.
II
Когда при помощи нюхательной соли мистер Лемприер был выведен из состояния глубочайшего обморока, он напрочь отверг своё же излюбленное средство, кое, словно некую панацею, применял при любых недомоганиях, болезнях и хворях, аргументируя сие тем, что пускать кровь из собственного члена унизительно для его достоинства. Он даже процитировал сэра Исайю Ньютона, упоминавшего в переписке о нескольких случаях, когда после столь неосмотрительного и ненаучного лечения наступала неизлечимая обвислость сего органа, так что кровопусканию он предпочёл большие количества настойки опия, позеленевшей вследствие хранения оной в большом медном сосуде, откуда она ранее черпалась по мере нужды для удовлетворения потребностей Коменданта. Хотя настойка и навеяла Доктору поразительные грёзы, в коих Комендант представал в облике слона, распалённого плотским желанием, она не сумела приостановить протекавший несколько недель неумолимый процесс постепенного превращения члена из жалкого красного червя в огромного чёрного слизня, примостившегося на подставке из гуонской сосны, которую новоиспечённый наркоман соорудил специально для него. Подставку эту он ежедневно прикреплял к больному месту посредством длинной ленты турецкого шёлка, широкими петлями несколько раз охватывающей по верхнему краю его объёмистые бёдра и завязанной большим кокетливым бантом на испещрённой фурункулами и густо заросшей волосами дряблой пояснице.
Все обитатели Сара-Айленда дивились виду Доктора, встречая его: полы не заправленной в брюки рубахи овевали, словно паруса, выступающий сосновый мыс, бушприт корабля-страдальца, состояние которого он проверял всякий раз, как оставался один, и тогда его взору представало чудо преображения, ибо синяк загноился, плоть загнила, и то, что из красного стало чёрным, в конце концов позеленело. В итоге вонь, от него исходящая, сделалась столь невыносимой, что отвращала даже Коменданта, охочего до подобных запахов, и тот распорядился связать мистера Лемприера, вставить в его изрыгающий возражения рот воронку и влить в неё несколько пинт крепчайшего писко. Во время сей процедуры Комендант держал голову дорогого друга на коленях и баюкал её, словно младенца, всё время нашёптывая, что единственно лишь одна дружба могла подвигнуть его на такое. Спустя четверть часа Комендант устал проявлять сочувствие и кивком подозвал повара-каторжанина, который всё это время стоял рядом в тёмном углу и неторопливо водил взад-вперёд по точилу лезвием разделочного ножа. Тот шагнул к ним и, прежде чем мистер Лемприер успел возроптать на французском или английском, одним махом отсёк ему гноящийся пенис.
Понеся столь прискорбную утрату, мистер Лемприер сперва сделался ещё более задирист и несносен, чем раньше, но к осени его холерический темперамент начал претерпевать значительные изменения, понемногу становясь всё более меланхолическим, пока в итоге несчастный Доктор не впал в такую хандру, что совершенно утратил интерес даже к самой жизни, а не то что к коллекционированию и каталогизации.
Он стал нелюдим, и к нему возвратилась старинная привычка подолгу втолковывать прописные истины тупому Каслри, причём один скорбный монолог следовал за другим, и речь в них шла о Тяжкой Деснице Судьбы, а также о том, что вышло бы, специализируйся он только на одних лишайниках да травах. Боров, усвоивший привычку бродить по вонючему загону в одиночестве, так, чтоб ему никто не докучал, от этих тирад мистера Лемприера преисполнялся лютой злобою и при каждом появлении оного норовил протаранить головой стены свинарника, сотрясая их с такой силою, что весь остров вздрагивал от удара. Доктор не обращал внимания на растущую антипатию питомца, не замечая, что чем больше говорит с ним, тем быстрее тот увеличивается в размерах и злобится, и так продолжалось до тех пор, пока чёртов боров не загородил своей тушею солнце и не был обвинён в том, что вызывает также и лунные затмения, а кроме того, по ночам не даёт штурманам пролагать путь по звёздам. Пришедшее в ярость животное порой начинало хрюкать так страшно, будто и вправду рисковало утонуть в половодье речей Доктора, и визжать столь пронзительно, что боль в ушах сводила людей с ума и гнала мореплавателей подальше от берегов Сара-Айленда, однако сии проявления свинячьего неудовольствия лишь подливали масла в костёр нескончаемых жалоб Доктора касательно понесённой утраты, а также того, что он неудачник и его все позабыли.
Потерянный, подавленный и оскоплённый, имеющий в наперсниках лишь сего чудовищного борова – нужно ли говорить, что нынешний мистер Лемприер утратил всякое желание забрать меня у Коменданта, чтобы я снова рисовал ему рыб.
Я попытался нарисовать несколько рыб масляными красками, коими теперь меня весьма щедро снабжало Интендантство для писания портретов Коменданта. Но масляные краски годятся больше для обитателей суши; они слишком тяжелы, слишком «весомы» и слишком непрозрачны для рыб. Мне требовался Докторов набор акварельных красок.
И я решил повидать мистера Лемприера в надежде вновь пробудить в нём интерес к созданию атласа рыб. Я вознамерился испросить у него позволения воспользоваться его красками, дабы продолжить работу над книгой в те немногие свободные минуты, которые смогу для этого улучить.
Я уверял себя, что хочу рисовать рыб исключительно ради подстраховки – на случай, если вдруг лишусь места при Коменданте; пускай у меня будет что-нибудь про запас кроме работы в команде колодников. Но то была, разумеется, ложь, и, хотя я изо всех сил старался, чтобы ум мой не проведал о тайне, кою скрывало сердце, истина состояла в том, что ныне, когда мне уже не приходилось трудиться ради науки, отношение моё к рыбам опять изменилось: мне теперь не хватало того, что прежде я ненавидел. По какой-то необъяснимой причине я теперь нуждался в рыбах.
Сперва то была всего лишь работа – рисовать их, но для исправного её исполнения и сохранения за собою благ, с ней тесно связанных, мне пришлось многое понять в рыбах. Изучить, как растут из их туловищ плавники, как свершается чудо перехода оных из матовой плоти в поразительное полупрозрачное состояние, выяснить природу столь упругой гибкости рыб, осознать, как соотносится величина рта со слишком крупными размерами головы, а та, в свою очередь, – с длиной их тела, разглядеть, как одни чешуйки накрывают другие, образуя переливчатый, блестящий наряд, который словно сам по себе исполняет волшебный танец.
У одних рыб мне хотелось подчеркнуть невыразимую чувственность рта, у других – свет, проходящий сквозь плавники. И мне следовало бы признать, что бесконечная возня с набросками не прошла для меня даром.
Может, из-за того, что я потратил на рыб слишком уж много времени, или потому, что был вынужден постоянно пытаться побольше узнать о них, они сперва заинтересовали меня, а затем стали злить, что было ещё хуже, ибо так они начали проникать в мою жизнь, становиться частью меня, а я тогда даже не отдавал себе отчёта в том, что они «колонизировали» меня, причём столь же уверенно и нагло, как некогда губернатор Боуэн Землю Ван-Димена.
Они ввинчивались, сверлили меня буравчиками, просачивались в мельчайшие поры, повинуясь воздействию некоего осмотического давления, и это ужасало меня. И когда в моей голове забрезжило наконец страшное подозрение и я начал постигать происходящее, они уже завладели всеми моими дневными мыслями и ночными видениями; я испугался и возжелал изжить их, извергнуть, отогнать прочь, как поступали мы все с черномазыми дикарями. Но как воевать с умирающим морским петухом? С кефалью, по телу которой пробегает предсмертная дрожь?
Похоже, проведя наедине с рыбами столько времени, я просто не мог избежать того, чтобы взгляд их холодных глаз и трепет их плоти преодолели, словно по воздуху, пространство, кое отделяло их от моей души.
Глагол «преодолеть» я употребил неспроста.
Казалось, дух их ищет какую-то иную влажную среду и, когда смерть неминуема, дабы обеспечить своё выживание, норовит перескочить, перепрыгнуть смертельную для него полосу воздуха движением столь неожиданным и молниеносным, что оное просто нельзя проследить невооружённым глазом.
Мне вдруг пришло в голову: а вдруг, подобно тому как на ярмарке синее пламя вылетело из открытого рта висельника и вселилось в мою мать, всякий дух ищет чьего-либо глаза, чтобы в страшный миг смерти войти чрез него в обладателя оного и не попасть в мир небытия, населённый тенями потерянных душ?
Это была глупая мысль, как и давнее моё решение сходить ещё раз к дочери Старины Гоулда, после того как она объявила о помолвке с торговцем железом из Сэлфорда; я даже просил её бежать со мною, но коварная рассмеялась мне прямо в лицо; мне было просто необходимо вернуться к моим рыбам… зачем? Ведь с тех пор как невменяемый Доктор взвалил на меня задачу нарисовать елико возможно больше сих новых обитателей моей души, её, так сказать, ссыльнопоселенцев, хозяйничающих там как им заблагорассудится, задачу, которую затем я, ещё более невменяемый, стал выполнять добровольно, мне уже не представлялось никакой возможности вырваться из их коварного плена, избавиться от их непрошеного присутствия, когда они начали плавать во мне, пробираясь на задворки сердца и мозга, готовясь в один прекрасный день взять надо мною полную власть.
И откуда я мог знать в тот час, когда пошёл проведать мистера Лемприера, что в его объёмистой голове кроется дурацкий план соединить навеки в одно единое целое рыбу и меня самого?








