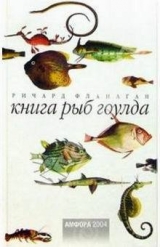
Текст книги "Книга рыб гоулда"
Автор книги: Ричард Фланаган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 29 страниц)
IV
Последний свой вздох перед достойной сожаления кончиной Капуа Смерть явно испустил по поводу того, что вся его печальная история разыгралась теперь в обратном порядке. Все страдания моего приятеля на Сара-Айленде, ломатель машин, Хрущ, беззаботные времена в Хобарте, где он содержал кабак, жизнь в Ливерпуле, похоже, прокручивались перед его мысленным взором в обратном направлении, словно струйка, втягивающаяся назад в горлышко его глиняного кувшинчика.
Он поднял голову и увидел себя на борту невольничьего судна, где стал рабом, после того как белый человек надругался над ним самым унизительным образом, и опять – с отчаяньем, всё более безысходным, заметил, как в нём стремительно убывает любовь к свободе, когда на era глазах солдаты Французской республики вытаскивали гвозди из деревянных эполет, казалось бы намертво прибитых к плечам чёрного генерала Морепа.
Морепа смотрел на этих весельчаков, его била дрожь и в глазах сквозило глубокое непонимание, когда его жена и дети вернулись с моря; когда собаки стали блевать, изрыгая куски человечьего мяса, которые, срастаясь, принимали обличье людей; когда утопленное в крови восстание негров потекло вспять к недолгому торжеству свободы, а затем, теперь уже окончательно, к вечному рабству.
Капуа Смерть ощутил, как его неутолимая ярость и решимость сбросить невольничьи цепи угасают, словно умирающий огонёк свечи, и, когда он потерял силу взрослого мужчины и тело его стало телом слабеющего мальчугана, просто согласился войти в мир непрерывного труда, в край бесконечного насилия и беспричинной жестокости, уготованный для него хозяевами и сотоварищами, и принял оный, как нечто сущее испокон веков. И только вкус плода гуаявы, выхваченного из его рта и возвратившегося обратно на ветку, напомнил о том долгом времени, которое подошло к концу, когда приплывший издалека негр поволок за собой плачущую негритянку.
Незнакомая белая женщина умоляла, чтобы Капуа Смерть, тогда ещё младенец, был возвращён рыдающей и кричащей негритянке, чьи вопли быстро утихли; и, прижав ненадолго к груди ещё мокрого и запачканного кровью ребёнка, она встала со скамьи и заковыляла по пыльному двору, над которым склонялись ветки гуаявы; и вследствие этого Капуа Смерть наконец возвратился в те времена безмятежности, о коих он и не ведал, войдя вперёд ножками, словно в пещеру, в безбрежное материнское лоно через её разорванную и кровоточащую плоть.
Но в самый последний миг, перед тем как тьме суждено было поглотить его навеки, Капуа Смерть обернулся и увидел самого себя в зеркале убывающего содержимого глиняного кувшинчика, и с того самого мига колесо времени прекратило вращаться вспять и принялось стремительно крутиться вперёд, но будущее оставило Капуа равнодушным, и его более не интересовали ни собственная открывшаяся ему судьба, ни я, скинувший упряжь из кожи кенгуру, в надежде поскорее удрать от дикарей, ни два копья, пронзившие насквозь его измученную лихорадкой грудь.
Капуа Смерть отвернулся, глубоко вздохнул и, распрямившись, пошёл прочь, однако сумел сделать всего три медленных шага от своего кувшина, который теперь катался во времени то назад, то вперёд, ибо тотчас ощутил боль от первого удара, настигшую его, точно удар молота, и почувствовал, что споткнулся, а затем последовал ещё один удар, даже сильней первого. Капуа повернулся, словно дрозд, насаженный на вертел, и неуклюже упал на колени. Когда он попытался уползти, то почувствовал, что по нему бьют чем-то, словно по барабану, а язык отказывается ему повиноваться, словно он забывает, как соединять… слова… которые почемутонаваливаются однона-другое ив нихсо всеммало смы ела а потомза пахгу аявывернулся и томмипошелизаговорил сомною издаиздаиздалекаи гдегдегдетомми! томми! холодихолоди и…
На бегу я обернулся посмотреть, что делается у меня за спиной, и увидел, как черномазые дубасят моего приятеля палками, явно пытаясь перебить кости и на руках, и на ногах. Я увидел, как он медленно поднял руку в каком-то странном и вялом жесте. Может, он прощался с кем-то или с чем-нибудь. Они лупили его по голове изо всех сил. Укрывшись в зарослях, я наблюдал за происходящим и видел, что через какое-то время они бросили его умирать.
Когда на другое утро я с немалой опаскою возвратился к саням, то обнаружил их в целости и сохранности, в отличие от трупа Капуа Смерти, из разорванного живота коего торчали длинные кишки и прочая требуха, тёмная от запёкшейся крови, – следы начатого минувшей ночью пиршества сумчатых дьяволов или сумчатых волков.
Рядом с головою мертвеца лежал сосуд, предназначавшийся не то для выпивки, не то для духа, а теперь разбитый и пустой, и побелевшие глаза всё ещё смотрели на него. Среди черепков валялись приметы былого, кусочки прошлого: половинка кольца из тёмно-красного камня, несколько гладких морских камешков и выцветшие клочки водорослей, а также три морские раковинки – литторины, маленькой мидии и морского гребешка, в последнем случае даже не раковина, а обломок. Он стал «хулиганским супом», лишённым привкуса полыни. Птичьей кровью в отсутствие тела, которое можно вымазать ею, чтобы оно воспарило. Он стал историей.
Поплевав на бедные руки свои, не привыкшие держать ничего, кроме кисти, я принялся гнилыми сучьями, которые то и дело ломались, рыть могилу в сухом гравии, лежавшем под слоем дёрна. Спустя какое-то время я настолько выдохся, что не мог продолжать, хотя выкопал всего лишь мелкую ямку. Я засунул в неё тело Капуа Смерти и зашагал прочь не оборачиваясь, затем перешёл на бег и захотел, возжелал всем сердцем, чтобы жизнь была иной.
Прошло время.
Начался бред.
Время не шло. Мои видения и моё видение окружающего мира слились воедино. Время ходило по кругу. Я тащил за собой через дикий лес сани, полные лжи под названием история. Время смеялось. Я ждал смерти, которая никогда не приключилась бы в камере на Сара-Айленде. Время насмехалось. Раненый! Ушибленный! Сломленный! Где-то в другом времени я писал свою книгу, пытаясь понять, отчего нету слов для того, что имело место.
Нет.
Ничего.
Полунагой, изнурённый, я вступил в последний этап моей эпопеи, то есть начал подъём на Фрэнчменз-Кэп. Каждый день я отрезал новую полоску от своей куртки из кожи кенгуру и жевал её, дабы поддержать силы. Рассчитав, что из куртки выйдет двадцать полос, и разметив их, я получил календарь и смог измерять время по тому, как исчезает моя одежда, как начинают шататься зубы в больных, воспалённых дёснах и наконец выпадают. Спустя долгое время в относительно укромном месте между гранитных скал, где-то на полпути через западный хребет, я обнаружил возле гаснущего под дождевыми струями костерка тех, кого меньше всего ожидал повстречать, чьи лица уже не чаял увидеть. Последнюю полоску своей куртки я съел за два дня до этого.
V
Там оказались три маленькие девочки и мальчик, тщедушные тела коих были почти ничем не прикрыты, несколько изголодавшихся, худых и шелудивых собак и босая женщина – в ней я тотчас признал ту, кого Комендант называл Мулаткою, Робинзон – Клеопатрой, а каторжники наградили прозвищем Салли Дешёвка; она ломала ветки, чтобы подбросить их в огонь. Для очень многих – хотя нет, практически для всех – вид сих людей не представлял бы отрадного зрелища, но мне, который не видел знакомых лиц уже целую вечность, они показались невыразимо прекрасными.
На Салли Дешёвке были старая чёрная хлопчатобумажная юбка, жёлтый бушлат из грубой шерсти, какие носят все каторжники, и красная шерстяная же вязаная шапочка. За плечами у ней висел, поддерживаемый полосками из кожи валлаби, ребёнок, который, как я тотчас сообразил, приходился двойняшкой тому, другому, чей маленький череп Салли Дешёвка по обычаю своего племени носила у пояса, когда на неё нападала хандра. Этот малыш, девочка, относительно светлой кожей и голубыми глазами выделялся среди остальных детей. Она, как до меня вдруг дошло, вполне могла доводиться мне дочкою. Хотя, если Салли И родила от меня, ей ничего не стоило задушить новорождённого. Рядом с ней, спиною ко мне, сидел туземец, и я видел, как он положил в костёр трёх потору (кенгуровых крыс), чтобы те зажарились. Он далеко не сразу оглянулся, когда я окликнул его по имени.
Но когда Скаут наконец посмотрел на меня, я испытал потрясение. То был уже не тот элегантный, сильный мужчина, коего я видел на Сара-Айленде несколькими месяцами раньше; он не просто исхудал, а как-то усох, съёжился, его некогда щегольской тёмно-бордовый жилет стал чёрным от грязи и висел на нём, как ещё недавно висели на мне железные кандалы – пригибая к земле; великолепная рубашка в голубую полоску вылиняла и порвалась; тёмные молескиновые штаны свисали широкими лентами с тощих ног.
Он выглядел гротескно. Лицо было изуродовано, и, когда он подошёл ко мне, я разглядел, что у него не хватает ушей и носа – их отрезали, оставив одни мясистые, ещё не до конца зажившие красные обрубки, придававшие ему свирепый вид. А по всему израненному лицу я увидал всё объясняющие без слов оспины. Скаут, которого мне совсем недавно так хотелось изобразить на бумаге в виде щеголеватой рыбы-водорослевки, теперь напоминал скорее те высохшие, вонючие куски плоти, коими рыбы становились через несколько дней пребывания в доме мистера Лемприера.
Не в силах отвести глаз, я долго смотрел на него. И тогда Скаут сделал то, чего я никак не ожидал, но ради чего стоило пройти даже тысячу миль по сотне диких лесов вроде этого.
Он протянул руку.
Поднёс к моему лицу.
Тыльною стороной пальцев он провёл по моей щеке и губам – дотронулся до меня.
VI
Затем он отвёл руку, и я подсел к их костру. Когда шерсть потору опалилась и зашипела, Скаут знаками, а также при помощи местного наречия, которое дикари называют дементунг или сумасводинг, этого ублюдочного диалекта, наполовину говора туземцев, а наполовину арго белых каторжников, рассказал, что они поджидают меня давно – с того дня, как заметили дымы от моих костров на стоянках и по ним определили путь мой, пока я медленно продвигался вперёд, петляя по острогам хребта.
Салли Дешёвка зажгла трубку и, раскурив, предложила мне. Это был какой-то местный дикорастущий табак, крепкий, забористый и смолистый, но прочищающий мозг и возвращающий силу. Я передал трубку Скауту, который сделал затяжку, чихнул и закашлялся – кашель был плохой, глубокий и продолжительный, – а потом рассказал, как решил покинуть Сара-Айленд, чтобы поохотиться на кенгуру. Через несколько дней он вышел к устью реки, которую белые называют Паймен-Хедз. Там он напоролся на солдат, посланных найти его и привлечь к поискам пресловутого разбойника Мэтью Брейди.
На этом месте Скаут прервал своё повествование, чтобы выхватить из огня опалённые тушки потору и ловко выпотрошить при помощи острого камня. Возвратив их в костёр, он снова закашлялся, а затем продолжил рассказ.
Солдаты предложили ему золото, а также землю поблизости от Джерико, где Скаут смог бы завести собственную ферму. В последующие несколько недель они несколько раз прошли через всю Трансильванию в разных направлениях. Скаут показывал им скалы Брейди, горные озёра Брейди, рыб Брейди, заставил переплывать быстрые и глубокие горные реки Брейди, стоять на ветру, который тоже был Брейди, и тогда солдаты дали ему расчёт, отрезав нос и уши, а одно ухо обкорнали так, что отхватили и часть щеки, затем от души отколотили его, пригрозив, что, если ещё раз встретят, пристрелят за то, что он, нахальный черномазый пройдоха, так долго уводил их от заветной добычи.
Эта история весьма взволновала меня. Душа моя оттаяла в столь неожиданном обществе, ум прояснился от курева. Мощно, как откровение свыше, меня пронзило осознание того, что странствие моё подходит к долгожданному концу, о чём я в последнее время уже не мог и мечтать. Ясное дело, Скаут знал, где находится лагерь Брейди, вот и уводил солдат от него подальше. И теперь он покажет туда дорогу.
VII
Весь мир посерел от накрывших его низких туч, которые затянули весь окоём, затмили весь белый свет, после чего наступили необычно ранние сумерки, ускорившие приход ночи. Почти сразу после такой перемены погоды, впрочем весьма типичной для ван-дименского лета, пошёл снег вперемешку с дождём.
Когда мокрый снег зло зашипел на углях, Скаут снял с них запёкшиеся тушки и разрезал на кусочки, оделив ими каждого. Сам же он не стал есть ничего, даже когда Салли Дешёвка, разломав самую большую кость, поднесла обломок к его рту, дабы он высосал мозг, который придаст ему сил; не смирившись с отказом, Салли втёрла мозг ему в щёки и лоб, словно сие могло равным образом укрепить её спутника.
После еды я спросил Скаута, где находится Брейди, на что он ответствовал: все скалы – Брей-ди, все озёра – Брейди, и все рыбы – Брейди…
Я мог бы оплакать то обстоятельство, что ввиду крайнего истощения не только тело, но и мозг Скаута пришли в упадок. Но по правде сказать, я ощутил ещё кое-что, кроме страшной усталости, навалившейся сразу после нежданной трапезы из мяса сумчатых тварей; я вдруг почувствовал дурноту и странную пресыщенность, почувствовал, что с меня довольно. Я подбирался и подбирался поближе к огню, пока Салли Дешёвка не подала знак присоединиться к ним в небольшой пещерке, скорей даже небольшом углублении в скале, куда все уже забились.
Когда я оказался под закрывающим вход козырьком, Скаут велел мне лечь вместе с ними, и я устроился на ночлег – костёр впереди, собаки, свернувшиеся клубком, в ногах и у изголовья. Ребятишки прижались ко мне с одного бока, Салли Дешёвка – с другого, а Скаут примостился за нею.
Я находил подобную близость странной и – если уж быть до конца откровенным – не вполне уместною, но, поскольку больше никто не счёл её таковою, я повернулся на бок, уткнув нос в спину той, кого Комендант именовал Мулаткою, Робинзон звал Клеопатрой, а каторжники знали как Салли Дешёвку, чьего настоящего, туземного имени я, к стыду своему, так и не удосужился спросить.
Почувствовав себя ребёнком, а также исполнившись смутного ощущения того, что моё незнание есть грех, не слишком понятный, однако вполне реальный, страшный в своей невыразимости, но уже прощённый, я заснул сном праведника. Во сне я почувствовал, как все кости мои и мышцы согрелись, расслабились, и впервые за много дней мне пригрезилось, что я в безопасности.
VIII
Когда я проснулся, стояла ночь, которая была бы непроглядно тёмною, если б не костёр, ещё недавно, казалось, обречённый угаснуть под струями дождя и порывами холодного ветра; теперь его пламя ревело и дико трещало, вздымаясь огромными красными языками на трехъярдовую высоту; в поперечнике костёр также достигал по меньшей мере ярдов трёх, озаряя нашу пещеру неровным желтоватым светом.
И Скаут, и Салли Дешёвка, и дети, и даже собаки – все исчезли. Было дымно, однако какой-то неуловимо знакомый запах всё же коснулся моих ноздрей, он напоминал тот неповторимый аромат плесени, который шибанул мне в нос, когда я впервые попал в Регистратуру.
По ту сторону слепящего огня я разглядел Салли Дешёвку, пляшущую вместе с детьми. Она сняла европейскую одежду, и помимо охристо-красного ожерелья из сухожилий да обвивавшей несколько раз её чресла повязки из кожи кенгуру, к коей был привязан маленький череп, на ней ничего не было, кроме красноватой охры, что покрывала её лицо и курчавые волосы в самом низу живота – они походили теперь на ржавые железные стружки, притянутые магнитом её вагины. Волосы на голове она густо напомадила смесью жира и охры, и причёска напоминала чешую рыб. Дети были такими же нагими и разукрашенными.
Когда я направился к ним в обход костра, что-то упало на моё плечо, а затем свалилось на землю. Я остановился и, оборотясь, посмотрел вниз – чтобы увидеть у ног своих дымящуюся чёрную руку, ещё тлеющую там, где прежде был локоть.
Рыба десятая
Пресноводный рак


Король Канут – Аутодафе по-дикарски – Уход Салли Дешёвки – Метаморфоза – Кострище с черепами – Песнь Песней Соломона – Улей – Цена любви к чтению – Попытка съесть дневник Брейди – Вселенная страха и бесконечность любви – Опять Клукас – Вознаграждение за предательство
I
Охваченный ужасом, я стоял и смотрел, но затем отвёл взгляд. Сперва я не мог поверить своим глазам. Нет, говорил я себе, это обман зрения, плод помрачившегося рассудка, это пляска языков пламени ввела меня в заблуждение. Но чем дольше я смотрел, тем более убеждался, что ошибки быть не могло.
Ибо прямо посреди костра торчало, возвышаясь над ним футов на семь, тёмное бревно, постоянно съёживающееся, объятое огнём и подпёртое со всех сторон горящими сучьями. Бревно было, если можно так выразиться, чёрным королём Канутом, восседающим на троне своём, а огненный оранжево-голубой прилив поднимался всё выше и выше, словно вода вокруг сего датского владыки на английском престоле, который сперва позволил прибывающей воде замочить ноги, а затем захлестнуть и кресло под ним, тем самым развеяв сочинённый придворными льстецами лукавый миф о его всемогуществе. Я поморгал – один раз, другой – и окончательно понял, что не ошибся: сей король Канут был умершим Скаутом, и я наблюдал за его кремацией.
Этот чёрный денди, ещё недавно заходившийся сухим кашлем, теперь застыл, чтобы навеки остаться в самом сердце костра, посреди пляшущего пламени, в коем он обугливался, становясь кем-то другим, неузнаваемым. Красные языки обвивали его талию, словно длани рабынь, ласкали грудь, подползали к самому подбородку. Руку, от которой осталась одна плечевая кость, пожирал огонь. Из ушного отверстия вырвалось ровное жёлтое пламя, напомнив мне о заправленной маслом лампе.
Громкий негодующий возглас заставил меня опять опустить взгляд: одна из собак пыталась стянуть руку Скаута, что упала на меня, а потом на землю. Но тут, к моей радости, руку придавила нога – нетронутая огнём, живая нога Салли Дешёвки. Салли наклонилась, вырвала мёртвую конечность из собачьей пасти, дала наглой твари пинка и, размахнувшись, бросила обугленную кость обратно в костёр.
Если читатель предположил, что Вилли Гоулд при этом вскрикнул или охнул, он очень ошибся. А если подумал, что Вилли Гоулд храбро подскочил к костру, выхватил из него тело Скаута и предал его христианскому погребению, то он ошибся ещё сильнее.
Во-первых, мне потребовалось немало сил, чтобы попросту не упасть в обморок. Во-вторых, я никогда не принадлежал к тем, кто учит других, как следует жить, а кроме того, как мне подсказывает опыт, сей способ перехода в небытие не из худших. Я уже и так успел распорядиться судьбою останков двух людей, причём в первом случае дерьмо превратилось в научную систему, а во втором труп переродился в осклизлого мудреца. Потому мне наконец стало ясно, что вмешательство в дела умерших не сулит ничего хорошего – ни в научном, ни в духовном смысле. И потом, у меня сложилось впечатление, что вид у Скаута весьма счастливый: на погребальном костре он сиял не хуже звезды Вифлеема, украшающей макушку рождественской ёлки. Это было красиво, а не уродливо. И не заключало в себе ничего правильного или неправильного. И запах распространялся тот, что надо, – хотелось бы мне, чтобы когда-нибудь Каслри источал такой же аромат.
Тут я поймал на себе взгляд Салли Дешёвки. Я ощущал на лице своём жар костра, видел, как отблески пламени рисуют на теле её и лице узор из светло-оранжевых и угольных пятен, в чёрных её глазах стояли слёзы. Опустив руку к поясу, где болталась корзиночка из шкуры кенгуру, она вынула комок охры и, вложив мне в ладонь, растёрла его; затем плюнула и превратила порошок в мазь, смешав его со слюною, при этом всё время приговаривала непонятные слова: «Баллеуинни… баллеуинни… баллеуинни…»– и всё время плакала, и лицо её подёргивалось и словно тряслось в неверном, прыгающем свете, и она всё не сводила с меня глаз, а я лишь смотрел, что делают её руки с замешанной на слюне охрой, и не отважился ни на что большее, даже когда она поднесла обмазанный красною краской палец к моей щеке и начала рисовать узоры на моём лице.
И, втирая охру мне в кожу, она всё время вглядывалась в меня, словно обрела давно потерянного друга, словно видела во мне своего мужа, брата, отца, своих сыновей – всех тех людей, которые были до Скаута, для которых она втирала охру в своё лицо и чёрный уголь в тело, чтобы оплакать их, когда один за другим они умирали от простуды и оспы, от триппера и мушкетных пуль, – глядела так, будто нас связывало что-то общее, соединяя наши тела, наше прошлое и наше будущее, будто знаки, нанесённые красною охрой, могли наделить меня пониманием всего этого, помочь приобщиться.
Но хотя блики и тени переплелись на моём лице с узорами ЖИЗНИ и смерти, а также с сокровенными тайнами, о коих те должны были поведать, я ощущал лишь, что ничего в этом не понимаю.
Салли отвернулась, взяла толстую ветку и сильными ударами раскроила пылающий череп Скаута, обнажив нетронутый огнём мозг, чтобы и тот поскорее сгорел. Затем она обошла тело со всех сторон, тыча в него палкою, подгребая угли, приподнимая те части, под которые не проникал огонь, – короче, у меня создалось впечатление, что её весьма заботит, чтобы Скаут сгорел как полагается, то есть дотла.
Потом она затянула песню, и дети подхватили её, они пели в унисон, а их мать – на октаву выше, так что получилось созвучие – столь чистое, что я, хоть и не понимал слов, был глубоко тронут.
И когда я попытался избыть печаль о том, что не понимаю ни слова в её песне, меня посетило странное подозрение, что на самом деле я всё понимаю, и очень даже хорошо, а также что эта женщина со множеством имён, которую я теперь и не знал, как называть, отвернулась, чтобы вырвать несколько листов из какой-то книги и бросить их в огонь.
Я пригляделся и увидел, что голова Скаута, обращённая к северу, вся обложена листами из реестра каторжников, книг входящей и исходящей корреспонденции, журналов приказов и распоряжений, всё назначение которых теперь свелось к тому, чтобы поддерживать огонь в погребальном костре, превратиться в пламя, взлететь и унестись прочь – мимо весело обугливающегося лица Скаута, к тому, чтобы их вспорхнувшие страницы на миг озарились светом горящего уха Скаута, прежде чем исчезнуть в ночи, разлетясь частицами углерода.
Когда Салли перешла на мою сторону костра, я понял, что, танцуя, она всё время питала пламя, кидая в него листы, кои с великим неистовством выдёргивала из моих фолиантов.
Моих фолиантов!
Тех самых фолиантов, которые я столь самоотверженно много дней волок на себе! Фолиантов, с помощью которых Брейди должен освободить нас! Фолиантов, которые убили Йоргена Йоргенсена и ради которых я рисковал жизнью, а Капуа Смерть по воле случая даже распростился с ней…
Я метнулся к Салли и выхватил книгу, которую та разрывала на части и скармливала пламени, готовый драться, чтобы спасти хоть один том от маниакального, дикарского аутодафе, но, к удивлению моему, не встретил ни малейшего отпора – Салли просто выпустила том из рук. Когда я попытался сбить огонь с уже занявшихся страниц и вставить их обратно, то обратил внимание на слова, высвеченные пламенем, которое поглощало поля их. Поднеся книгу поближе к костру, я прочёл несколько предложений, казалось бы лишённых смысла и посвящённых покупке стульев как тщетному акту искупления грехов, очень реальных, хотя и не поддающихся однозначному определению. Тут огонёк добежал до моих пальцев, я вскрикнул, отдёрнул руку, и страница, ещё прежде вырванная, упала в костёр. Я снова взглянул на Салли, но она продолжала смотреть в книгу, на строчки, мною недавно прочитанные, и я снова заглянул в книгу и пробежал глазами то, что отныне стало её началом; лист был надорван, и первые слова из тех, которые поддавались прочтению, были такими: «…ибо я – Вильям Бьюлоу Гоулд, зеленоглазый, с душою, напоминающей терновую ягоду, и редкими гнилыми зубами, косматый, оплывший жиром, как сальная свечка, и я собираюсь рисовать рыб, и те уловят ещё одну душу, например мою…»
Страдая от чувства, хоть и весьма смутного, будто встретил что-то уже известное, я перелистал ещё несколько страниц, на которых встречались рисунки рыб и записи, которые местами казались делом рук моих – во всяком случае, почерк и манера были узнаваемы, – но в остальном представляли собой сущую абракадабру, хотя и в ней наблюдались черты забавного, а то и пугающего сходства с реальной жизнью на Сара-Айленде.
Но в низу страницы в самом начале книги на глаза мне попалось несколько поразительных строчек, и я испытал нечто похожее на панику.
«Вильям Бьюлоу Гоулд, – прочёл я, – родился с кой-какими воспоминаниями о предыдущей жизни, которые ни его жизненный опыт, ни обстоятельства его рождения не могли объяснить; должно быть, с тех пор он только и делал, что измышлял несуществовавшее, наивно полагая, будто воображение может заменить опыт, объяснить и разрешить его проблему – это странное состояние памяти».
Решив более не читать подобных инсинуаций, я вырвал обидную для меня страницу и бросил в огонь, но тут же почувствовал, что дыхание моё участилось и стало тяжёлым, по спине от страха побежали мурашки и проступил пот, а в животе кишки устроили настоящий концерт.
Салли Дешёвка отёрла со щёк своих слёзы и знаками дала понять, что на дальней стороне костра требуется подбросить топлива. Меня разозлило полное безразличие к моим чувствам, и я решил почитать ещё, прямо сейчас, а затем стереть этот миг из своей жизни.
Мне требовалось вознаградить себя за бесполезные поиски Брейди, который сумел бы убедить меня, что всё наблюдаемое мной ныне лишь бред голодного человека, затерявшегося в диких лесах Трансильвании. Но куда там – Вилли Гоулд не мог отделаться от растущего подозрения, что он попал в эту книгу, словно в ловушку, стал её персонажем и его будущее, равно как и прошлое, уже написано, что оно стало известным, предсказанным, а потому столь же неизменным, сколь и невыносимым. Какой ещё был выбор, кроме как уничтожить проклятую книгу?
Я вырвал ещё с дюжину страниц и что было силы швырнул их в огонь, но тёплый воздух поднимался от костра таким мощным потоком, что создалась тяга, и струя его подхватила листки, подняла и бросила мне прямо в лицо. Отлепляя опалённую бумагу от носа и щёк, я снова не удержался от искушения и прочёл следующее: «Я остановился и, оборотясь, посмотрел вниз – чтобы увидеть у ног своих дымящуюся чёрную руку, ещё тлеющую там, где прежде был локоть…»
С ожесточением я провёл по странице рукой, скрутил её винтом и метнул в костёр, но тут мой взгляд задержался на новой, следующей странице, где был изображён пресноводный рак. Похоже, автору рисунка удалось в точности скопировать мою манеру. Пытаясь в панике избежать того вывода, что если сия «Книга рыб» является историей нашей штрафной колонии, то она вполне может оказаться пророческою и содержать предсказанье судьбы Гоулда, я вдруг понял, что книга ещё не вполне завершена, что в ней есть несколько недописанных глав, и с ужасом прочитал далее: «…я вдруг понял, что книга ещё не вполне завершена, что в ней есть несколько недописанных глав, и с ужасом прочитал далее…»








