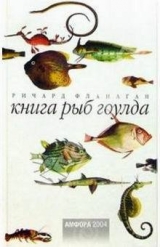
Текст книги "Книга рыб гоулда"
Автор книги: Ричард Фланаган
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 29 страниц)
XI
Я вдруг почувствовал, что медленно задыхаюсь, словно на меня обрушились огромные, как дома, страницы и спрессовали, подобно цветку, который надобно сплющить, высушить и таким образом сохранить; я вообразил, будто моё скромное тело, угодив в громадную, как само небо, книгу, затерялось между страниц и те со всех сторон обступили меня, а книга меж тем вот-вот должна захлопнуться навсегда.
Жизнь человека не есть математическая прогрессия или поступательное движение вперёд, какой она традиционно предстаёт на полотнах мастеров исторической живописи; не является она и простой очерёдностью фактов чьей-либо биографии, кои могут быть пронумерованы, а затем осознаны по одному в должной последовательности. Скорее она представляет собой ряд метаморфоз, трансформаций и превращений, одни из которых случаются вдруг и повергают в изумление, а другие происходят столь медленно, что их трудно заметить, однако сии изменения так страшны, так всеобъемлющи, что под конец жизни люди тщетно копаются в памяти и не могут отыскать в ней ни одной точки соприкосновения между собою прежними и собою нынешними, впавшими в старческое слабоумие.
Не могу сказать наверное, когда именно я впервые понял, что всё то долгое время, проведённое на Сара-Айленде, во мне на самом деле происходили какие-то бесконечные изменения. Робко пытаясь вырваться из мрака «Тасманийских черепов» и вложенных туда писем, мог ли я знать, что вскоре мне предстоит родиться вновь и даже переродиться? Что процесс перенесения рыб на бумагу являлся для меня столь болезненным и мучительным не оттого, что рыбы умирали и я не мог соответствовать их сущности, а потому, что для изменения формы моей в этом направлении мне также требовалось умереть? Откуда мне было знать, что всё это долгое время мои рисунки преображали меня, что кистью своею я не столько изображал рыб, сколько прял себе из бесчисленных нитей, сиречь рисунков моих, некий кокон?
И как мог я узнать, бросая прочитанное последним письмо на пол, что теперь уже недолго оставаться мне куколкою, что моя отчаянная попытка выйти наружу и обрести свободу вот-вот произойдёт.
Рыба девятая
Хохлатая водорослёвка


Рекомендации относительно самого отчаянного и дерзкого способа совершения побега – Салазки упрямой памяти – Брейди как ангел отмщения – Капуа Смерть возвращается – Нападение дикарей – Убийство – Погребальный костёр
I
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Сперва то же самое выходило и у Старого Викинга, ибо всё пошло от Него, и без Него не было бы ничего, что стало.
Но затем Слово стало плотию и обитало с нами как часть нашей тьмы, и плоть его была нечиста и в прилив кружила по моей камере разбухшими гнилыми ошмётками, осклизлыми и зелёными, похожими сразу и на бездомных бродяг, и на обломки кораблекрушения. И вот, когда я постарался повыше приподнять голову свою над всей этой плавающей повсюду липкою грязью, что к вечеру вновь завела вокруг меня свой хоровод, дабы избавиться от чувства, будто я навеки тону, погружаясь в это допотопное Слово, самым священным желанием в жизни моей сделалось рассказать всем, что и Слово, и Мир уже вовсе не то, чем кажутся, что они более не Двуединство.
В день, когда наступил новый, 1831 год, я набрался храбрости и решил, исполняя данную себе недавно клятву, совершить побег – хотя нет, я затеял даже нечто более великое, чем просто побег: в тщеславии своём вознамерился раз и навсегда покончить с каторжной системой. А средством для этого должны были послужить многочисленные записи и документы, похищенные мною в Регистратуре.
Их, как и меня, согласилась переправить ночью на другую сторону бухты рыболовецкая артель Роло Пальмы. Взамен я пообещал, что ни они сами, ни какие-либо представители власти никогда более не увидят их личных дел, вручил шесть бенгальских долларов и необычайно ценный, хотя и немного потрёпанный, а в одном месте даже проткнутый насквозь экземпляр изданного в 1628 году в Роттердаме и выполненного Филемоном Холландом первого английского перевода «Естественной истории» Плиния Старшего, полной описаний весьма странных народов: фибийцев, имеющих по два зрачка в одном глазу и по одному изображению лошади в другом; моноколов, которые способны с удивительной скоростью передвигаться прыжками на единственной своей ноге и, дабы защитить себя от зноя в жаркий солнечный день, ложатся на землю и поднимают эту ногу, пользуясь ею как солнечным зонтиком; не говоря уже об астомийцах, у коих нет ни ртов, ни носов, а только ноздри-отверстия, как у змей, – ведь эти странные люди питаются запахами.
На Сара-Айленде царили смятение и переполох: неожиданное исчезновение Старого Викинга, слухи о неминуемом пришествии Мэтта Брейди с его Армией Света и отшельничество Коменданта заставляли людей метаться безо всякой видимой причины. Ускользнуть с острова при таком беспорядке и кутерьме было совсем нетрудно, и я не стану теперь описывать не слишком-то интересную историю моего побега. Это потребовало бы изложения массы подробностей – рассказа о ночной встрече с Роло Пальмой при свете ущербной луны, тусклом, но позволяющем разглядеть всё, что нужно, о приливном течении, которое подхватило нас и понесло, куда следует, о муке и солонине, топоре и котелке, новых башмаках и о том, как мне удалось купить всё это, а вдобавок ещё и мою свободу – подробности никогда не интересовали меня. Скажу лишь, что сия затея вовсе не представляется мне отважным и отчаянным предприятием, требующим недюжинной смелости, нет, как это чаще всего бывает в подобных случаях, оно опиралось на банальный подкуп и точный расчёт.
Впоследствии, вспоминая наше прощание, рыбаки-артельщики, способствовавшие побегу, рассказывали обо мне как о какой-то сумасшедшей горе бумаги; им приходили на память всевозможные журналы со списками каторжников, книги учёта корреспонденции, переплетённые в «мраморный» картон отчёты, документы и рукописи, целую охапку коих я навалил на деревянные сани, – всё вместе в тусклом свете раннего утра они напоминали огромный курган.
Роло Пальма и его сотоварищи налегли на грубо вытесанные вёсла, и заметно было, как после каждого гребка вельбот медленно оживает под ними, повинуясь ритму гребли: сперва по нему пробегала дрожь, не более чем лёгкий трепет, а затем начиналось уже несомненное скольжение по водам бухты, притихшим и чёрным, бегущим назад, к Сара-Айленду.
Вельбот всё дальше отходил от берега, и пока рыбаки пытались согреться, напрягая все свои мускулы, я слышал в тишине морозного летнего утра их удаляющиеся голоса – они долетали сквозь клочья тумана, который плыл поверх водной глади в глубь диких лесов, ещё тёмных и пропитанных предрассветной сыростью, куда направился и я, насилу сдвинув с места свои сани, – оборванец, впряжённый в них с помощью постромок из кожи кенгуру.
– Бог ты мой! – услышал я восклицание Роло Пальмы. – Да он похож на сверчка-богомола, пытающегося сдвинуть с места кирпич!
Затем, когда солнце поднялось уже довольно высоко, они, должно быть, заметили, что гора на берегу пришла в движение, как их вельбот, ибо я услыхал удивлённые крики «Пошла! Пошла!», уже погружаясь в зелень бескрайнего леса, что тянется в западном направлении на многие сотни миль и где можно встретить одних лишь туземцев, да диких зверей, да ещё более дикие реки, да бог ведает что сверх того – может, какие-нибудь диковинные народы или доселе неведомых тварей, – а заодно с горой пополз и беглый безумец, бредущий неизвестно куда.
II
Следует принять во внимание, что Вилли Гоулд приписывал документам силу, которую способен представить, если не постичь до конца, лишь человек, слишком долго имевший дело со всем, что так или иначе может быть нанесено на бумагу. Я опасался, что, если не принять мер, вся ложь, которую я теперь влачил за собою, в один прекрасный день окажется единственным, что сохранится от штрафной колонии Сара-Айленд, и последующие поколения станут чересчур строго судить живших и умерших в наши дни: негра по прозванию Капуа Смерть, и мистера Лемприера, и Коменданта, и даже бедного Каслри, всех их и меня – по документам, что сфабриковала запущенная Комендантом чудовищная машина лжи! Судить так, будто это правда! Будто истинная и писаная история дружат, а не соперничают!
Я знал: лишь один человек придумает, что делать, и его имя Мэтт Брейди.
Он был загадкою для нас всех, но во тьме вонючей камеры, где вокруг меня медленно разлагался Старый Викинг, чернильная душа, Брейди служил мне маяком, путеводной звездою. Никто из тех, кого я знал, не видел его лично, а передаваемые из уст в уста рассказы о внешности его сильно разнились. И всё-таки я был уверен, что узнаю его в тот самый миг, когда он предстанет перед моими глазами. Одни говорили, будто он высокий и смуглый, а на щеке у него татуировка, какие имеют живущие в Новой Зеландии маорийцы; другие рассказывали, что он наполовину самоанец и это объясняет его воинственные наклонности; иные же описывали его как веснушчатого коротышку, рыжие волосы коего прихвачены в два пучка, точно у девчонки. Для шотландцев он был Вильям Уоллес, победитель англичан, для ирландцев – герой древних легенд Кухулин, и все считали его настоящим молодцом.
Лишь мне Брейди виделся тем, кто способен постоять не только за себя, но и за саму историю.
Намерения мои, как вы уже поняли, были весьма многогранными, но мне следовало бы знать, насколько они невыполнимы. Я хотел парализовать жизнь колонии, лишив начальство её основания, на коем покоилась его власть: всех записей, всех документов, касающихся выдуманной истории поселения, всех этих вымыслов, обеспечивающих действительное существование сей островной тюрьмы. Кроме того, я собирался, найдя Брейди, передать все архивы ему. Ибо я тогда ещё находился в шорах иллюзий – куда более диковинных, чем мои сделанные из ветвей сассафраса сани, ибо мечты мои были вытесаны ещё грубее, чем их полозья, – в плену наивной веры, что, если на руках у Брейди окажутся сразу и официальные, фальшивые хроники событий, и мои собственные правдивые показания, сей разбойник сумеет покарать виновных, когда явится освободить Сара-Айленд!
Брейди свершит Божий суд над теми крысенышами, что доносили и наушничали, над заколюченными-надсмотрщиками, продававшими товарищей за тёпленькое местечко, ибо все они изображались в отчётах Старого Викинга как герои, самые достойные и уважаемые из каторжан. Брейди освободит остальных, ведь каторжник, на которого не заведено дело, должен стать свободным человеком, ибо в ту пору у меня не возникало сомнений, что именно сила лживых слов и поработила нас. Не будь их, как узнали бы, кто узник, а кто нет? По выходе на волю прежним арестантам потребовалось бы куда-то уехать и там объявить, что они свободны, а без документов им, пусть и выскользнувшим из заточения в «бумажной» тюрьме, это не удалось бы. А потому я надеялся, что Брейди распространит повсюду отчёт об истинном положении дела, обнародует правду об ужасах, царивших в колонии, разоблачит ту ложь, которой полны были официальные доклады хозяев не только Сара-Айленда, но и Земли Ван-Димена, и тем самым распространит из конца в конец дух восстания и мятежа.
И вот, удостоившись наконец чести стать орудием Провидения, терпящим ради благого дела невиданные муки, я медленно углублялся всё дальше и дальше в неведомое вместе со странным грузом своим, и перед моими глазами маячило видение далёкого Брейди, будущего избавителя и спасителя.
Но даже и без такого груза амбиций, громоздящихся на санях ярости, странствие моё было достаточно безрассудно. Дикая страна, дебри коей мне предстояло пройти, не значилась ни на одной карте, и где именно на просторах диких лесов, покрывавших площадь величиной с Англию, обретался Брейди, я, увы, не знал. Всю местность покрывали густые, а местами непроходимые заросли из вековечных деревьев, под которыми поднимались такие же древние папоротники. Это зелёное море вздымалось огромными волнами гор, гребни коих опадали гранитными водопадами, блестевшими на солнце, словно морская пена.
Всё путешествие стало невероятным мучением. Но, волоча сани, гружённые вставшей поперёк правды историей, через снега и скользкую слякоть, ещё один овраг и ещё одну проталину в щетине молодой травы, через горные хребты и вздувшиеся реки, я ни разу, даже в минуты самого жуткого отчаяния, самой страшной усталости, никогда-никогда не позволял себе хотя бы подумать, что могу не найти Брейди, ибо Брейди, стоит мне с ним наконец встретиться, поймёт всё. Он обязан знать то, чего не знаю я. Брейди расскажет мне, как перевернуть мир вверх тормашками, а потом снова поставить на ноги, как тот когда-то стоял и как должен стоять всегда.
III
Он вошёл в круг света от моего костра, когда уже начинало темнеть. Его покрытое паршой и болячками тело казалось высохшим и обессилевшим, и прикрыть наготу он мог бы разве только сплетённой из травы шапочкой, плотно сидевшей на голове, да старым, обшарпанным глиняным кувшином, который держал в правой руке, а стало быть, ничто не скрывало большого тавра на ягодице в виде заглавной буквы «S», похожей на две сморщенные подковы.
Я затаился под навесом сланцевой скалы, дивясь его отчаянной храбрости, меня так и подмывало поскорее узнать, кто он такой. Рука нащупывала топор. Но когда он обратился ко мне с исключительно смелым деловым предложением, у меня не осталось никаких сомнений, ибо кто ещё был способен, владея столь малым, использовать слабость себе на пользу?
– Если поделишься со мной пищей, – сказал Капуа Смерть, – я разделю тяготящее тебя бремя.
Я дал ему солонины. Он стал жевать мясо краем рта, как это делают собаки, – должно быть, зубы у него повыпали. Мне захотелось узнать, почему он сбежал, ведь в колонии Капуа находился в привилегированном положении, так что жилось ему куда лучше, чем большинству каторжников, и я спросил его об этом.
Не прекращая жевать, Капуа Смерть стянул с головы травяную шапочку и снял с макушки грязный, потрёпанный клочок бумаги. Клочок этот столь часто складывали вдвое, а затем вчетверо, что на протёршихся сгибах образовались порядочные прорехи, и, когда он развернул бумажку, в руках у него оказалось четыре почти отдельных прямоугольничка.
«Дорогой Кап, – прочёл я, – ты всегда был моим единственным только один ты был всем каким сладким каким хорошим как я могу забыть как я любил твою кривую усмешку твои кучерявые волосы как я всегда любил тебя
навеки твой милый Томми».
Я протянул письмо обратно.
Капуа Смерть рассказал, что, после того как прошлой зимою был повешен Том Вивёр по прозванию Рыкун, в сердце что-то оборвалось. Сперва он хотел убить себя, но спустя какое-то время решил смотать удочки следующим же летом. Несколько недель назад он бежал в компании ещё шестерых; они разделились, когда кончились харчи. Один утонул, переходя вброд реку, другой пошёл назад к лагерю артели колодников, занимавшихся гашением извести, и сдался властям. Капуа Смерть неделю назад выдержал настоящее сражение с сумчатым волком, а может быть, и с самим сумчатым дьяволом, прогнал его и завладел падалью, на которую тот покушался, – это был издохший вомбат, но с тех пор ему ничего не удалось добыть.
– Да, – проговорил он, словно отвечая на какой-то одному ему ведомый вопрос, и вытащил пробку из кувшина – там по-прежнему плескалась жидкость цвета мочи, пресловутый «хулиганский суп», у которого имелась своя история – некогда бывшая, добавил Капуа Смерть, и его историей тоже. Он извлёк из кувшина осклизлый стебель травы и рассказал, как ему однажды, вскоре по прибытии на Сара-Айленд, довелось наблюдать допрос схваченного беглеца.
Этот арестант – некий пирожник из Бирмингема – провёл несколько недель в бегах вместе с тремя другими, ещё не пойманными каторжниками. Полагали, что из-за нехватки еды в здешних суровых краях он во время скитаний по диким горам съел своих товарищей, безуспешно пытаясь найти перевал, чтобы пробраться с безлюдного запада на более или менее обитаемый восток, но затем, вконец оголодав, был вынужден вернуться к каторжному поселению и сдаться.
Заявив, что ему надоела такая жизнь, он сознался в каннибализме, но признанию не верили, пока он не снял сшитые из человеческой кожи мокасины и не предъявил их как доказательство. Более заинтересованный тем, что разузнал сей пирожник о таинственных трансильванских лесах, чем совершённым им преступлением, Муша Пуг заставлял его в подробностях описать природу страны, где тот побывал.
От нестерпимой боли пирожник наклонился вперёд и, попросив разрешения у Коменданта, принял листок бумаги из рук Йоргена Йоргенсена, который вёл протокол допроса. С гримасой отчаяния он смял его, превратив в уродливый шарик.
– Сэр, – тихо сказал он, – Трансильвания выглядит вот так, – и бросил комок сей к ногам Коменданта.
Ради того скудного харча, что у меня ещё был, Капуа Смерть присоединился ко мне, и мы вместе двинулись по лабиринту отвесных скал, откуда низвергались водопады, непроходимых джунглей, ущелий, известняковых террас, и весь этот ландшафт разворачивался перед нашими глазами, как тот самый скомканный лист бумаги, как нечто не выразимое словами.
Мы держали путь к Фрэнчменз-Кэпу, главному горному массиву в Трансильвании. Имеющий форму неправильного полукруга и видимый на сотни миль со всех сторон, он чётко вырисовывался на горизонте, его было хорошо видно узникам Сара-Айленда; живое воображение уподобляло самый высокий пик его фригийскому колпаку, символу свободы, провозглашённой Французскою революцией, и мы, каторжники, как ни странно, считали его главным убежищем Мэтта Брейди – я же в этом нисколько не сомневался (уверенность моя основывалась на непрекращающемся потоке слухов, а также на сведениях, почерпнутых из нескольких найденных мною секретных писем губернатора Коменданту, где сообщалось, что Брейди разбил там свой лагерь).
Но мы не были первыми, кто решил направиться к Фрэнчменз-Кэпу. Так, раз нам попалось кострище, у которого там и сям валялись берцовые кости и кости предплечий. Невдалеке заметили мы и скелет безымянного беглеца, закованный в кандалы и оплетённый корнями мирта.
Мы стояли молча, словно прислушиваясь, сами не зная к чему.
– Что ты собираешься делать? – спросил Капуа Смерть, почёсывая большой, прискорбного вида струп, который образовался там, где на предплечье была некогда выжжена калёным железом улыбающаяся маска.
Мы поковыляли дальше. Солонина была вся съедена. Книги отсырели, обросли мхом и лишайниками, в них завелись насекомые и ещё какая-то живность. Струп на предплечье у моего спутника загноился, его движения замедлились, мозгом овладела горячка. Чай закончился. Каким-то образом мы умудрились потерять топор, хотя я подозревал, что Капуа Смерть нарочно его выбросил, во избежание соблазна употребить его так, как это сделал пирожник. Мука тоже вся вышла. В глубокой речной долине мы набрели на побелевший остов голубого эвкалипта такой толщины, что лишь с десяток мужчин смогли бы его обхватить. К нему гвоздями было прибито в ряд нечто, издали казавшееся кусочками коры. Капуа Смерть, бредивший на ходу, решил, что это уставились на него невероятно размножившиеся глаза луддита из Глазго, взывая к отмщению, и побоялся подойти. Но то было нечто совсем другое: при ближайшем рассмотрении обрывки коры оказались дюжиной пар засохших чёрных ушей.
Позднее, прихрамывая, мы спустились с высокого холма, где к поверхности подступали скалистые породы, и шагнули на обширную равнину, уже зелёную от травы; здесь попадались рытвины – в одну я провалился по грудь, – медно-рыжие от каких-то мелких цветочков и свежей поросли. Мы заметили, что среди них что-то мелькает, двигаясь по направлению к нам, и через некоторое время стало ясно: в нашу сторону идут двое туземцев.
Они не испугались, когда мы прибегли к старому трюку, подняв с земли по палке и вскинув их к плечу наподобие мушкетов. Бежать не имело смысла, мы даже понадеялись, что дикари отнесутся к нам дружелюбно и угостят мясом кенгуру, тушу которого нёс на плече один из них.
Но когда туземцы подошли ближе, стало ясно, что у них и в мыслях нет делиться добычей. Один был рослый, но какой-то замухрышка. Другой не такой высокий, зато ладно скроенный. И оба всем видом показывали, что настроены воинственно. И тут мы наконец заметили копья, волочащиеся по земле, – эти бродяги тащили оружие, зажав конец древка пальцами ног.
– Нумминер? Нумминер? – заверещали они, и я, белый тупица, предположив, что под «нумми-нером» они разумеют белого человека, повинного во всех бедах чёрного народа, заявил:
– Нет, я не нумминер.
Капуа же Смерть, чернокожий умница, подумал, что они толкуют про духов или призраков, а значит, можно обмануть этих простаков, изобразив ожившее пугало; он выпрямился, расправил плечи и постарался унять бившую его яростную дрожь, чтобы туземцы не узнали, до какой степени он болен и слаб.
И как можно громче, из последних сил он произнёс:
– Да, я – нумминер, я – чертовски большой нумминер!








