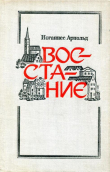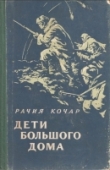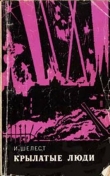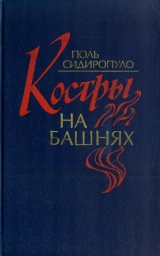
Текст книги "Костры на башнях"
Автор книги: Поль Сидиропуло
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
Глава вторая
Иван Владимирович Тюленев, заметно раздавшийся вширь к сорока семи годам, стоял у огромного окна своей просторной московской квартиры, в которой теперь бывал от случая к случаю; он смотрел на безлюдную улицу, озаренную полуденным солнцем. Август сорок второго года выдался жарким, и не только на юге, но и в Москве. Душно, очевидно, к дождю вдруг стала покалывать раненая нога.
Иван Владимирович невольно окинул мысленным взором события последних месяцев: 22 июня началась война, и вскорости его назначили на должность командующего созданным на границе с Румынией Южным фронтом. Жаркими были те бои – семьдесят суток почти непрерывных сражений. Отстаивали каждый клочок земли, отбивая несчетные атаки противника. Однако вынуждены были отойти за Днепр. В сентябре Тюленев был тяжело ранен и доставлен в Москву, в Центральный военный госпиталь. Отлежался и еще из госпиталя написал письмо Сталину. Просился на фронт.
Он был уверен, что после операции, после того как в меру окреп и лишь слегка прихрамывал на одну ногу, его, Тюленева, непременно отправят на фронт. И когда его вызвал в Кремль Верховный, решил, что именно для этой цели, для назначения. Сталин принял его сразу, в назначенное время, усадил на кожаный диван, а сам прохаживался по кабинету со свойственной ему неторопливостью. Поскрипывали мягкие кавказские сапоги. Иосиф Виссарионович был в привычной одежде: защитного цвета китель, брюки заправлены в сапоги. Непривычным было другое: он выглядел усталым, был озабочен и не скрывал, что весьма недоволен положением дел на фронтах.
И Иван Владимирович спрашивал очень часто себя: каковы причины отхода советских войск на Южном фронте? И приходил к выводу: не были подготовлены оборонительные рубежи, о них по-настоящему не позаботились, не запаслись заблаговременно надежными резервами, а контрудары советских войск носили случайный характер… Об этом он и сказал Верховному.
Сталина, похоже, задела такая откровенная оценка, его смуглое лицо с легким восковым налетом побелело от гнева. Иосиф Виссарионович остановился напротив собеседника, прищурив колючие глаза: казалось, он гневался – ведь речь шла о его личных недостатках и просчетах, весьма важных упущениях. Однако, как выяснилось чуть позже, это было не совсем так – гневался он по другому поводу. Он заговорил о резервах, самых необходимых, насущных, без которых ни за что не обойтись.
– Вы правильно сказали, товарищ Тюленев, нам необходимы крепкие резервы. – Он подчеркивал каждое слово. – И от того, насколько быстро и эффективно мы сумеем их подготовить, зависит наше положение на фронтах. Государственный Комитет Обороны поручает вам это неотложное дело. Отправляйтесь на Урал со специальным заданием. – В жестких черных волосах Сталина густо проглядывала седина. – Необходимо самое серьезное внимание обратить на обучение резервных дивизий ведению ближнего боя, – тверже добавил Сталин, – особенно борьбе с танками. Необходимо также отработать с командным составом вопросы управления боем.
Вначале Тюленев воспринял задание с некоторым унынием, хотя и не подал вида, не возразил, но потом, подавив внезапно подступившую к сердцу обиду, обдумав предложение Верховного глубже и основательнее, он понял, что предстоит не обычная тыловая работа. Речь ведь не о простом формальном призыве людей идет – собрал четырнадцать стрелковых и шесть кавалерийских дивизий, и на этом кончаются твои полномочия, – нет, тут нужно в кратчайший срок, в течение двух месяцев, подготовить настоящих воинов, обучить их ведению современного боя с применением новейшей техники. Немцы придают особое значение танковой атаке, стало быть, каждый советский боец должен овладеть надежной тактикой борьбы с танками, мотомехчастями.
В приемной Сталина для Ивана Владимировича был заготовлен мандат, в котором указывалось, что генерал армии Тюленев является уполномоченным Государственного Комитета Обороны по обучению и сколачиванию вновь формирующихся дивизий на территории Уральского военного округа.
Уже в поезде, глядя из окна на багряную листву деревьев, Тюленев думал о том, как лучше организовать подготовку личного состава; перво-наперво выступит в гарнизонном клубе и поделится своими впечатлениями о войне, о которой люди знают лишь по сводкам Совинформбюро и газетным корреспонденциям.
Ивану Владимировичу предоставили возможность взять с собой и нужных ему военных специалистов. Отправились на Урал вместе с ним его давние боевые товарищи: генерал-майор Тимофеев, кстати, Василий Сергеевич был с ним и на Южном фронте, и самый меткий снайпер времен гражданской войны капитан Николай Иванович Ващенко – а обучать солдат стрелковой подготовке, а между занятиями рассказывать призывникам о некоторых памятных военных событиях.
Урал встретил крепкими холодами. Как ни пытался хорохориться Тюленев, не так скоро оставила в покое раненая нога, временами настойчиво напоминала о себе: схватила дней через десять нестерпимая боль среди ночи, хоть кричи. Забыл о недуге, не обращал внимания, вот и дало о себе знать ранение. Иван Владимирович и так ногу приспособит, и этак – не помогает. «Неужто хирург не вытащил пулю из ноги?» – и такая приходила в голову мысль. И понимал, что нелепая. Стал растирать рану – рубец, кажется, вздулся. Промаялся всю ночь – если бы только одну! Да, как видно, верно поступили, направив его в тыл, – для фронта он еще не был готов.
…День в день, как приказано, задание было выполнено. Иван Владимирович вернулся в Москву с отчетом и, несмотря на поздний час, отправился в Генштаб: он знал, что работа там не прекращалась круглые сутки.
– Дивизии можно отправлять на фронт, – рапортовал Тюленев.
И снова стал проситься на передовую. Но ему сказали в Генштабе, что рано идти на фронт – можете повредить ногу.
«Неужто так хромаю, что сразу в глаза бросается?» – удивился Иван Владимирович.
На второй день Тюленева вызвал Сталин. Верховный Главнокомандующий был доволен результатом подготовки резервных войск. И, выслушав отчет, сказал:
– Тут начальник Генерального штаба говорил, что вы добиваетесь срочной отправки на фронт. Что, надоело сидеть в тылу? – Он глянул пристально, словно пытался проникнуть в думы Тюленева.
– Так точно! – ответил Иван Владимирович без промедления.
Сталин сделал шаг-другой по кабинету, казалось, в движении ему лучше думалось; но вот он остановился у письменного стола, за которым Тюленеву так и не пришлось увидеть Иосифа Виссарионовича сидящим: на ногах встречал, стоя и провожал.
– Вы, кстати, ветеран Закавказского военного округа? – развернулся Сталин к Тюленеву лицом.
– С первых дней, товарищ Сталин, – с гордостью вымолвил Иван Владимирович, точно речь зашла о памятном и приятном. – В рядах одиннадцатой армии.
– Участвовали в разгроме мусаватистских банд в Нагорном Карабахе, – задумчиво произнес Сталин, – белогвардейцев на Северном Кавказе?..
Верховный приподнял чуть склоненную голову, будто вспомнил что-то, заговорил так, как если бы продолжал прерванную мысль:
– Думаю, нет надобности перечислять ваши несомненные заслуги перед Родиной. – Сталин решил не продолжать более рассказывать того, что много лучше известно собеседнику, и вряд ли уместно расхваливать солидного генерала, перечисляя его достоинства. – Отправитесь на Кавказ. Возглавите Закавказский военный округ. – Сталин вновь зашагал по кабинету, тем самым давая понять, что разговор не окончен. – Танки противника, – сказал он с присущей ему манерой выделять каждое слово, – рвутся на юг. Немцы, как и прежде, мечтают овладеть нефтепромыслами Грозного, Баку. Стремятся через Закавказье проникнуть на Ближний Восток. – Сталин перехватил напряженный взгляд Тюленева, остановившись напротив поднявшегося Ивана Владимировича, и тверже сказал: – Фашисты не получат нефть. Горная война, – продолжил он напутствие, сделав непринужденное движение рукой, в которой держал трубку, казалось, чубуком на что-то указывал, – это сложное дело. И вам хорошо это известно, товарищ Тюленев. Она обусловлена рядом существенных факторов – бездорожьем, плохим снабжением боеприпасами, продовольствием. Как можно лучше в деталях изучайте методы ведения альпийской войны.
Он подошел к письменному столу, садиться, однако, не стал и на этот раз; подвинул к себе поближе массивную пепельницу, коробку и, стоя не спеша освободил трубку от пепла и стал набивать табаком.
Наступила напряженная тишина. Глядя на сутуловато склонившегося Сталина, Иван Владимирович подумал: «До чего же благодушно поступили мы в самом начале…» Еще в ту пору, в тридцать восьмом году, когда его, Тюленева, назначили командующим войсками Закавказского военного округа, он чувствовал, да и многие тогда предсказывали, что фашисты рано или поздно затеют войну, одними словесными нападками на Советский Союз они не ограничатся. Но Верховный думал по-другому… Вот и получился конфуз.
– Обдумайте, посоветуйтесь с Военным советом на месте, как лучше организовать оборону Кавказа, – добавил Сталин.
Тимофеев и Виктор поджидали Тюленева у машины.
– А это Соколов-младший, – представил Василий Сергеевич. – Сын Алексея Викторовича.
– Похож на отца, – заметил Иван Владимирович, задержав на Викторе добрый внимательный взгляд. – Альпинист?
– Так точно!
– Без вашей помощи нам теперь не обойтись. Как нога? – спросил Тюленев, усаживаясь на переднее сиденье эмки.
Виктор посмотрел на Тимофеева, молча удивляясь тому, когда Иван Владимирович успел уловить, что он прихрамывает. Или знал уже об этом?
– Все в порядке, товарищ командующий! – излишне бодро ответил Виктор.
– С ногой не шутите, – сказал Тюленев. – По себе знаю. Я тут тоже хорохорился. А так однажды схватило! Василий Сергеевич помнит. Сейчас нам никак нельзя выходить из строя, – доверительно подчеркнул Иван Владимирович. – Все мы должны быть в боевой форме.
Часа через два эмка доставила их на аэродром, и они вскоре вылетели на «Дугласе».
Самолет набрал высоту.
Иван Владимирович вытянул перед собой ноги, пристраиваясь на сиденье поудобнее, словно намеревался прикорнуть; трудным был день, напряженным, да и все это время он недосыпал, и эта нынешняя поездка была сопряжена с нервной нагрузкой. Но результатом он был доволен: новый план обороны Кавказа, принятый Военным советом Закавказского фронта, переработанный в соответствии с директивой Ставки, в которой предусматривалось создать на пути гитлеровских танковых колонн прочный оборонительный заслон, был одобрен. Разумеется, вопрос этот решался и прежде, но если самокритично оценивать прежнее предложение, то нужно признаться: не все в нем было учтено в должной мере.
Самолет летел над белоснежными облаками, казавшимися сверху бесконечной снежной грядой. Иван Владимирович поделился с Тимофеевым одобренным Ставкой планом обороны Кавказа и откровенно сказал:
– Придирчиво оценивая сложившуюся на сегодняшний день ситуацию, прихожу к выводу: затянули мы формирование соединений и частей. Поэтому их боевая готовность была сравнительно невысокой.
– Положение усугубилось еще и тем, – продолжил его мысль Василий Сергеевич, – что войска испытывали недостаток в вооружении.
Летом немцы начали большое наступление на южном крыле фронта. Выйдя затем к Дону, они приступили к выполнению плана операции «Эдельвейс», предусматривающий захват Кавказа. Спешили немцы к недоступным горным вершинам, чтобы воспользоваться, как отмечалось в приказе Наркома обороны от 28 июля, удобной для них летней порой и преодолеть горные перевалы. Радиостанции Берлина не скупились на восторженные сообщения: под бравурные марши военного оркестра фашистский диктор генерал Дитмар в специальных сводках самозабвенно расхваливал успехи солдат вермахта, отмечая, что наступление на юге протекает так же успешно, как оно шло на Дону и Кубани. А посему задача захвата богатых нефтяных районов Грозного и Баку практически почти решена.
– Как ты считаешь, Василий Сергеевич, Турция решится вступить в войну? – спросил Тюленев.
– Думаю, что будет выжидать…
– Точно, пока немцы не пройдут в Закавказье. – уточнил Иван Владимирович. – Турецкое правительство все еще надеется на то, что однажды сможет отторгнуть Закавказье и Северный Кавказ от нас…
Детально знакомясь в штабе фронта с размещением войсковых частей, готовя оборонительные укрепления на всех важных рубежах и просматривая в свободное время свежую почту, газеты и журналы, Иван Владимирович обратил внимание на красочно оформленную карту, которая была помещена в турецком журнале «Бозкурт». «Великая Турция», как гласила надпись, размещалась не только на своей исконной территории, но и простиралась дальше, захватывая Кавказ и Среднюю Азию. «Аллах, как видно, не обделил турок аппетитом! – подумал с неприязнью Иван Владимирович. – Ишь чего захотели – Кавказ и Среднюю Азию. То-то сконцентрировали дивизии у южных наших границ. Отнюдь не для обороны».
В Минеральных Водах Виктор вышел.
– Матери огромный привет, – пожелал Василий Сергеевич. – Все никак не удается ее навестить. В сутолоке дел забываю порой даже очень дорогих людей. Но ничего, Виктор, еще будет возможность, наверстаем, сынок, – расправив на высоком лбу морщины, добавил он бодро, чтобы не расставаться в плохом настроении. – Тут мы теперь рядом. Наверняка повидаемся…
Глава третья
«Отсюда, кажется не выбраться», – пришел Виктор к печальному выводу: на станции скопилось очень много беженцев.
Северо-Кавказская железнодорожная магистраль была запружена эшелонами с заводским оборудованием, техникой, боеприпасами, солдатами; тысячи женщин, детей, стариков умоляли отправить их за Каспий. Путейцы работали круглые сутки, но количество составов не уменьшалось. И люди все скапливались на станциях.
Виктор простоял в билетную кассу больше часа, но безрезультатно. Не выдержав, направился в сторону большака: может, на какой-нибудь попутной машине доберется домой.
Наконец его подобрал старый, в ржавых потеках автобус, так набитый людьми, что покосился набок. Соколов, пристроившись на чьих-то узлах рядом с потеснившейся детворой, дал больной ноге передых.
Автобус качался на неровной дороге, напряженно стонал, будто взбирался на крутой подъем по горному ущелью, но не рассыпался, а с завидной настойчивостью продолжал продвигаться вперед.
Проезжали неподалеку от места дуэли Лермонтова. Какое-то странное чувство охватило Виктора в этот момент, и так всегда, когда он оказывался в этих местах: невольно проникала в сердце необъяснимая грусть, как будто он знал поэта, дружил с ним долгие годы и очень трудно перенес утрату. Вспомнились черты его красивого, одухотворенного лица, большие строгие глаза, как на портрете, который висел у Виктора дома.
– Я думала, ты станешь литератором либо переводчиком, – сказала однажды мать. – Тебя постоянно увлекали гуманитарные науки.
– Верно, мама. Литература – это моя душа. Но буду я горняком. – Виктор улыбнулся и процитировал своего любимого поэта, полагая, что этого достаточно, чтобы выразить свою любовь к горам:
Как-то раз перед толпою
Соплеменных гор
У Казбека с Шат-горою[2]2
Шат – Эльбрус.
[Закрыть]
Был великий спор.
«Берегись! – сказал Казбеку
Седовласый Шат. —
Покорился человеку
Ты недаром, брат!
Он настроит дымных келий
По уступам гор;
В глубине твоих ущелий
Загремит топор;
И железная лопата
В каменную грудь,
Добывая медь и злато,
Врежет страшный путь».
Вопрос о выборе профессии перед Виктором не стоял: все давным-давно решено – отец был горным инженером, стало быть, и ему идти в горняки. Поступил он в Северо-Кавказский институт цветных металлов, который находился во Владикавказе. После окончания института Виктора направили на Терский комбинат. В институте, где была создана альпинистская секция, а потом и на предприятии он продолжал заниматься альпинизмом. Покорял сложные кавказские вершины Казбек и Эльбрус, водил в горы советских и зарубежных спортсменов. Горы Виктор любил и знал в них каждую тропу, как улицу родного города.
Было это года три назад. Вызвал секретарь партийной организации комбината Константин Степанович Карпов, невысокий, полноватый, круглолицый мужчина лет сорока пяти.
– Виктор Алексеевич, – сказал он, – дело к тебе, можно сказать, государственной важности. – Он, правда, слыл мастером слегка все преувеличивать, по на сей раз, кажется, ему было не до громких слов. – Гости к нам едут. Из самой Германии, представляешь? – добавил он, давая как бы понять, что сам этому нисколько не рад. – Спортсмены, альпинисты, что ли. Встретить надо, сопровождать потом тоже. Тебе решили поручить это ответственное дело. Займись гостями, внимание им окажи. Кавказское наше гостеприимство прояви. Все как положено. Если что нужно будет – ко мне. Окажу помощь.
Горный городок вскоре встречал иноземных гостей в меру торжественно: на небольшой железнодорожной станции висел лозунг: «Дорогие немецкие спортсмены, добро пожаловать!»
Трое комбинатовских музыкантов играли марш.
Виктор был приятно удивлен, когда первым из вагона вышел Карл Карстен, рослый, улыбающийся молодой мужчина, – он сразу же узнал известного германского альпиниста.
Стали знакомиться.
– Карл.
– Виктор. Кстати, я уже слышал о вас.
– Я – тоже, – весело ответил Карстен, как будто это была шутка и он ее охотно поддержал.
Имена других гостей Виктору ни о чем не говорили: очевидно, это были малоизвестные альпинисты, а может быть, и вовсе начинающие.
– Спортсмены знакомятся и заводят дружбу быстрее, чем дипломаты, – многозначительно подчеркнул Карл. – Мы открываем новые тропы в горы и… к сердцу.
Виктор и Карл как-то сразу стали симпатизировать друг другу. У всех было хорошее настроение. И погода стояла солнечная, несмотря на первое октября, было еще тепло, вообще осень тридцать девятого года изобиловала теплыми днями.
– Моя заветная мечта, сразу же скажу откровенно, – покорить самую высокую кавказскую вершину! – произнес Карстен с пафосом. – Более того. Нет тайны и в том, что очень надеюсь на то, что поведет нас Виктор Соколов! Как, Виктор? Ты согласен?
Сразу по-дружески, сразу – на «ты».
– Предложение принято! – отозвался Виктор. – Мне нравится, что у всех отличное настроение. Значит, Эльбрус? Синоптики обещают хорошую погоду. Так что все – за нас.
Конрад, высокий, поджарый мужчина лет тридцати, тут же на перроне сделал фотографию на память: снял гостей и гостеприимных хозяев своей «лейкой», с которой потом никогда не расставался.
После банкета, который был организован в честь спортсменов, – обильного кавказского угощения и танцев, европейских и национальных, – гостей отправили отдыхать; им были предоставлены двухместные номера в новой гостинице.
Утром Виктора разбудила Надя. Жена была чем-то озабочена.
– Пришел к тебе начальник отделения милиции. – Именно так и сказала, а не Тариэл Хачури, или просто Тариэл, друг семьи, названый брат Виктора.
– Чего это с утра пораньше?
– Не знаю. Он встревожен.
– Уж не сбежали ли наши гости? – попытался было Виктор пошутить. Зевнув, он потягивался спросонья в постели.
– Виктор, человек ждет, – напомнила Надя.
– Слушаюсь, моя милая фея. – Но вместо того чтобы надеть брюки, которые были переброшены через спинку рядом стоящего с кроватью стула, Виктор потянулся к жене и, обхватив ее за талию, привлек к себе.
– Ну, Виктор… – Других слов жене он не дал произнести – поцеловал ее в губы, уложив в постель; а когда она высвободилась, стала выговаривать с нарочитой строгостью: – Полуношник. Ждала-ждала и – уснула.
– Сегодня вечером тебе не придется меня ждать, – заявил он с интригующей значимостью. – Что мне немцы! Сбегу от них к моей любимой фее.
– Посмотрим. – Надя встала и, поправляя волосы, напомнила еще раз: – Ступай. Нехорошо.
Тариэл Хачури был в милицейской форме, но без головного убора, что делало его менее строгим; он сидел за небольшим столом в просторной кухне и переговаривался с матерью Виктора, которая готовила кофе – приятный аромат струился от плиты.
– Моя милиция меня бережет, – заговорил Виктор шутливым тоном. – Чем же я провинился, брат? Или гости дружественной нам Германии дали за ночь деру?
– Погоди, сынок, – оборвала мать, ставя на стол кофейные чашки и блюдца. – У Тариэла очень важный разговор. – Она стала разливать кофе.
Мужчины пожали друг другу руки.
– Понимаешь, всю ночь проворочался, не мог спать. – Тариэл выглядел усталым, как после трудного ночного дежурства.
– Говори, я слушаю, – поторапливал Виктор.
– Этот немец, светловолосый, Конрад, кажется? На того офицера похож. Точь-в-точь.
– На кого? – удивился Виктор, словно плохо расслышал.
– Ну, помнишь, я тебе рассказывал, – громче заговорил Тариэл, и его смуглое симпатичное лицо показалось Виктору обиженно-строгим. – Тогда, в восемнадцатом году, деревню нашу сожгли интервенты. Немецких разбойников вел офицер.
– Ты считаешь, что это тот самый? – переспросил Виктор насмешливо.
– Нет. Ты меня не так понял, – возразил Тариэл. – Тот офицер и этот очень похожи. Как две капли воды. А что, если этот самый Конрад его сын?
– Допустим. Ну и что с этого? Да мало ли кто на кого похож? – Не понятно, с какой стати стал Виктор горячиться. – На свете встречаются даже двойники. У Виктора Гюго есть такое произведение…
– Боже! А если он на самом деле его сын? – вмешалась в разговор мать; она подвинула к Тариэлу поближе небольшую чашечку кофе. – Приехал с каким-нибудь заданием, – стращала она, явно повторяя слова Хачури, высказанные, по-видимому, им до того, как появился Виктор.
– С каким, мама?
– Вот ты и разузнай, – в тон сыну ответила она. – И если что, пусть катится…
– Может быть, у него самого спросить? – не принимал всерьез Виктор. – С каким, мол, заданием изволили пожаловать к нам? Что вас интересует? Ценные руды Кавказа? Стратегические дороги? Военно-Грузинская, Военно-Осетинская? Как отсюда выйти к Черному морю? Пожалуйста! Лучше всего через Ларису, раз-два – и вы в Сухуми. Кстати, ваш папаша, уважаемый Конрад, уже бывал в этом высокогорном селе. И представьте, чудом унес оттуда ноги.
– Ты напрасно утрируешь, братишка, – мягко поправил Виктора Тариэл; он и мать переглянулись, как два заговорщика, единомышленника. – Не исключено, что он, да и его товарищи, приехал совсем не ради нашей кавказской экзотики. И Эльбрус им нужен постольку-поскольку…
– Тогда отменим экспедицию в горы! – кофе остывал, но Виктор даже не притронулся, а лишь смотрел в чашку, в которой исчезла пенка, – Выпроводим их к чертям. Скажем: не видать вам Эльбруса, Военно-Грузинской дороги, побоку достопримечательности. Ауфвидерзейн! Уезжайте!
– Послушай, я тоже даю отчет своим словам, – заговорил Тариэл с досадой, его большие карие глаза смотрели сердито. – Мы тоже не все можем. Буквально в августе подписан в Москве советско-германский договор. И что же? Мы будем тут свою самодеятельность устраивать? Нет, конечно. Программу мероприятий отменять не надо. Никто тебе этого не предлагает. Только будь внимателен, и все.
– Дружба так не делается, Тариэл, – не соглашался Виктор. – Постоянно с оглядкой – так нельзя. Может быть, еще и в туалет водить их за руку?
– Я не думала, что ты такой упрямый, – осудила мать; они с Тариэлом снова переглянулись.
– Хорошо, братишка, попробую по-другому, – вымолвил Хачури уступчиво: решил, очевидно, воздействовать на Виктора иным способом, чтобы убедить. – Как ты думаешь, почему я пошел в милицию?
– Не знаю. Не думал об этом. Мало ли что кому нравится. А на самом деле – почему? – заинтересовался Виктор.
– Потому что своим долгом посчитал! – произнес Тариэл просто, доверительно, и дальнейшие признания его прозвучали убежденнее и весомо. – Клятву дал себе после гибели твоего отца, Алексея Викторовича, который был для меня больше, чем отцом… Это наши милиционеры тогда дурака сваляли. Дали возможность мерзавцу, ярому врагу Советской власти Амирхану Татарханову, разгуливать на свободе. Да и кто тогда служил в милиции? Не было у нас тогда настоящих оперативников. Если честно, мы, комбинатовские комсомольцы, лучше наводили порядок. Нет, Виктор, – добавил он, – ты не подумай, что если я милиционер, то норовлю в каждом иностранном типе увидеть что-то подозрительное. Нет. Просто ошибаться нам никак нельзя. Одна ошибка может потянуть за собой другие. Еще большие. Слишком дорогими бывают потом потери.
Виктор расхотел почему-то возражать; в доводах Хачури он усмотрел много такого, что наводило на тревожные мысли – в каких бы дружественных отношениях ни был Советский Союз с Германией, нельзя забывать: немцы продолжают вести агрессивную войну в Европе. А есть ли гарантии, что завтра, захватив малые государства, фашисты не плюнут на договор и не направят оружие против СССР? Сколько волка ни корми, он в лес смотрит.
Вспомнился Виктору отец. Виделся он с ним редко: вставал утром – отца уже нет дома, ложился – его все еще не было. Приходил с работы поздно, уставал. Забот у него – выше головы: поскорей закончить строительство комбината, начать добычу ценных руд, которых ждет страна, а о самом себе, о семье не хватало времени подумать…
– Мы потеряли самых близких людей. – Тариэл подводил разговору итог. – А если будем все вместе хлопать, как ослы, ушами, то можем однажды лишиться и Родины.
Не выходил из памяти разговор о Тариэлом: нет, Виктор не устраивал за немцами слежек, но время от времени ловил себя на том, что стал придирчивее относиться и к себе, к своим словам и поступкам, и к гостям, молниеносно реагирует на их малейшую неискренность.
Незадолго до восхождения, после плотного завтрака в кафе гостиницы, затеяли оживленную беседу, и возникла она не преднамеренно, а стихийно и сразу же заинтересовала иностранных спортсменов. Заговорили за столом о том, когда зародился альпинизм как самостоятельный вид спорта.
– Как и когда началось покорение Эльбруса? – спросил Карл.
– Год двадцать девятый, век девятнадцатый, – ответил Виктор с улыбкой. – Отправилась экспедиция, но высшей точки вершины достиг тогда один только проводник – кабардинец Килар Хачиров.
– Если учесть, что на этот раз проводником будешь ты, Виктор, – изрек Карл, – то понятно, кому быть наверху!
– Горы есть горы! – вымолвил Виктор, как бы оправдываясь. – У них свой характер, своя проверка человека на прочность…
– Хорошую перспективу нарисовал нам Соколов, – отметил Конрад, сохраняя, однако, внешнее спокойствие.
– Восхождение на Эльбрус – это школа мужества! – сказал с пафосом Виктор. – Лишь покорив самую высокую кавказскую вершину, можно мечтать о Тянь-Шане, Памире, Гималаях.
– Виктор нас вначале ошпарил кипятком, а потом бросил в ледяную воду, – высказался Конрад.
– Это он закалял нас, как металл, – взял Виктора под защиту Карл. – Скажу о себе – я готов. С тобой, Виктор, пожалуйста!
Комбинат выделил автобус, и после завтрака отправились по Военно-Грузинской дороге. Доехали до Дарьяльского ущелья и остановились. Поднялись к гранитному валуну, называемому в народе «ермоловским камнем». Рассказывали горцы о том, что на этом камне вроде бы русский генерал Ермолов подписал мирный договор с дагестанским ханом. Конрад бросился со своей неизменной «лейкой» фотографировать величественный ледниковый валун.
Что-то вдруг Виктору стало не правиться в поведении гостей: показалось, что они проявляют излишнее любопытство к дорогам, ущельям, рекам, долинам и даже к «ермоловскому камню». Более пристальней наблюдал за Конрадом: каким-то неестественным, нарочитым показалось его веселье, а восторженные слова – не искренними. «Ну что ты носишься со своей «лейкой»?! – хотелось спросить его. – Что ты все фотографируешь и фотографируешь без конца? И то, что нужно, и то, что не нужно, – щелк да щелк. Неужели тебе все это правится? Все интересно на самом деле? Остановись, угомонись…»
– Наш Виктор что-то загрустил, – обратил внимание Карл Карстен на смену настроения проводника. – Свалились мы тебе на голову как снег. А у тебя свои дела. Так?
– Он скучает по молодой красивой жене, – пошутил Конрад.
«И я, оказывается, нахожусь под пристальным наблюдением гостей, – подумал Виктор. – Это надо учесть и быть осторожней».
– Нет, нет, все нормально! И дела, и жена подождут.
И Виктор, взобравшись на скалу, с жаром продекламировал:
Терек воет, дик и злобен,
Меж утесистых громад,
Буре плач его подобен,
Слезы брызгами летят.
– Это Лермонтов? Хорошо! – Карл, видать, был доволен переменой, которая произошла с Виктором.
«Так ли это? – что-то и о Карстене мешало Виктору думать хорошо. – Неужели и у него далекие от спорта задачи?»
Конрад же продолжал самозабвенно фотографировать и восхищенно восклицал:
– Яволь! Очень интересно. Красиво. Зер гут! – Он и Карл свободно говорили по-русски. – Когда вернусь в Германию, – продолжал Конрад, – непременно расскажу своим соотечественникам. Удивительный край! Швейцария. Цюрих. Я сделаю сотни фотографий. Пусть смотрят, как здесь красиво. Зер гут! К вам будут приезжать много туристов.
«А что ты скажешь, чудак, когда мы поднимемся в высокогорное селение Ларису? – усмехнулся про себя Виктор, обретая как бы прежнее, менее настороженное, без подозрений, расположение к гостям. – Наверно, там, в Ларисе, он, Конрад, лишится от сказочного великолепия дара речи: живописнее этого уголка не найти на всем белом свете!»
Проезжая мимо сторожевых башен, Конрад осведомился:
– Я слышал, на этих башнях горцы зажигают костры, когда оповещают друг друга об опасности. Это так, Виктор?
– Да, – отозвался он и спросил: – Вы интересуетесь Кавказом? Бытом горцев, да?
– Кавказ – удивительная страна! – неопределенно ответил Конрад.
Вернулся Виктор с гостями довольно поздно; задержаться пришлось и в гостинице.
– Виктор, я никогда не забуду эту поездку, – произнес Карл Карстен с искренним восторгом; он, будучи навеселе, неуклюже топтался перед ним.
Дело в том, что в животноводческом совхозе имени Алексея Соколова, куда Виктор возил во второй половине дня немецких спортсменов, встретили их по горскому обычаю, не только хлебом и солью. За столом ходили бездонные рога, одним из которых можно было напоить, пожалуй, сразу всех гостей. А тут требовалось осилить одному – класть на стол нельзя, пока не выпил до дна. К таким дозам, естественно, немцы не были привычны и быстро захмелели.
В гостинице каждому гостю хотелось сказать Виктору что-то приятное; подходили к нему, торжественно пожимали руку, благодарили за приятно проведенный день.
– По-кавказски! Зер гут!
И конечно, клялись в дружеском расположении к нему.
– Виктор, – трезвее других был Конрад, – скажи, Алексей Соколов – твой папаша? Он – герой революции? Наверное, очень приятно бывать в том хозяйстве?