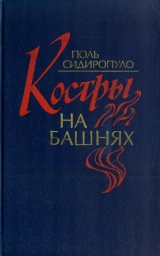
Текст книги "Костры на башнях"
Автор книги: Поль Сидиропуло
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Глава седьмая
Еще немало дней и ночей продолжал вести бои батальон Виктора Соколова вместе с другими частями дивизии на подступах к высокогорному селу Лариса, сдерживал натиск противника, чтобы не пропустить его на помощь заметно поредевшей дивизии генерала Вальтера Блица.
Виктор уже забыл, когда спал более десяти – пятнадцати минут кряду. И когда поступила долгожданная передышка, решил отоспаться как следует. Вот только повидает мать! Может быть, за эти дни, что они не виделись, хоть что-то ей стало известно о сыне и Наде…
Зангиев не думал, что основные неприятности ожидают его впереди. Насчет гангрены он услышал еще раз в медсанбате от Елизаветы Христофоровны Соколовой. Какое, говорила, мол, счастье, что вовремя доставили тебя к нам, а то бы не миновать заражения крови… И Соколова сделала немало, чтобы не случилось беды – иначе пришлось бы отрезать руку.
Первые три дня были, пожалуй, самыми трудными и опасными: донимали боли. Пули, а их было две, прошили, очевидно, не только мякоть, но задели кость. Не отпускала и высокая температура, неделю он не мог вставать с койки вообще.
А когда Махар наконец поднялся с постели и направился на улицу, чтобы посмотреть на белый свет, подышать свежим воздухом, он тут же, у дверей, столкнулся носом к носу с Прохоровым.
– И ты здесь? – удивился Махар и обрадовался одновременно: будет с кем поговорить, время скоротать.
– Да вот, не думал, что задержусь здесь так долго, – недовольно ответил Прохоров. – Пуля задела кость, представляешь! Плохо заживает. А так по ребятам соскучился! Как они там?
– Как на войне, – сказал Махар без хвастовства. – Жарко было. Дали мы фрицам. Но и у нас потерь – ого-го… – Он указал глазами на свою руку, которая покоилась на перевязи. – Если ты еще денька два проторчишь здесь, вместе отправимся в батальон.
– Ну гляди-ка, раздухарился, – усмехнулся Прохоров. – Елизавета Христофоровна тут такие строгости навела, что не так просто выписаться. Она, дружище, ни на какие уговоры не поддается. Пока, говорит, твердо на ноги не поставит. Думаешь, я ее не просил? Сколько раз. Нет, ни в какую не соглашается.
– И я это почувствовал, – приуныл Махар. – Сбежать, что ли?..
– Думаешь, я не пытался.
– Она душевная женщина! Что, не поймет?
– И я про то толкую, Душевная. Спать не будет… И потому не отпустит, пока не долечит до конца.
И все-таки Махар решил попытаться. Дня через три, когда уже мог слегка шевелить пальцами раненой руки, пошел к Соколовой. И начал издалека: сказал, что чувствует себя очень хорошо, никаких болей в руке не ощущает. И рассчитывает скоро вернуться в строй. Но ничего конкретного она, однако, ему не сказала – время покажет.
Махар приуныл. Что ему делать долгими днями и ночами в медсанбате? Хоть караул кричи.
Прошло еще несколько дней. После долгих раздумий он пришел к выводу: надо готовиться к побегу. Узнают, что с ним сделают? Простят наверняка. Каждый боец сейчас в строю нужен, А приняв решение, направился к Прохорову в палату, которая находилась в крайнем домике села. Может, он составит ему компанию и они сбегут отсюда вместе?
Саши Прохорова на месте не оказалось. Никто не знал, где он, сказали: куда-то вышел. Далеко уйти он не мог, и Махар отправился на поиски.
Погода была солнечная, стояли погожие осенние дни. Ноги сами понесли знакомой тропой вниз по ущелью. Махар вспомнил, как однажды вместе с Асхатом и Прохоровым шли здесь выяснять, кто зажигал костры на сторожевых башнях. До чего же он тогда обрадовался, когда увидел Заиру. Полжизни отдал бы, чтобы вновь повидать любимую девушку!
Он не заметил, как удалился от села; думал о Заире, о том, как у них сложится жизнь, когда кончится война и они поженятся. О плохом думать не хотелось. Он невольно представил себе, будто спешит к ней на свидание. А что? Разве нельзя это сделать? Три-четыре часа быстрой ходьбы, и он окажется рядом с любимой девушкой. На самом деле, может быть, рискнуть? И угодить фашистам в руки? И опозорить себя и весь свой род? И Заиру? Жар ударил в лицо. Но ведь совсем не обязательно он должен попасть в лапы к фашистам! Неужели не сможет перехитрить фрицев? Вон девчонки бычка смогли увести из-под их носа, а он, боец, участвовавший в сложных боевых операциях, не проведет их вокруг пальца?! Дождется в подлеске ночи, а уж потом незаметно проскользнет знакомыми улочками родного города.
Заманчиво, да разве суждено такому осуществиться? Первым, кто осудит – брат Заиры, и не пожалеет для этого суровых слов. «Ты знаешь кто? – скажет он. – Ты – самый настоящий дезертир!» До конца жизни потом не избавиться от его упреков.
Однако, куда это он заторопился очертя голову? Махар остановился. Огляделся. На дне ущелья было темно и тревожно. Он собрался было повернуть назад, но неожиданно чья-то фигура мелькнула меж замшелых валунов. Кто бы это мог быть? Неужели немецкий разведчик? Он присел на корточки. Нужно уходить отсюда поскорее, предупредить своих… Он сознавал, что здесь оставаться опасно, но с места не двигался. Надо же разобраться, кто тут бродит. Может быть, медведь? Ну а если фрицы, то надо выяснить: сколько их и куда они направляются?
Кругом было тихо, никакого движения. А что, если они его заметили и затаились, полагая, что и он не один? Как жаль, что он не вооружен! Сейчас бы автомат, тогда бы не страшно.
В зеленой густоте низкорослых деревьев закачалась ветка, вскоре донесся хруст, послышались шаги – кто-то направлялся к Махару, будто наверняка знал, где он притаился. Махар нащупал рукой камень, приготовился к схватке, зорко наблюдая за местностью: где, в каком именно месте объявится противник? Только бы не промахнуться и размозжить башку фрицу с первого удара, думал он, сжимая камень до боли в пальцах.
Неожиданно над пожелтевшей листвой показалась чья-то голова. Махар резко опустился за валун, но при этом крепко ушиб раненую руку и чуть было не вскрикнул от нестерпимой боли. В глазах помутилось. Морщась и стиснув зубы, он попытался все же приподняться. Нельзя было ни на минуту упускать фашиста из виду, а то затеряется промеж валунов, скроется в ущелье, тогда ищи-свищи его.
Голова показалась уже дальше, мелькнула над валуном и исчезла. Уйдет гадина! Махар поспешил вслед. Он по возможности страховался, чтобы не ушибить руку вторично.
Разведчик неожиданно остановился, резко оглянулся. Махар был готов к этому, тут же присел за камень и попытался рассмотреть повнимательнее, кто же это? Что-то знакомое показалось во внешности человека. От такой мысли лоб тотчас покрылся потом. Да это же Прохоров, Сашка!
– Стой, кто идет?! – бросил Махар с шутливой бодростью. Столько перенервничал за эти несколько минут, душу захотелось отвести. Однако не подумал, что этим криком своим может напугать приятеля.
– Ты? Ты что здесь делаешь? – Лицо Саши было бледным, он держал пистолет, и кажется, еще какой-то миг – и выстрелил бы.
– Не узнал, что ли?
Прохоров молчал и смотрел на него злыми глазами.
– Что с тобой? – удивился Махар. – Или ты подумал, что немец?.. Да я и сам тоже…
– Ты следил за мной? – оборвал Прохоров.
– Просто подумал, говорю тебе: что тут фрицы делают?
– А здесь как оказался?
– Тебя искал. Думаю, дай-ка пройдусь. Помнишь, как мы шли тогда? Ты отстал, а Асхат меня ругал, как будто я тебя оставил одного в лесу…
Махар замолчал, ему показалось, что Прохорову про это неинтересно слушать, глаза его кого-то искали, словно Зангиев был не один.
– Если честно, что мы знали друг о друге до войны? – заговорил Махар о другом. – Асхат день за днем пропадал в горах. Я – за баранкой. А ты… ты вообще приезжий. Да что говорить. У всех хватало дел. Не встречались, не дружили. В бою… Хочу сказать, здесь, в горах, и одного часа хватит, чтобы узнать человека…
Прохоров, кажется, пропускал доверительные признания Зангиева мимо ушей. Он словно чего-то ждал, осматривался с подозрением, все не верил: один Махар явился, либо еще кого-то привел с собой…
– Зачем я тебе понадобился? – сухо спросил Прохоров.
– Думал, денька через два сбежать к товарищам. Сколько тут валяться на койке! Может, компанию составишь?
– Ты хочешь сказать, что уже поправился? – Прохоров указал на окровавленный бинт на его руке.
– Так сейчас саданул, представляешь. – Махар поморщился, стал растирать руку повыше раны, но боль не проходила, а скорее нарастала. – Вот не повезло. Теперь придется немного переждать.
Зангиев приуныл, чувствуя, что наверняка ожидает его неприятный разговор с Елизаветой Христофоровной. Что он ей скажет в оправдание? Может, на перевязку не ходить? Предупреждала ведь настоятельно быть осторожным. А он? Достанется теперь от Соколовой. И поделом. Столько внимания ему уделяла, старалась.. До чего же он незадачлив. И угораздило его идти искать Прохорова. Тоже мне следопыт, лазутчика обнаружил.
Саша пропустил вперед Зангиева и, чуть отстав, пошел за ним Он быстро спрятал в карман бушлата пистолет, но руку оттуда не вынимал.
Перешли ров, стали подниматься по порогам ущелья.
Махар только теперь подумал: «А Прохорова-то что привело сюда?» Он обернулся и сказал:
– Я знаю, почему ты испугался. Ты ходил в город.
– Ты что? Спятил! Туда не пройти.
– Брось! Что я, по-твоему, трепаться всем буду? Что, не понимаю: за такое по головке не погладят. А ты знаешь, и я хотел было… – Он смутился. – Но не решился.
– Ладно. Только смотри никому! Идет?
– Можешь не предупреждать. – Махар пошел дальше.
Его знобило. Захотелось поскорее к медикам, в палату. Он чувствовал, что еще немного – и силы покинут его.
Ночью у Махара поднялась температура, он терял сознание, бредил. Елизавета Христофоровна не отходила от его койки. А если и отлучалась, то ненадолго.
Пришел проведать мать Виктор. И застал ее у койки Зангиева.
– Что с ним? Говорил, что у него все нормально…
– Все шло хорошо. – Она и сама была удивлена. – Рана, не поверишь, заживала на глазах. Он даже пытался упросить меня, чтобы я его отпустила в батальон. И вот, пожалуйста, – развела она руками. – Буквально за час какой-то произошла такая перемена… Упал? Ушиб сильно? Спрашивала я его, а он молчит, виновато прячет глаза, а сам едва на ногах держится. Я уж, грешным делом, знаешь о чем подумала? Не пытался ли он сходить в Терек?
– Погоди, мама. – Истинный смысл слов ее, похоже, только теперь дошел до Виктора. – Ты что-то путаешь. Парень он дисциплинированный. Уж я-то знаю Махара! Не может быть, чтобы он…
– Стала бы я наговаривать на парня!
– Он сам в этом признался?
– Он такое в бреду говорит – диву даешься. – Волнение матери передавалось и сыну. – И за немцами гнался, – продолжала она, – и от немцев убегал. И Прохорова высматривал… Винегрет полнейший. А может быть, он с Прохоровым ходил?
– А почему Прохоров еще здесь? – Виктор посмотрел на мать усталыми, покрасневшими от бессонных ночей глазами.
Она ответила не сразу, словно сомневалась в том, надо ли говорить сыну о своих медицинских делах.
– Рана у Прохорова то заживает, то опять кровоточить начинает. Ничего не пойму. Решила оставить, пусть окончательно заживет…
– Ты педантична, мама. – Виктор и сам не ожидал, что невзначай больно заденет ее.
– Мало хорошего в том, что тебя, недолеченного, поспешили отправить на фронт! – сердито вымолвила мать. – Еще неизвестно, чем это может кончиться. И по сей день хромаешь.
– Не сердись, пожалуйста, – улыбнулся Виктор. – Устал я от всего. Сегодня высплюсь. И все будет как надо. И прихрамывать перестану.
– Это неплохо, что шутишь. А между тем вид мне твой очень не нравится.
Скала угрюмого Казбека
Добычу жадно сторожит,
И вечный ропот человека
Их вечный мир не возмутит.
Вспомнились Виктору последние строчки из «Демона», и произнес он их в меру торжественно, но не во весь голос, а шепотом, чтобы не разбудить раненых. Елизавета Христофоровна воздержалась от дальнейших упреков, и они оба помолчали. Вспомнили, как Виктор долгими вечерами читал матери стихи Лермонтова, рассказывал о его жизни. И ей он привил любовь к поэту, и она стала брать на ночные дежурства с собой сборник стихов…
Голос Зангиева вывел их из задумчивости.
– Заира! – Махар порывисто оторвал от подушки голову, заговорил в бреду поспешно и тревожно: – Ты не подумай – я не трус. Все равно приду к тебе. Вот увидишь. Клянусь! Прохоров? Ну и что! И я смогу. – Лоб парня покрылся крупными каплями пота. Он замолчал внезапно, провел языком по сухим, потрескавшимся губам и, чуть приоткрыв глаза, вымолвил беспокойно: – Фрицы! И сюда пробрались лазутчики. У-у, гады! Ищете лазейку? Я вам покажу. Вы у меня найдете. Там ров, ага. Бросайтесь. Это ты, Саша? Стой, кто идет? Да ты что? Не узнал? А что у тебя в руке? Пистолет? Откуда? Трофейный? Будешь стрелять? Испугался? Чудак. Шуток не понимаешь. Нет, не выдам. Не бойся. Ты на Кавказе живешь. А не там… Кто мы? Друзья. Дружны, как пуговица и петля. В бою можно быстро разобраться. Меня не надо проверять. Да. Ты молодец. Ты пошел. А я – думал. Ничего, пойду. Вот увидишь, Заира. Все равно приду к тебе. Подожди. Скоро, очень скоро…
Виктор слушал с настороженным вниманием. Махар произнес еще несколько невнятных слов и смолк. А комбат продолжал напряженно думать, пытаясь по этим отрывочным фразам представить, что же могло произойти с Зангиевым.
Лиза подошла к койке, осторожно вытерла бинтом влажный лоб парня и сочувственно вздохнула.
– Боже! А если бы попался немцам! – обронила она. – С такой-то рукой, что бы он сделал…
– Махар вернулся в палату один? – спросил Виктор, стараясь скрыть от матери волнение. – Или его привел Прохоров?
– Я не заметила, когда он вернулся. Меня позвала медсестра к тяжело раненному… Говорю тебе, сынок, Махару было хорошо. Даже на фронт рвался. И вдруг потерял сознание. Когда пришел в себя, спрашиваю: что с тобой? На рану показывает. То ли он упал на раненую руку, то ли… – Лиза перехватила взгляд сына. – Ты считаешь, что они подрались?
– А ты как считаешь?
– Думаю, что нет. Но ссора была. Ты ведь слышал, что Махар говорил.
– А из-за чего?
– Вообще все довольно странно.
– А Прохоров к тебе не подходил? – Ему вдруг почудилось, что мать от него что-то скрывает.
– Нет. – Мать смотрела на него с удивлением. – Ты считаешь, что ему нужно было подойти ко мне? Он мог что-то прояснить?..
– Плюнь. Не ломай голову. – Виктор решил переменить тему разговора, чтобы мать ничего не заподозрила. – Повздорили – помирятся. Не до мелких теперь ссор.
– Да, конечно, – согласилась Елизавета Христофоровна. Она снова подошла к Махару, постояла над ним. – Дышит ровнее. К утру ему будет легче. И ты, сынок, иди спать. Или опять тебе уходить? – спросила она и поглядела на него с нежностью и сочувствием: не раз уходил он неожиданно.
– Говорю тебе, сегодня надо выспаться, – в меру бодро ответил матери Виктор и поделился: – Скоро будут вас отсюда переселять.
– И нас тоже? – Легким движением руки Лиза указала на койку, на которой лежал Махар.
– Всех, мама.
– Так осложнилось положение?
Виктор помедлил с ответом. Часа два назад командир полка сообщил неприятную новость. «Дела внизу у нас скверные, – сказал Ващенко. – Фашисты продвинулись на юг. Бои идут уже под Нальчиком. Командование Северной группы считало, что гитлеровцы нанесут основной удар под Моздоком, а фашисты начали новое наступление на нальчикском направлении. Враг в этом районе сосредоточил две танковые дивизии, а в тридцать седьмой армии – ни одного танка… Судя по сводкам, поступающим оттуда, день за днем танковые части противника при поддержке авиации наносят мощные удары по нашим войскам».
Ничего этого рассказывать матери Виктор, разумеется, не стал.
– Приказано эвакуировать. – Он не стал говорить о том, что помимо местных жителей, а их не менее полутора тысяч набирается в небольших селах ущелья, предстоит переправить через перевал несколько сот раненых, более десяти тонн молибдена, двадцать пять тысяч голов рогатого скота.
– Раненые меж собой тут говорили. Немцы, мол, бросают в ущелье большие силы. Пытаются пройти к перевалам и с этой стороны. Я, правда, не поверила, не стала придавать значения. Мало ли кто что говорит. Теперь понимаю…
– Ничего, мама. Погоним еще фашистов. Вот увидишь, погоним.
– Верю, сынок. И отец твой никогда не терял самообладания. «Россию, – говорил, – никогда и никому не удавалось покорить».
Виктор вышел из небольшого помещения медиков. Ночь стояла холодная, совсем как зимой. И она, пожалуй, близится, октябрь почти на исходе.
«Что же там между Зангиевым и Прохоровым произошло?» Не выходили из головы слова Махара. Что-то ведь произошло! Повздорили парни, подрались? Но из-за чего? Нет, тут что-то не так. Но что? Что же могло произойти? Пистолет! Откуда у Прохорова пистолет?
В хорошо натопленной палате его под конец разговора с матерью потянуло ко сну. Сейчас сон как рукой сняло. Он подошел к могучему дубу с широкой кроной, прислонился к шершавому стволу плечом. Присмотрелся к темноте, и не такой уж непроглядной показалась ночь, можно было разглядеть крайние дома села. Вон в тех двух, ближе к соснам, поместили легкораненых. Справа тянется бесконечной стеной каменный кряж, под ним виднеются макушки деревьев. Темной, глубокой ямой зияло ущелье.
Сквозь изорванные легким ветром облака выглянула луна.
«Пистолет… Фрицы…» Виктор продолжал перебирать в памяти бессвязную речь Махара, пытаясь отыскать в словах почти незаметный с первого раза смысл, чтобы раскрыть истинную сущность происшедшего. Разумеется, чего проще – пойти и переговорить с Прохоровым. Но что-то удерживало его от такого шага, наверное, странности в поведении бойца. Почему же он сам не пришел? К нему, командиру. Только ли потому, чтобы не выдавать тайну своей отлучки? Почему не рассказывает, что случилось с Зангиевым, почему в состоянии его здоровья наступило резкое ухудшение?
Из-за дома показался чей-то силуэт. Комбат невольно прижался к толстому стволу дуба, словно намеревался слиться с ним. «Прохоров! Что это ему не спится? Неужели совесть заговорила и решил явиться к Соколовой и рассказать все о происшествии?»
Прохоров постоял несколько секунд, осмотрелся. И неспешно, по-кошачьи бесшумно ступая, направился вниз, в сторону ущелья.
Капитан растерялся: идти за ним или нет? Надо проследить – очень уж подозрительно его поведение. Он решил дождаться, пока Прохоров отойдет подальше и скроется за выступом скалы. Когда он исчез, словно погрузился в яму, Соколов не стал терять время, спустился с крутого откоса, густо заросшего невысокими и пушистыми елями. Прохоров, очевидно, не рискнул идти этим, более коротким, путем, поскольку нужно было подниматься к головному помещению медсанбата, где можно попасться кому-нибудь на глаза. И это показалось подозрительным.
Углубляясь в ущелье, Прохоров продолжал оглядываться.
Неужели уходит? Комбат, держа пистолет наготове, двигался за ним. Может быть, Прохоров и есть тот, за которым охотятся в дивизии вот уже более двух месяцев? Недавно комдив еще раз строго напоминал о том, что снова была перехвачена радиограмма – кто-то продолжает передавать фашистам важные сведения.
Прохоров остановился, будто почувствовал слежку, однако смотрел в противоположную от притаившегося за кустарником Соколова сторону. Может быть, ждет кого-то? Пришел сюда на связь?! Жаль, темно, трудно вести наблюдение. Он напряженно прислушивался, старался поймать малейший шорох, но было тихо.
Прохоров пошел дальше. Соколов немного подождал и вскоре последовал за ним.
За громадным валуном, казавшимся в полумраке ночи замершим медведем, Прохоров задержался. На этот раз оглядываться не стал, повел себя смелее, полагая, должна быть, что здесь, в стороне от села, он в безопасности. Приподнял камень, под которым, видимо, оборудовал тайник, достал какой-то чемодан, потом надел наушники и стал выстукивать ключом точки-тире…
Глава восьмая
Сгустились короткие осенние сумерки, потемнело на дворе и в доме. Прохладно, как перед снегом. Маргарита Филипповна затопила печь, зажгла керосиновую лампу – тепло и свет прибавили ей бодрости. Шумит, закипая, чайник.
– Господи! Как мало человеку надо, – сказала она.
Сели за стол ужинать, чай пить. К Маргарите Филипповне пришла учительница младших классов Таня Семенюк, по мужу Прохорова. Скучно ей одной в четырех стенах, время от времени приходит к сослуживцам, чтобы душу отвести. Невысокая, круглолицая, никогда не унывающая женщина. Любит пошутить и легко воспринимает шутку. Девчонкой, бывало, частенько опаздывала на уроки, за что подначивали ее сверстники. Да и теперь они, повзрослев, напоминали при случае, шутки ради, о том, как она постукивала в дверь класса и невинно переступала порог. Ее так и прозвали: «Тук-тук-тук, к нам приходит Семенюк».
– Ты что поспешила поменять фамилию? – выспрашивала Маргарита Филипповна гостью, а сама посматривала на Надю, сидевшую сбоку, молчаливую, притихшую от навалившихся на нее неприятностей. – Иначе скажи, чего ради выходить было замуж за нелюбимого? Так я говорю или чего-то не понимаю? Или боялась остаться в девках?
– Ой, не знаю, – разрумянилась смущенная Таня. – Может быть, и так – не по любви, а может быть, и этак. Просто стало жаль мне Прохорова. Разве вы не видели? Какой-то он такой был обиженный, что ли, бездомный…
– Почтительно здоровался со мной, наклонял голову, – напомнила Маргарита Филипповна.
– Что хорошего он видел в жизни? – оживленнее добавила Таня. – Все по общежитиям скитался. И на Урале, да и здесь. Ни кола ни двора. Никого у него. Подумала, подумала: эх, была не была! Доброе дело сделаю. Если любит – пусть. Говорят ведь, сделай добро, и оно окупится сторицей… – Последние слова Таня произнесла с игривым пафосом, чтобы придать своим уж слишком обнаженным откровениям несколько забавную окраску. – А что – боялась и в девках остаться!
Много трудного, безрадостного выпало на долю каждого из них в последнее время, не хотелось и в этот вечер друг другу портить настроение, томить печальными известиями, которых и без того через верх. Лучше вспомнить что-либо приятное. Именно с таким намерением явилась Таня в дом женщины, которую уважала за простоту и доброту еще со школьной скамьи. Она сразу же, с того самого момента, как только переступила порог, распахнула настежь дверь и вымолвила с веселой таинственностью: «Тук-тук-тук, к вам явилась Семенюк», чем вызвала у Маргариты Филипповны улыбку.
Но молчаливой и печальной оставалась Надежда, и ничто, кажется, не могло вывести ее из угрюмого состояния. Товарки уверяли ее, что все может измениться, важно, чтоб ве теряла надежду – кто знает, может быть, фашисты намеренно пугают население города этим самым зловещим угоном детей. Никто добровольно не идет к ним работать, вот и негодуют оккупанты, стращают, чтобы ради детей своих шли на уступки.
– Но откровенно говоря, мне нравился совсем другой парень, – продолжала с шутливой простотой Таня. – После десятого класса он уехал учиться в Ленинград. И больше не появлялся в Тереке. Вы его помните, Маргарита Филипповна…
Надя слушала и порой не слышала, о чем говорит Таня Прохорова, – мимо ушей пропускала незамысловатые признания простодушной говоруньи и думала о своем. «Господи! Что же это было со мной? Если бы не Маргарита Филипповна, кажется, натворила бы в безумстве непоправимых глупостей. Вот дура! Ополоумела от страха в тот миг, кинулась на грудь к Азамату». А он решил воспользоваться ее беззащитностью. Ее спасительница появилась в темных сенях тогда, когда Азамат прижал Надю к груди и стал порывисто целовать ее в шею, в щеки, в губы, а руки его блудливо шарили у нее за пазухой, мяли груди. Она спохватилась и пришла в себя, лишь когда Маргарита Филипповна грубым голосом осведомилась:
– Где это ты запропастилась, голубушка?
И, увидев Татарханова, певучим голосом договорила:
– А-а, у нас, оказывается, гость? Это ты, Азамат Рамазанович? Проходи.
В темноте она не заметила бледного лица Нади, ее растерянности. Пригласив гостя в комнату и отворив перед ним пошире дверь, Маргарита Филипповна пошла вперед, как бы показывая дорогу. А за ней Азамат, поправляя длинные черные волосы.
Надя вышла во двор, чтобы прийти в себя. Еще горше сделалось на душе: к острой душевной боли прибавилось неприятное чувство гадливости, самой вдруг стало противно. Она расплакалась. Затем умылась под краном холодной водой: Никак не хотелось идти в комнату. При одной мысли, что она покажется Азамату на глаза, увидит его – ее бросало в жар.
«Господи! Как же это могло случиться? Как я такое допустила?» Она тянула время, хотя нужно было идти укладывать сына спать. Наконец пошла. Маргарита Филипповна звала к чаю, но Надя отказалась, сослалась на то, что разболелась голова. Лежала в соседней комнате рядом с сыном, прижавшись к его теплому телу, и все не могла успокоиться. Щеки горели, словно отхлестали ее по лицу крапивой.
За ночь она просыпалась не раз, не раз в темноте ругала себя: «Да возьми себя в руки! Расправь плечи! Не можешь за себя постоять?!» Утром встала с твердой решимостью отправиться в школу – да, да, и она будет вести уроки литературы.
– Вот так бы давно! – одобрила Маргарита Филипповна.
Надя вошла в класс к ребятам – ни тени печали на лице. Стояла тишина, мальчишки и девчонки точно почувствовали, как непросто вести урок учительнице в оккупированном городе.
– Дорогие дети! – сказал Надя но возможности твердо, хотя до конца ее смогла подавить волнение. – Я вам расскажу о нашем замечательном, самом дорогом для всех советских людей писателе, основоположнике нашей многонациональной советской литературы Алексее Максимовиче Горьком.
Надя достала из портфеля портрет писателя и повесила на доску. Наверно, еще никогда прежде не затихал так класс, не слушали учащиеся рассказ учителя с таким сосредоточенным вниманием. Горло Нади неожиданно перехватили спазмы. До чего же родными показались ей дети! Кажется, бросилась бы она к ним, обняла, расцеловала каждого.
С трудом справившись с собой, она сказала:
– Мы не раз будем обращаться к творчеству писателя. Обещаю рассказать вам о нем более подробно, когда наша Красная Армия разобьет врага. А сегодня…
Ей захотелось рассказать о повести «Мать», о произведении, по ее глубокому убеждению, не только возвещающем в рождении революции в России, но и по праву являющемся одним из немногих творений мировой литературы, показавшим, как простые люди из жертв среды превращаются в борцов.
– Герои повести испытывают радость, второго рождения, когда становятся свободными людьми. Да-да, свободными людьми! – Надя выделила последние слова, чтобы заострить внимание ребят на самом главном – враги не могут лишить их свободы. И, вглядываясь в горящие глаза учеников, она продолжала убежденно: – Ниловна и Павел Власов, Рыбин, Весовщиков, Саша, Наташа и другие – это стойкие и отважные люди, взятые из жизни. Ниловна, удивительнейший человек, говорит: «В мир идут дети… К новому солнцу, идут дети к новой жизни…» Из боязливой женщины она становится борцом. «Павел Власов, – писал Горький, – характер тоже не редкий. Именно вот такие парни создали партию большевиков». Владимир Ильич Ленин дал высокую оценку повести: «Очень своевременная». Идеал Горького – это человек с большой буквы, мужественный, щедрый душой…
– «Безумству храбрых поем мы славу!» – процитировала девочка в косичках яростным шепотом.
– «Безумство храбрых – вот мудрость жизни!» – продолжил мальчишка.
– «О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью…»
И другие подхватили дружно:
– «Но будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света?»
На третий день Наде вручили повестку. Вначале ей показалось, что ее вызывают в комендатуру по поводу урока. «Неужели кто-то на меня донес?» – подумала было она, но тут же осудила себя за такое нелепое подозрение. Оказалось, предупреждали: ее сын, Алексей Соколов, должен пройти медосмотр.
Она отправилась в больницу.
Лучше всего сохранился после бомбежки двухэтажный корпус родильного отделения, укрытый огромными акациями. Наскоро отремонтировав здание, немцы поместили в палатах своих раненых.
Надя прошла по знакомому коридору, здесь однажды вела ее свекровь после того, как среди ночи начались схватки. Где-то здесь, у лестницы, ведущей на второй этаж, ей неожиданно стало плохо. Она вскрикнула от резкой боли внизу живота, и мать Виктора, крепко взяв ее за локти, бережно опустила на скамейку. «Посиди, милая, – сказала она ласково и принялась успокаивать: – Уже скоро, потерпи еще чуть-чуть. Торопится наш малыш». Простые слова, кажется, подбодрили Надю, придали ей сил, и она с благодарностью взглянула на свекровь. И родила очень скоро, и не мучил ее Алексей.
Теперь Надя во второй раз переступает порог этого помещения: в первый – чтобы обрести сына, а теперь здесь у нее хотят его забрать. Сейчас он пройдет медосмотр, и немецкие медики вынесут мальчонке приговор: здоров…
Она вдруг почувствовала слабость в ногах и поспешила сесть на первую попавшуюся в коридоре скамейку, чтобы не свалиться на пол. Но ни на секунду не отпускала руку сына и даже прижала его к себе, будто кто-то норовил его вырвать, увести от нее.
– Сейчас, детка, сейчас пойдем, – сказала она виновато, перехватив его беспокойный взгляд.
– Посиди, мама.
Он уже не спрашивал, куда и зачем они идут, держался по-взрослому собранно и к тому, что нужно пройти медосмотр, отнесся вполне спокойно. Мал Алексей, да все понимает. «Немцы там», – сказал он ей, а следовательно, не в бабушке шли в больницу, а по какому-то другому поводу.
Подошел врач.
– Вам плохо? – Это был немец, хотя неплохо говорил по-русски. Взял ее руку, чтобы проверить пульс.
Надя подняла голову. Это был пожилой седоволосый мужчина, невысокий и плотный. Он подержал ее руку и отпустил, покачал головой: очевидно, не понравился пульс. Да она и сама чувствовала, что вот-вот сердце выскочит.
К медикам она всегда испытывала уважение и относилась с повышенным доверием и сейчас не подумала о том, что перед нею немецкий врач, а не советский, заговорила с ним с чистосердечным откровением, нисколько не думая о последствиях.
– Доктор, хорошо, что вы говорите по-русски. Я бы не смогла объяснить вам по-немецки. У меня несчастье. Нет-нет, я здорова. Сына моего спасите. Если у вас есть дети, вы поймете меня… – Надя оборвала признания, спохватилась, что при Алеше не следовало бы говорить об угоне.
Врач понял, что она остерегается говорить начистоту в коридоре, где могли услышать и другие, повел ее и Алексея к себе в кабинет и там усадил на стул. Прежде чем продолжить разговор, он дал ей сердечных капель.








