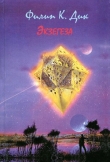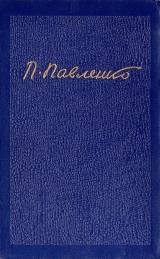
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 38 страниц)
– Палили, палили, все на свете спалили, а на плану Опанаса Ивановича как чудо какое. Вот эта молодежь, – сказала она, касаясь руками яблоневых и грушевых отростков, кустиков шиповника и сирени, обвитых бледными усиками винограда и окруженных перезрелыми зонтиками укропа и перьями лука, – вот эта молодежь одна осталась. Укроп да мы с тобой. Клади свой мешок рядом, потом заплануешь, хату поставишь. Так и начнем. Тут у нас центр будет. От Опанаса.
Они сидели в оазисе среди бесплодной пустыни. Из развалин опанасовой хаты, из битого кирпича, из запущенных и одичавших остатков сада, отовсюду стремилась вверх зеленая жизнь. Семена не хотели погибнуть, они дали ростки. Они тянулись вверх, зовя к себе человека: «На, возьми нас на счастье, развези по селам и полям, прикрой нами обезображенную землю, сделай ее такой, как прежде, нас хватит, нас много на пепелище Опанаса Ивановича, мы вырвались из-под развалин, мы пережили пожары, и мы готовы вместе с вами к дружной борьбе за солнце».
– Неисчезаемый какой старичок! – удивленно сказал Круглов и коснулся рукою трав и цветов, будто это были живые части самого Опанаса Ивановича.
– Неисчезаемый старичок… – повторил он и долго-долго молчал. Ему не мешали.
Потом Ефимов стал помогать мальчику запрягать коней.
– Везде трудно, – сказал он, вздохнув. – Но я где-либо заякорюсь. Чем в Сибирь ехать, я тут где-либо приткнусь… Не рыбачит никто?
– Кто их знает! – сказала Анна Васильевна. – Наших никого не осталось, а чужих я не знаю.
– Найдем, – ободряя себя, сказал Ефимов. – Море наше, значит, и счастье наше. До осени, до дождей, крышу над собой подниму, и дело в шляпе. А весной само пойдет… Так, Круглов?
– Через два года, я тебе говорю, у нас рай вскинется, – сказал Круглов. – Такого раю не было, как будет. Верь мне. Каждая травка в десять соков потянет. Каждый человек в десять хребтов повезет…
Над равниной прозвучал рожок. Анна Васильевна сказала:
– Пошли, Семен. Четверть гектара под картошку пускаем. Замучились ребятки.
– Ну, Круглов, спасибочки, – поклонился Ефимов.
– Ты б остался, слушай, – сказал раненому Круглов. – Ну, куда, спрашивается, тебе итти?.. Я его, – объяснил он Анне Васильевне, – думал к нам на хутор рекомендовать, он, знаешь, кузнец, замечательный… Ну, сам видишь, милый, рекомендовать тебя некому, а если желание есть, оставайся, прокормимся…
– Мне бы к живому месту куда приткнуться, – смущенно сказал Ефимов. – Будь я здоровый, тогда конечно… А как больному человеку, мне поспокойнее где…
– У нас он будет, ничего, у нас будет, – в два голоса разом сказали адыгейцы. – Наши кузнес убили, тоже хороший кузнес, очень замечательный, теперь кузнес совсем не имеем, вот он будет наш кузнес, хата исделаем, жена дадим… Садись, Ефим, садись…
– Ну, тогда ровный тебе путь да легкий ветер, – сердито сказал Круглов. – Жизни везде на всех хватит.
Ночь пришла вся своя, вся для себя. Костры зажечь было неудобно, ни лампы, ни коптилки под рукой не имелось.
Анна Васильевна и Круглов долго сидели одни перед шалашиком и вполголоса, чтобы не разбудить ребятишек (те спали в ряд, на свежем сене), говорили о завтрашней жизни.
Пережитое казалось маленьким, детским по сравнению с тем, что предстояло им пережить. Шла на них жизнь, как штормовая волна, и они спокойно ждали ее живительного и радостного прибоя, чувствуя себя в силах сделать что-то отличное, огромное, чего никогда не сделали бы раньше.
– Теперь плановать хутор будем по-новому, – говорил Круглов, – а главное, сразу сады. Сады и сады, чтоб как в раю.
Анна Васильевна разложила перед ним на обрывке газеты какие-то коренья и травки, и он брал их аккуратно, как куски сахару.
– Рабочие руки надо.
– Будут! Это я на себя возьму.
– И с деньгами тоже мученье может выйти…
– С деньгами, Анна Васильевна, ты не бойся. Главное, сама будь спокойна и действуй. Я, брат, видел, как помогают. Главное, свой план им сразу представить… Вот, мол, и вот, вся картина.
– У тебя, Семен, главное да главное. Одних главных, смотри, сколько набрал.
– А как же! – Круглов перестал жевать. – Теперь наша жизнь из главных дел только и будет, Анна Васильевна. Да-да. Это уж обязательно. Дома будем строить светлые, и сады протянем по улицам, чтоб перед каждым окошком радость цвела, зеленела, чтоб перед каждым окном соловей пел.
Он всхлипнул, но удержался, потому что Колечко укоризненно взглянула на него и покачала головой.
– Перед каждым окном, перед каждым окном свой соловей! – настойчиво повторил Круглов, не показывая, что он взволнован.
Война взрастила в нем могучие силы души, и он не знал, как лучше применить их к делу, но чувствовал, что применит, что теперь он не сможет жить прежней жизнью. Нет, теперь он зарился на всю жизнь сразу и верил, что справится, какой бы нежданно сложной она не была.
– Ты вот говоришь, Анна Васильевна, что ни ночь, а уж из земли Опанаса Ивановича что-нибудь да произросло. Вот так и из меня, растет, растет вверх, к солнцу просится, работы ждет. Война мне годы скинула, а злости прибавила. Рай сделаем, клянусь тебе!
1943–1944
МоскваНемало городов вошло в мою жизнь и оставило в ней свой след, как оставляют живые существа, с которыми ты многое пережил. Каков бы ни был Тбилиси, он навсегда останется в моей памяти городом веселым, озорным, таинственно-сложным, местами сказочным до яви.
Я люблю его душные многобалконные улицы, Куру, проползающую сквозь узкую щель серых скал у Метеха, его сады, его людей, певучих, как птицы, его историю, напоминающую сражение без передышек.
Но как бы ни был Тбилиси близок моему сердцу, он все же не способен заполонить его целиком.
Еще одно любимое существо часто вспоминается мне – и чем далее, тем все чаще и чаще. Это Баку. Вероятно, многим он кажется городом пыльным, душным и малоинтересным, но я в нем жил, я видел его изнутри, я бродил по жирным и мягким от нефти улицам Черного и Белого городов, Сураханам, Балаханам, мок под нефтяным ливнем, встречал свирепый норд-ост на Баклове, и при мне, в мои годы, как существо, идущее мне навстречу, город мужал и в то же время молодел. Старею я, а он все моложе, все ярче, все многограннее. У меня седеют виски, а в Баку появляются сад за садом, бульвар за бульваром, музей за музеем. Кажется, будто город этот живет навстречу времени, не к дряхлости, а от нее – к юности.
Нигде не говорят на таком ярком, во все стороны растрепанном, перекрученном языке, и нигде так дружно не живут люди доброго десятка национальностей, как в Баку. Бакинец – это тоже своего рода маленькая национальность. Азербайджанцы, русские, грузины, армяне, иранцы, лезгины и кумыки, узбеки и туркмены – все находят в Баку и общий язык и общий быт. Это наиболее интернациональный из наших городов, родина удивительных дружб и брачных союзов, город, так много сделавший в годы, когда становилась на ноги партия Ленина – Сталина. Это город страстей, бурных чувствований, смелых дерзаний, город, равного которому нет во всем мире по тому удивительному, только у нас возможному межнациональному братству, которое составляет душу нашего общества. Но и этим городом не заключил бы я списка своих любимых. Мир моего сердца был бы заметно беднее, если бы я не упомянул Владивостока, несколько улиц которого, как бы привезенные из Одессы и брошенные на берег моря, напоминают лагерь путешественников, землепроходцев, исследователей и пограничников. Этот город на берегу океана – окно в неизведанный мир далеких морских походов. Здесь всегда говорят об открытиях и находках, путешествиях и исследованиях. Здесь бродит неспокойный дух открывателей нового.
Но и Владивосток не последний в сердце моем.
Существует Ташкент, город-оазис, самый поэтический из виденных мною городов, на улицах-аллеях которого бурлит ослепительно яркая, своеобразная жизнь.
Я видел Стамбул и Тавриз. Я копался в старых библиотеках Измира, я бродил по бесконечным крытым рынкам Тавриза, но нигде обаяние восточного быта так не трогало меня, как в Ташкенте. Вероятно, это оттого, что в его быту уже горят и переливаются цвета новой жизни. И не случайно, что именно в Ташкенте пережил я первое волнение от эпоса ферганской народной стройки, когда почувствовал я могучее дыхание коммунистического строя, каким он будет завтра.
Да, жизнь моя была бы беднее, не знай я Ташкента, не переживи я в нем счастья быть свидетелем грандиозного движения советских колхозников, движения, открывшего новые возможности трудовому энтузиазму.
Очевидно, города запоминаются, как люди, – по пережитому.
Но в душе моей нет места ни Бухаресту, ни Будапешту, ни Риму, ни Вене, ни Берлину, с которыми тоже что-то пережито, что навек останется в памяти.
Очевидно, города входят в нашу жизнь только тогда, когда они любимы, когда они свои.
И вот, перебирая дни своей жизни, вспоминая улицы любимых городов, события, происшедшие на них, и людей, принимавших участие в этих событиях, я часто ловлю себя на мысли, что, с нежностью думая о Тбилиси или Ташкенте, Ленинграде или Владивостоке, Баку или Киеве, я тем не менее никому из них не мог бы отдать полного предпочтения.
Есть город, который властвует над душой, не терпя соперников, – это Москва.
В нем нет ни поэтической стройности Ленинграда, ни веселого озорства Тбилиси, ни беспокойного духа Владивостока, ни пышных парков Ташкента.
В нем коротко лето и длинная зима. В нем не хватает красок юга. Он деловито-занят по горло. В нем все бежит, спешит, опаздывает и нагоняет упущенное. В нем человек, отдыхающий на бульварной скамейке, производит впечатление не совсем нормального. И все же велико обаяние этого великана. Как все быстро растущие города, он не успевает заняться своей красотой. Он вечно строится, расширяется, меняет обличье, зная, что красивы только города-старики.
Когда-то город этот возник на скрещении рек, на удобных торговых путях. Сейчас к нему ведут другие пути – пути философии, политики, экономики, искусства, наук.
Когда-то говорили о Москве – третий Рим!
Куда там Риму тягаться с Москвой. Зыбкое могущество Рима основывалось на мечах его легионов.
Мощь Москвы – иная. Мощь политического превосходства, мощь пророческого прозрения, мощь руководства будущим мира сильнее меча, если он даже называется атомной бомбой.
Когда-то Москва стояла на равнине. Сейчас эта равнина выросла в громадный утес, с которого далеко видно во все концы вселенной. А ведь ей всего только 800 лет, дитя-город. Но уже и сейчас это столица мира.
Отсюда поступает духовная пища передовому человечеству, здесь рождаются и выковываются идеи, ведущие мир вперед, здесь накопляется великий опыт социализма. И поэтому, где б ни жил я, с какими бы местами ни сроднилась моя душа, ее всегда будет тянуть к Москве. Город-мыслитель всегда окажется победителем в соревновании привязанностей, ибо он – один. Другого такого нет. И не будет.
1947
[История двух рассказов][3]3Название дано редакцией.
[Закрыть]
Зимою 1943-го или ранней весною 1944-го довелось мне в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» быть на одном из подмосковных аэродромов.
С боевого задания возвращалась группа тяжелых бомбардировщиков. Я получил задание побеседовать с экипажами самолетов.
В ожидании прибытия бомбардировщиков, я беседовал с летчиками, свободными от боевой службы. Один из них особенно привлек мое внимание. Высокий, статный кавказец, с лицом пестрым по окраске кожи, как-то неоднородно окрашенным, точно сшитым из лоскутков. С резким, гортанным голосом, с движениями нервными и даже раздраженными, он много рассказывал о боевых делах своего звена. Летчик этот без акцента владел русской речью, его выговор – чересчур твердый, металлический, чуть-чуть неестественный, был очень странен. Я обратил на это внимание его товарищей и услышал в ответ короткую историю моего собеседника.
Год тому назад он был тяжело ранен. Особенно сильно пострадало лицо и горло. Лечение оказалось необычайно сложным. В конце концов после нескольких операций лицо было восстановлено, но облик человека изменился настолько, что даже близкие товарищи не узнавали его. В результате сооружения искусственного горла изменился и голос.
Вернувшись в полк, летчик отказался от отпуска домой. Он был твердо убежден, что даже родная мать не узнает его, и, не желая огорчать больную и старую женщину, придумывал новые и новые отговорки, чтобы подольше не показываться ей на глаза. Товарищи уговаривали его отказаться от этой несколько искусственной и во всяком случае мало душевной позы, но не сумели побороть в нем страха быть неузнанным матерью.
Повидимому, его угнетало и то, что, перестав быть красавцем, он теперь как бы уже не нужен никому из близких людей. Он стал поговаривать, что ищет смерти, не дорожит жизнью. Все это тревожило и друзей и командование.
Рассказ об этом летчике глубоко взволновал меня, но, возвращаясь в редакцию, я пришел к заключению, что не справлюсь со сложной, психологически тонкой темой этого незаурядного жизненного случая и, докладывая о выполнении задания ныне покойному заместителю редактора «Красной звезды» полковнику Карпову, так и сказал об этом.
Несколькими днями позже историю этого летчика рассказал я Константину Андреевичу Треневу, который чрезвычайно заинтересовался темой, а полковник Карпов, не зная, что за нее берется К. А. Тренев, в свою очередь заинтересовал темой Алексея Николаевича Толстого.
Так почти одновременно появились два рассказа: «Русский характер» А. Толстого и «В семье» К. Тренева.
Не зная, что они работают над одним и тем же материалом, авторы решили тему чрезвычайно жизнеутверждающе, оптимистически и, главное, в одном эмоциональном плане. Прочтя оба рассказа, я невольно порадовался тому, что не взялся за эту тему сам. Вместо одного моего, до сих пор уверен, вышедшего бы плохим рассказа, советская литература обогатилась превосходными произведениями двух столь различных по художественным приемам мастеров.
Мне думается, что анализ обоих рассказов представляет незаурядный интерес в плане исследований о художественном мастерстве и стиле писателя.
1948
Литература и действительностьОсенью прошлого года Говард Фаст писал в Москву: «Через несколько недель издательство выпускает мою новую книгу литературной критики под названием «Литература и действительность». Думаю, что она могла бы заинтересовать русских читателей, поскольку она трактует, с американской точки зрения, многие проблемы, обсуждавшиеся у вас за последние два года… Мне очень хочется, чтобы можно было наладить какой-то обмен мыслями между писателями Америки и советскими писателями. Мы ведем сейчас великую борьбу за самое наше существование и, разумеется, надеемся превратить эту борьбу в средства привлечения в наши ряды новых писателей, никогда ранее не выступавших. В свете этого обмен мыслями был бы крайне полезен, особенно имея в виду дискуссии, проводимые у вас».
И вот «Литература и действительность» Говарда Фаста лежит у меня на письменном столе.
Говард Фаст – великолепный прозаик, но он не критик-профессионал, не теоретик, не историк литературы, и его новую книгу – мне кажется – уместнее всего рассматривать не как научное исследование, а как мысли вслух или как вступительную речь, открывающую дискуссию на тему об отношении литературы к действительности. Поэтому и мне не хотелось бы писать каноническую рецензию. Я не профессиональный критик и не умею этого. Мне легче прибегнуть к форме открытого письма или выступления в прениях, в обмене мыслями, тем более что процитированное письмо Фаста с призывом к обмену мыслями адресовано как раз мне.
Дорогой Фаст! Ваша книга представляет, на мой взгляд, явление незаурядное не только в литературе Америки. Выход в свет вашей книги – показатель быстрого роста прогрессивных сил американской литературы. Книги подобного размаха еще не было, насколько я знаю, ни в английской, ни в американской литературах, и вопросы, трактуемые в Вашей книге, никогда еще не ставились с подобной остротой. Ближе всего Ваш труд к политическому памфлету, да и недостатки его весьма типичны именно для памфлета. Поэтому, мне кажется, они легко исправимы в ходе или завершении начатой Вами дискуссии. Я довольно ясно себе представляю второе издание Вашей книги, в котором будет вступление (то, что уже вышло), споры и, наконец, заключительное слово. Книга Ваша на многих своих страницах уязвима с марксистско-ленинских философских позиций, но я бы сказал, что она и не могла оказаться другой. Ставя перед собой чрезвычайно ответственные и сложные задачи, Вы, к сожалению, оперировали на узком плацдарме фактов. У Вас больше догадок, чем знания материала. Вам приходится опираться на довольно ограниченный, а что касается советской литературы, то и не на центральный материал. Основной же фонд национальных литератур, составляющих литературу мировую, Вами, к сожалению, не привлечен к делу. Таким образом, когда Вы сосредоточиваете свое внимание на упадочнических опусах Франца Кафка, Вы остаетесь в узком кругу интересов англо-американского декаданса, а мы, не знающие Кафка, оказываемся безучастными зрителями Вашего поединка. Когда же Вы показываете роль Советского Союза и советской литературы, как факторов, раскрывающих новые перспективы перед мировой литературой, и набрасываете контуры социалистического реализма, Вы, вольно или невольно, отрываетесь от конкретных фактов искусства, ибо у Вас под руками оказывается мало наших книг и мало наших героев, и Ваш страстный панегирик социалистическому реализму страдает обидной отвлеченностью и досадной неполнотой. Вы уговариваете (впрочем, с присущим Вам блеском), а не убеждаете, что было бы гораздо правильнее. Для читателей Франции, Италии, Польши, Чехословакии, Демократической Германии в этом разделе мало знакомого. Между тем любая из литератур этих стран имеет нечто, что она внесла в фонд социалистического реализма. В чем же силы Вашей книги, сила, которую не умаляют никакие недостатки? В том, что Вы смело формулируете задачи, стоящие перед прогрессивными литературами в условиях капитализма, и показываете возможность существования и развития социалистического реализма в капиталистических странах.
Я, к сожалению, еще не читал книги Гунна Томаса, которой Вы уделили большое внимание, хотя слышал о ней много самых разноречивых отзывов. Я помню, еще в прошлом году Вы писали мне, что она «представляет собою прекрасное произведение, имеющее огромное значение для рабочего класса во всем мире», и рекомендовали ее нашему вниманию. Мне почему-то кажется, что Вы склонны к некоторому перехваливанию. Примерно в таких же выражениях Вы отзывались о книге А. Сакстона, когда мы были с Фадеевым у Вас в гостях, а Вы знакомили нас с лучшими американскими книгами последних лет. Будучи вожаком прогрессивной американской литературы, собирателем и организатором молодых демократических сил в искусстве, мужественным борцом за мир, Вы, естественно, стремитесь высоко поднять и поддержать каждую книгу, которая хотя бы в основном отвечала Вашим взглядам на искусство. Это понятно. Но перехваленная книга – пересоленный суп. Все на него набрасываются, и никто не доедает. Даже самые хорошие книги страдают от перехваливания гораздо больше, чем от недооценки, тем более что для продвижения их читателю важнее всего не комплименты, а пропаганда. Но дело собственно не в книге Гунна Томаса. Гораздо важнее правильно проанализировать классическое наследство и определить его роль в воспитании сегодняшнего читателя, а также показать, что произведения критического реализма, то есть произведения, написанные как бы с позиций полуправды или неполной правды, могут быть тоже полезны, могут быть тоже на одной стороне баррикад вместе с произведениями социалистического реализма.
Вы сделали огромной важности дело, заявив во всеуслышание, что вне прогрессивного мировоззрения не может быть большой литературы и что социалистический реализм органически включает в себя партийность, но, мне кажется, что критерий социалистического реализма Вами разработан не вполне достаточно.
Вы говорите, дорогой Фаст, о ростках социалистического реализма. Если то, чем сегодня обладает человечество в области прогрессивной литературы, – ростки, то это во всяком случае, скажем откровенно, ростки Гулливера в царстве лилипутов. Книги М. Горького, Т. Драйзера, Барбюса, лучшие страницы Ромена Роллана, Маяковского, Фадеева, Шолохова, Алексея Толстого, Островского, Анны Зегерс и Бехера, Фучика, Л. Арагона, Говарда Фаста – это ли не плодоносящий сад, плоды которого рассчитаны на все человечество!
Разве Ваши собственные книги только ростки на почве Америки? Разве «Кларктон» – книга только североамериканского коммуниста? А «Седьмой крест» Анны Зегерс – книга только о немецком фашизме?
А «Мать» Горького – разве книга только о русских матерях и русских сыновьях? Разве не воспитала она несколько поколений передовых людей на всех континентах еще до того, как мы сформулировали принципы метода, на основе которого она создана?
Нет, социалистический реализм давно уже вышел ил стадии проб и поисков. Школа инженеров человеческих душ, им воспитанная, победоносно конструирует души на всех материках и на сотнях языков во имя нашего единого будущего.
Но характер роста отдельных национальных отрядов литературы не одинаков, разнообразны пути приближения к идеалу, не однороден творческий опыт, ибо не однородны читательские массы, и Вы отлично поступили, дорогой Фаст, что выступили с книгой, которая, несмотря на спорность отдельных ее положений, может стать и, верно, станет центром оживленного творческого разговора между представителями разных литератур.
Я думаю, что разговор, Вами начатый, будет бесспорно полезен для всех в нем участвующих. Нам всем, идущим плечом к плечу в единой колонне строителей будущего, нужно многое знать друг о друге. Нам, советским литераторам, очень полезно прочесть книгу, она дает нам представление о сильных и слабых сторонах американской литературы, о том, что уже в нашей стране понято и освоено и что еще неясно, туманно и требует углубления.
Я получил от Вас «Литературу и действительность», когда Вы уже начали отбывать тюремное заключение, хочу надеяться, что мое открытое письмо застанет Вас дома, за письменным столом.
Примите наши братские рукопожатия. Мы любим Вас и верим в Вас.
1950

![Книга Из карманных записных книжек [ДО] автора Николай Гоголь](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-iz-karmannyh-zapisnyh-knizhek-do-258489.jpg)