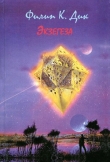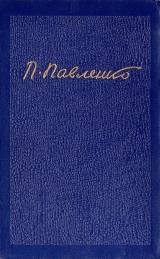
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 38 страниц)
Первая рота, лежавшая ближе всех к немцам, сегодня казалась ему чем-то непрочной, жидковатой.
Сегодня весь день он держался на третьей и поругивал себя за то, что там ее подсменил.
Третья задержала бы до самого вечера.
Он наблюдал в бинокль за ходом сообщения первой роты, проверяя себя.
Раненые – пешком и на носилках – медленно подвигались в тыл. Навстречу им, сталкиваясь в узких местах и, очевидно, бранясь, торопились подносчики патронов.
Вот четверо раненых осторожно вылезли из хода сообщения и прилегли под защитой дубняка. Видно, уговорились не итти дальше, а дожидаться станицы.
«Молодцы!» – одобрил их Игнаткж. Взгляд его привлекло движение в стороне. Что это?
Ползком, с огромными кулями на спинах, по направлению первой роты двигались женщины. Многие из них были с детьми, и дети тоже ползли, волоча за собой кошели и сумки.
«Домой заторопились!» – сказал себе Игнатюк и сразу, вздрогнув, понял, что успех уже надвигается на него, уже происходит, уже начался. Это как в театре, в конце последней картины, когда зрители бегут к вешалкам, зная, что певцам или актерам осталось по два-три слова и потом дадут занавес.
Он ощупал себя – все ли при нем.
Он был одет так же, как Добрых, в расчете на всевозможные случайности обстановки.
«Да, это сейчас произойдет. Нет, не сейчас, но скоро, очень скоро».
Не отрывая от глаз бинокля, он пошарил одной рукой в карманах, ища свисток.
В прошлый раз он замучился без свистка.
В расположении второй роты прозвучал, как вопрос, одинокий выстрел: «Ты кто?» И ему в ответ: «А ты кто?» И еще: «Свой», и в ответ: «А ты свой?» – и затихло.
– Перебежала, судя по всему, – сказал Игнатюк. – Проверьте. – Но тут же начальник штаба сообщил ему, что из роты докладывают: «Девушка перешла».
Когда Ксеня опустилась на табурет в его блиндаже, он позвонил майору Добрых.
– Пришла, товарищ майор, – коротко доложил он. – Да вот, сидит, ничего. Как себя чувствует? Ничего, говорит, хорошо чувствует. Передает вам привет. А? Дед кланяется, да. Карта? Передо мной. Соображаю… Значит, от хаты, что мы с вами пометили номер первый, до хаты номер восемнадцатый у оврага, по западной окраине, расположение стрелкового батальона. Пушек нет. Минометы оттянуты к центру, глядите улицу Пролетарскую – там они. Сильное движение обозов к станции, район оцеплен, но, говорит, поезда идут один за одним. – Игнаткж не засекречивал сообщения, потому что дело решалось десятками минут.
Фотографы поджидали у блиндажа, чтобы сделать снимки Ксени, но уже заранее были недовольны натурой.
– Сюжет прекрасный, но лицо очень невыгодное, требует ретуши.
Лицо Ксени требовало многого, чтобы стать прежним. Оно еще более сжалось, спеклось, побагровело. Такому лицу могло быть и тридцать лет и пятнадцать.
Опустив глаза, пощипывая пальцами выдернувшуюся ниточку на выцветшей юбке, Ксеня тихим монотонным голосом рассказывала Игнатюку положение в станице.
Игнатюк слово в слово передавал майору.
– Дед рекомендует западную окраину. Есть, говорит, проходимость, да… И прямо к вокзалу. Точно. Ага. В таком духе и отвечу… Что старику надо?.. Да все, говорит, имеется… А ее, товарищ майор, надо бы приодеть…
Ксеня исподлобья взглянула на капитана.
– Без вас оденусь, – сказала грубовато и, передернув покрасневшими плечиками, насупилась.
А была она в заплатанной ситцевой кофте, серой полушерстяной юбке и коричневых шерстяных чулках, усыпанных репьями, да в рваных и грязных опорках. Голова была повязана белой, выпачканной в грязи косынкой, и вся она производила впечатление девчонки, на час вышедшей из дому за скотиной и напрасно проискавшей ее в густых зарослях у реки. Ни на кого не глядя, она вертела и вертела ниточку, колечком наматывая ее на указательный палец.
– Передашь деду – совет его примем во внимание, – и добавил шопотом: – Сегодня. Может, отдохнешь?
– Нет, пойду, – сказала Ксеня. – Времени мало. Мне со скотиной вернуться надо.
– Может, я тебе водочки грамм двадцать пять налью? – заботливо спросил Игнатюк. – Ноги-то, небось, мокрые.
– Нельзя, нельзя, – строго сказала Ксеня. – Мне ничего такого нельзя, что не полагается.
Она, очевидно, хотела сказать, что ей нельзя было ни съесть, ни выпить того, чего не должна была есть и пить девочка, посланная матерью за скотиной. Она должна была настолько глубоко и цельно сжиться с играемой ролью, что отказалась и от каши с маслом и от свежего хлеба. Чуть улыбнувшись краешком губ, достала из-за пазухи и показала капитану комок мамалыги, похожий на оконную замазку.
– Вот весь капитал. Ни один немец не отберет. Ну, до свиданья.
– До свиданья, Ксеничка. Ни пуха тебе, ни пера…
Когда она скрылась из виду, Игнатюк снова позвонил командиру полка.
– Замечательная девушка, товарищ майор. Премировать бы ее хорошим костюмом, чтоб глазам радость, да вот взять негде.
– Будет. Я уж командиру дивизии докладывал. У них там ансамбль какой-то, актрисы имеются, рассказали им в общих чертах, так они кто-чего, чуть свое последнее не отдали. Значит, ее, оказывается, встречали в прошлом году, когда ее отец погиб. Она у нас знаменитая.
– Ну, на том берегу, значит, встретимся?
– Либо на том свете, либо на том берегу, – ответил Игнатюк.
– Давай сначала на том берегу.
– Есть, товарищ майор.
Немцы медлили отвечать.
– Вторая! – крикнул Игнатюк. – Вторая, будь ты… Ты что, ужинать собрался, Воронков?
Но уже выкатывалась и вторая.
Орудия немцев, обрабатывавшие дальний участок, вдруг замолчали. «Секунда, другая, и они перенесут свой огонь на батальон», – подумал Игнатюк. Мельком взглянул на небо – наступал золотисто-ровный прохладный вечер при светлом небе. Темнота была далека. Роты, наступая толчками, уже подбегали к середине луга, винтовочный огонь немцев заставил людей рассредоточиться («и чересчур уж, – беспокойно мелькнуло у Игнатюка, – не успеют собраться для удара») – успех решали считанные мгновения.
Орудия немцев, помолчав, снова заработали по соседям. Поведение их было непонятно Игнатюку, но выгодно.
– Третья! Вступай!.. Была – не была!
И, захваченный нервной, быстрой игрою боя, приближающегося к решению, он выскочил из блиндажа, поднялся на патронные ящики и одними движениями без слов, на бегу приказал переносить командный пункт вперед, в первую роту.
Бойцы обеих рот уже штурмовали окопы.
Третья приближалась к ним, заходя под углом.
Немецкие орудия опять замолчали и почти без паузы ударили по дубняку. Заголосили дети.
– Детский сад, ховайся в землю! – прокричали шоферы, хохоча, толкая друг друга и прыгая, кто куда.
Игнатюк побежал, как пловец, отбрасывая руками ветви… За ним торопился с кабелем в руках связист.
У оврага Игнатюк на несколько минут потерял из виду свой батальон, у него защемило сердце.
– Кабеля хватит?
– Хватит, товарищ капитан.
– Не отходят наши, как по-твоему?
– Нет, товарищ капитан.
Задыхаясь, с болью в сердце, он перемахнул овраг.
– Господи, опять нет обозрения, что за чорт!
Он прибавил шагу и, почти не помня себя, выскочил, наконец, из зарослей и побежал яром. Снаряды ложились довольно близко, но Игнатюк не пережидал их – не было времени. Несколько раненых ползло навстречу. Они что-то крикнули ему, но он не разобрал. Только промчавшись мимо, с трудом вспомнил, что ему что-то кричали и, не понимая зачем он это делает, не сбавляя скорости, повернул назад.
– Что, в чем дело? – закричал он, нагоняя раненых, но опять не расслышал, что они говорили.
– А?
– Да вы не бегите, товарищ капитан, там все в порядке, разделка на ять, – наконец, услышал он. Раненый, говоривший это, полз на локтях, вытянув вверх окровавленные кисти обеих рук, будто держа в них блюдо.
– Да ну вас, я думал, дело!..
И Игнатюк еще быстрее заторопился к ротам, которые уже помаленьку выбирались из захваченных ими окопов.
Трое бойцов влезли через окно в крайнюю хату.
– Не то, не то!.. Беги, скажи им – не то… Эй, эй!.. Не ввязывайтесь! Обходите!
– Обходить! Обходить! – закричали раненые.
Кто-то из пулеметчиков, наконец, услышал его и дал короткую очередь, – передние испуганно оглянулись.
Капитан чертил в воздухе замыкающие кривые.
– Обходить!..
И, сразу поняв его, бойцы стали обтекать улицу, перелезая через невысокие плетни. Началась самая сложная стадия боя, когда все люди были в огне и руководить их движением и направлять его издали при помощи обычных средств управления было немыслимо.
События развивались с почти невероятной быстротой, и направленность удара, новый подсобный маневр возникали и осуществлялись совершенно стихийно.
Все равнялось сейчас по головным. Их сметка, глазомер, верная или ошибочная оценка боя были единственным, что направляло силы и отвагу людей.
Игнатюк никак не мог определить, кто впереди, но видел – дело идет. Уткнутся ли теперь люди в какой-нибудь узел сопротивления и начнут медленно и осторожно блокировать его, вместо того чтобы миновать без задержки? Увлекутся ли пленными? Задержатся ли из-за трофеев?
Крик в стороне, выстрел за спиною, чей-то зов в проулке, дым начинающегося пожара могли одинаково привлечь и отпугнуть бойца, и бой начал бы сползать на сторону и уходить от своей главной цели.
Однако пока все шло отлично. Игнатюк добежал до первой станичной хаты, за стеной которой примостился командир третьей роты и, показывая руками, что он не в силах сказать ни слова, опустился на землю, но тут же встал и, шатаясь, пошел дальше, держа руку на сердце. Определив первую, все-таки застрявшую в хатах, он, опираясь на плечо какого-то рядом оказавшегося бойца, добрался до второй, шедшей во главе батальона.
Районный работник в сером свитере с выпущенным поверх него воротничком украинской рубахи, которого он видел у себя в блиндаже, обгонял его.
– Не торопитесь, рано, дайте отвоеваться, – крикнул ему Игнатюк.
– Какое там рано! Вон пожаров сколько! – отвечал тот.
На перекрестке двух улиц бойцы брали куда-то влево. Рядом, на завалинке, командир второй роты разговаривал со старичком в заплатанном грязном ватнике.
– Зачем? Куда? – глотая слова, спросил Игнатюк ротного.
– Засада, товарищ капитан, обтекаем.
– Как установили засаду? Какие данные?
Он присел на завалинку, закрыл глаза от усталости.
– Теперь в три дня не оправишься, все ноги отбил, – сказал он. – Фару! Ничего не слышу. Какие данные?
– Вот товарищ осведомил. Это как раз и есть товарищ Цымбал.
Игнатюк с любопытством оглядел старика.
– Ну, спасибо вам, спасибо. Какое направление дали?
– Я полагал, что к вокзалу всего практичнее. А вокзал как раз там, – сказал Цымбал. – Вокзал возьмем, и станица наша. А то маленько правей забирать стали, к соседям жметесь.
– Тогда пусть третья сразу забирает от околицы к станции, – сказал Игнатюк, и кто-то, видно, связной от третьей роты, побежал передать его приказание.
– Выгоном ей надо держаться в таком случае, – заметил Цымбал.
– Выгоном, через мостик и прямо к вокзалу! – крикнул вслед бегущему Воронков.
– Выгоном! – прокричал и Игнатюк. – Через мост!
Ротный сказал:
– Если б не товарищ Цымбал – побегали бы и мы из хаты в хату, как первая бегает. Чорт ее, всюду стрельба, всюду немец мерещится… Не сразу угадаешь, какое направление взять – а так, со своим регулировщиком четко вышло…
– Обязательно доложу полковнику. Здорово… А это что? – испуганно спросил Игнатюк, заметив группу красноармейцев с мешками на спинах.
– Мои, мои, – успокоил ротный. – Складчишко один прибираем, пока не поздно.
– Дело. Раненых много?
– Есть, – коротко доложил Воронков и сказал заметно оживленнее: – Три пары коней артиллерийских я взял, два миномета, автоматов штук сорок. Котлами разжился, вот чему рад. Эмалированные… Ведер на двадцать каждый…
– Где у них тут склады были?
Цымбал махнул в сторону вокзала.
– Все там.
– Сейчас же обозы подтягивай, слышишь? – сказал Игнатюк Воронкову и поглядел назад – далеко ли первая.
Раненый с перевязанной рукой, прихрамывая на одну ногу, прошел мимо, что-то жуя.
Игнатюк остановил его.
– Стой, стой… Что у тебя?
– Хлебца сладкого добыли, товарищ капитан.
– А ну, отломи.
Хлеб был желтый, с изюмом и на вкус ароматно сладок.
– Это кекс называется, – сказал капитан. – Его с чаем хорошо пить. Сколько получил?
– По целой буханке вышло, – хвастливо сказал раненый. Пятый взвод на четырех буханку делил, а наш взводный сразу махнул по целой.
– Правильный взводный. Ну, счастливо, шагай.
Усталость почти погасла. Сознание работало плавно, спокойно.
– Соседи поотстали, – довольно сказал он. – Так что, слава богу, и цветов некому подносить. Только если вы теперь с обозами, Воронков, проканителитесь, вы мне все трофеи сорвете. Слышите? Передай первой и третьей – меня искать в районе церкви, у станции. В клещи их все-таки возьмем, видно.
– Клещи получаются, – соглашался Цымбал. – Только замкнутся они подальше, за станцией.
– Воронков! Ты со своими на станции не задерживайся. И вообще, кто бы ни подошел, выдвигайтесь за станцию… Ффу, устал я, к чортовой матери… Не люблю я за это атаки, товарищ Цымбал, набегаешься в них, накричишься. Связь имеем?.. Ладно. Докладывайте командиру полка – бой идет на западной окраине, подвигается к станции… Внучка-то ваша как прошла, благополучно? – вдруг вспомнив, спросил он Цымбала.
Тот молчал.
– Где она сейчас?
– Там, – старик неопределенно махнул рукой в сторону все того же вокзала.
– Надо будет и о ней доложить. Вы «за Отечественную войну» не представлялись? Пора, пора… И слушай, начальник штаба, сейчас же запроси списки отличившихся, приедет Добрых или сам командир дивизии, чтоб сразу и доложить. Понял?
Кряхтя, поднялся с завалинки.
– Пойдем, товарищ Цымбал. Часика на два работы хватит, а там закусим, чем бог послал. Мне командир полка за станицу два литра какой-то своей настойки обещал. Он нас таким мухобоем угощает, как только живы, не знаю.
Бой прорвался, как прорывает плотину полая, весенняя вода. Батальон за батальоном и танк за танком входили с разных концов в станицу.
Веселый хмель наступления горячил силы. Победа казалась обязательно впереди, еще чуть дальше, еще в двух шагах. Только смерть могла остановить сейчас красноармейца, который, откинув на затылок шлем, вымазанный в грязи и похожий на печной горшок, распахнув ворот гимнастерки, из-под которой багровела сафьяново-жесткая шея, бежал, сопя, хрипя, захлебываясь вперед и вперед, все вперед, где мерещилась ему вражеская спина, ожидающая штыка.
Танкист, перегнувшись из люка, стучал в окно хаты.
– Дайте проводника!.. Наперерез выскакиваем!
Мальчишка лет тринадцати в коротких штанах, босой, без шапки, вскочил на корпус танка.
– Газуй, командир, прямо, потом скажу!..
Женщина, пряча ребенка в складках широкой юбки, кричала отчаянным, кладбищенским голосом, как кричат над покойником, нараспев, привывая:
– Заразы! Заразы окаянные!.. Немец посеред остался… Ой, душеньку свою загубите, вертайте вправо… немец посеред остался!..
И кто-то огромный, страшный, тяжело топоча сапогами, налетел на нее, она что-то показала ему, и он сразу понял, круто свернул в проулок и хрипло, победоносно, как олень, выкрикнул:
– Ура!.. Выходи!.. Ура, советская власть!
Почти в каждом квартале горело. Тут и там что-то взрывалось. Раненые немцы с помертвевшими от ужаса лицами стояли в свете зарез с поднятыми руками. Человек в сером свитере с белым воротничком, сидя на ученической парте рядом с горящей школой, писал на обороте немецких военных карт (их валялось тут много) объявление к жителям.
Его окружали ребята.
– Кого секретарем завокзального порядка? – спрашивал пишущий.
– Меня, меня!.. Его, его!.. – кричали десятки возбужденных ребяческих голосов.
– А в Приречье кого?
– Меня пошлите! Нас троих!
К пожарам, чтобы быть на виду, подходили и свежие раненые. Их действительно узнавали издалека. Скрипели разбухшие калитки, – хозяйки с глечиками в руках, крестясь на ходу, перебегали уже спокойную, отвоевавшую свою улицу и окружали раненых.
Шоферы трудились над брошенными автомобилями.
Вдруг, среди шума и грохотов, раздавался звонкий мальчишеский свист:
– Сю-ю-да-а!.. Немцы сховались…
Зажав в руке шведский ключ, кто-нибудь из шоферов бросался на свист.
Входили обозы, автомобильные колонны, пешие, конные. У складов появились первые часовые.
Группа пленных проехала на трофейных грузовиках.
– Любители они пленных брать, – удивленно сказал Игнатюк. – Я о шоферах говорю. Конечно, ему легко, брось пленного в кузов – и жми. А вот возьмет немца в плен наш брат, стрелок, – замучается до сумасшествия. Туда – не берут, сюда – не пускают, там – поздно, здесь – пока рановато. Их пока, дьяволов, сдашь, семь потов сгонишь. Ну, конечно, когда большое число, тогда…
Игнатюк и Цымбал вышли на маленькую привокзальную площадь, освещенную двумя пожарами. Она была пустынна, лишь в глубине ее, у разрушенного вокзального здания, лежало несколько тел, издалека непонятно – чьих.
– Вот она, – тревожно сказал Цымбал, – вы интересовались, где внучка? Вот она!
И опередив капитана, он мелкими старческими шагами засеменил к расстрелянным.
Пламя пожара, бросая свет и тени на трупы, создавало иллюзию жизни, фигуры расстрелянных как бы вздрагивали и подергивались в ознобе.
– Не успели, – сказал Игнатюк. – Этого я себе никогда не прощу.
Площадь точно ждала появления людей, имеющих право говорить вслух. От домовых стен робко отделились багрово-черные и ало-сияющие фигуры женщин. Улицы, деловито пробегавшие мимо, тоже как бы все сразу свернули к площади. Стало людно.
Опустившись на одно колено, Опанас Иванович медленно и осторожно стирал с губ Ксени тонкую струйку крови.
Ксеня была такою же, как час назад, у капитана Игнатюка. Чуть побледневшее лицо ее сохраняло выражение взволнованности, губы были упрямо сжаты, и только остановившийся взгляд озлобленно раскрытых глаз нарушал общую замкнутость, собранность и затаенность ее фигуры.
Подъехавший командир полка, майор Добрых, распорядился перенести расстрелянных в вокзальное здание.
Подбежали жители, осторожно приподняли тела. Опанас Иванович, держа в руках окровавленный платок, не двинулся с места. Он только смотрел, как несли Ксеню, и рука его вздрагивала, точно он боялся за каждый толчок.
– Что же ты это, брат, – недовольно сказал Добрых Игнатюку. – Как это случилось, кто видел?
Женщины, обступив майора, стали наперебой рассказывать, пугливо оглядываясь на Опанаса Ивановича. Отправляя последний – под выстрелами второй роты – поезд, немцы из озорства начали загонять в пустые вагоны жителей. Попала между ними и Ксеня.
– Ей бы, конечное дело, смолчать. Поезд и двух шагов не прошел, как вы подбежали, – рассказывала бойкая женщина в изодранном мужском пиджаке. – А девочка возьми да и крикни: «Бейте их, окаянных! В плен берите!» Ну, прямо, знаете, глупость какая-то нашла на нее. Какое тут «в плен», вы сами подумайте… ну, и трахнул какой-то, и всех положил… как это у нее с языка сорвалось…
– Да ведь и сейчас совсем тепленькая, – вздохнул кто-то. – Лобик прямо живой, живой, чуть только похолодел…
Игнатюк скрипнул зубами. Нашли о чем говорить сейчас.
Добрых подошел к Опанасу Ивановичу.
– Поедем со мной.
Старик покачал головой.
– Я тебя прошу, Опанас Иванович. Утром вернемся.
Старик пристально поглядел на майора.
– Ты похорони. Сам только.
– Сделаю. Только поедем, прошу тебя.
– Не проси.
– Я же не могу тебя бросить, Опанас Иванович, поедем, прошу.
– Иди, тебя дело ждет, майор, – и, не выпуская из рук окровавленного платка, Цымбал повернул к станции.
Утром Ксеню и других расстрелянных вместе с нею хоронили без Опанаса Ивановича. Добрых напрасно искал его в толпе. Старика не было.
Длинная мажара, нагруженная свежим, парным после дождя сеном, так остро и душно пахнущим, как никогда не пахнет ни свежая трава на лугах, ни сено, высохшее до полной готовности, медленно двигалась по дороге между выжженных камышей.
Стоял отяжелевший от зноя июльский день, безмолвный, грузный, однообразно светлый, как бутыль с водою. Уцелевшие от огня камышины лениво поскрипывали сухим черным листом.
Семен Круглов сидел, свесив с мажары босые, в блестящих оранжевых пятнах ноги и, только что окончив рассказ о Цымбале, потянулся за табаком.
– Вот тебе и сберег старые корни, – сказал он, но, подумав, прибавил: – А впрочем, на самом деле сберег. Корни-то пошли от него, это нечего говорить.
Невольно вспомнилась ему давняя весенняя ночь, когда бомба разрушила хату Опанаса Ивановича, и он, Круглов, подкатил тогда на мажаре с Саввою Белым, Анной Васильевной и другими, чтобы посочувствовать старику, и это, как он сейчас вспомнил, была его последняя мирная ночь, последняя ночь в родном доме.
Все, что произошло с Кругловым, после, слилось во что-то единое, плотное, как трудовой день без отдыха, за которым только сегодня должна была наступить вторая ночь дома, другая, просторная, даже утомительная своей длиной, но зато вся своя, вся для себя, ночь у себя дома.
Круглов кивнул на двух адыгейцев, пластами лежавших во всю длину мажары.
– Я тогда, как на танки мы с Опанасом Ивановичем в этой пыли нарвались, в обе ноги опален был. Пал с коня, чую – сапоги горят, кожа хрустит, глянул – а то подошки мои хрустят… Я их землей, землей. Кожа лопнула и как тот сургуч, знаете, запеклась, а из меня дух вон… Вот этот, слева который, Шамиль, подобрал меня тогда и довез до госпиталя. Я с ним так и остался у Кириченко, генерал-лейтенанта… где только не были! С Кубани прошлой осенью в горы поднялись, коней дубовым листом кормили… потом окружностью, по грузинской земле, на Каспий нас перебросили, в моздокские степи… Ух, боже мой, я теперь эти степи прямо видеть не могу!.. Ну, а сейчас вот определили меня домой… Отвоеван до последнего. И вот еду, о друзьях-товарищах расспрашиваю… И куда ни сунусь, все о Цымбале и о Цымбале. Не то чтобы по имени его помнили, имя его не все знают, а по делам – он, обязательно он, никто другой… И облик весь его, совершенный портрет, маленький, бороденка железного цвета, очки на носу, глаз острый и разговор, как в театре, чисто, свободно, будто записано все в мозгу…
Один из адыгейцев, не Шамиль, лежавший с закрытыми глазами, а другой, товарищ его, сказал:
– Вид имеет, как воробьей, душа имеет, как орьел, ей-бо, правда. Я такой маленький старичок два раза видел… На Пшипше видел.
Мальчик-возница, кашлянув, сказал, не оборачиваясь к нам:
– Так то, может, майора Богини батька. И я его видел. Он мне еще финку дал, режь, говорит, что ни попадется, за мое здравие.
– И тот воробьиного вида? – спросил собеседник Круглова, тоже, как видно, раненый, с худым прыщеватым лицом, чем-то напоминавшим ощипанного цыпленка. Он был одинокий, родом из Сибири и ехал вместе с Кругловым устроиться где-нибудь здесь, на юге. Круглов обещал его рекомендовать на хутор.
– Кто, старик Богиня?.. Невеликий, да… – отозвался Круглов.
– Середний, – добавил адыгеец. – Середний будет его вид. Тоже кунак.
Круглов рассмеялся, потирая руками свои оранжевые, будто покрытые тонкой слюдой, ноги.
– Знаешь, Ефимов, теперь этих стариков и не разберешь, кто – откуда. Все равно как с хлопчиками. В кажной станице собственный разминёр. Кто чего сотворил, понять немыслимо, а на круг замечательные итоги. Не Пушкин же немцев палил. Нет, наш Опанас Иванович орел, чистый орел. Где-то сейчас он, не знаю. Говорили, на Украину подался.
– Может, то еще и не Цымбал? – вяло, чтоб только не молчать, спросил Ефимов.
– Да что я, не знаю, что ли… – недовольно оборвал его Круглов и, сплюнув, стал равнодушно глядеть по сторонам дороги.
Сквозь черный барьер камышей рябило мутно-голубое небо и черный, крупный, как пух, пепел однообразно вился за колесами, тоже заметно почерневшими.
– Здорово пожег, – сказал Ефимов, слегка толкнув Круглова локтем. – На двадцать лет вам хлопот.
Адыгейцы, приподнявшись на локтях, посмотрели сначала на черную степь, а потом на Круглова. Им не хотелось, чтобы Ефимов был прав.
– Чего, на двадцать? – переспросил Круглов, будто Ефимов сказал не по-русски. – Через два года рай вскинется, попомнишь мои слова.
Ефимову не хотелось спорить. Его подсадили из милости. Он сказал о другом.
– Все-таки держался он, видать, здорово.
Но у Круглова по мере приближения к дому вскипал дух противоречия и упрямства, и чем страшнее ему было приближаться к родному хутору, тем все веселее отзывался он на тяжелую картину опустошения.
– Да, – сказал он, хмыкнув, – удержался, как собака на льду. Наши места, брат, суворовские!
– У-у, здоровый бой тут шел, – сказал мальчик. – Из огнемета они степь палили, все пожгли, ни червя в земле не осталось.
Тут месиво камышей оборвалось.
Мажара, накрывая себя черной пылью, взобралась на крутой пригорок, и небо, как пропасть без дна, разверзлось сразу же за пригорком. Дорога точно свалилась в небо. Не сразу можно было догадаться, что взорам открылось море.
Меж ним, все еще кажущимся нижней частью широкого неба, и путниками лежала пятнистая всхолмленная равнина с трубами и печами вместо построек.
Трубы напоминали надмогильные памятники, да ведь и были ими, печальными памятниками на месте когда-то веселых, нарядно белых хат.
Круглов встал на колени, опершись рукой о мальчика.
– Вот они, наши места, – сказал он, – золотые, суворовские. Ничего, однако, не узнаю.
Вдали, на желтом песке отлогого берега, лежала на боку лодка, полузатопленная водой. Мокрый парус ее играл ветром, и была она удивительно похожа на тонущую птицу, предсмертно бьющую крылом по воде.
И только это было движением.
Все остальное, на чем останавливался глаз, поражало оцепенелой неподвижностью. Ни в чем не было ни движения, ни звуков, ни дыхания. Лишь постепенно привыкнув к мертвенной тишине когда-то населенного места, глаз различал камышовый шалаш вблизи дороги. У входа в него сидела женщина. Перед нею в немецких касках торчали вялые отростки каких-то растений, и она осторожно, будто молясь, поливала их из пол-литровки.
Круглов перегнулся с мажары.
– Да ведь это же!.. Круче сворачивай!.. Вот она вам, Анна Васильевна!.. Милая ты моя!..
И не выдержав медлительности, с какой приближалась мажара, соскочил на ходу и, кряхтя и гримасничая от боли, побежал, будто по горячему.
Они обнялись и, плача, долго разглядывали друг друга, а мальчик-возница и адыгеец, вскрикивая от удивления, то и дело показывали пальцем на то, что нежданно-негаданно открылось им вокруг. Только Ефимов был встревоженно молчалив и не любопытен.
Средь низких, обломанных сверху деревьев, кустов шиповника и ежевики, завладевших бывшими улицами, средь зарослей крапивы и лопуха в рост человека, между гор кирпича, железного лома и деревянного щепья – роилась жизнь.
Все было невысоко еще, как рассада, шалаши и палатки, и люди, и все еще как бы пряталось в сорняках и развалинах, не смея громко заявить о своем присутствии. Жизнь была еще какого-то мелкого роста, ребячья.
– Ай-ай-ай, смотри…
Шагах в пяти от мажары под невысокой жердью лежала дырявая плащ-палатка. На жерди болтался фанерный щиток с надписью «библиотека». И точно – на плащ-палатке были, как на базарном развале, разложены книги.
Куски кирпича лежали сверху на их обложках. Девочка лет пятнадцати с грудой полусожженных и заляпанных грязью книг, молча приближалась к «библиотеке». За книгами стоял продырявленный глобус, маленький фаянсовый бюст Ленина.
Еще дальше, под низеньким камышовым навесом, трое мальчиков прилаживали стол, а дальше и чуть правее мальчик с костылями у плеча, сидя на земле, толок что-то кирпичом на железном листу.
Поодаль обозначались зигзаги пустых окопов, входы в брошенные землянки, абрис взломанного дзота с трубою из артиллерийских стаканов.
– А изменился же ты, Круглов! – сказала Анна Васильевна, качая головой, будто увидела в зеркале собственное лицо. – Крепко изменился. Садись, что стоишь.
Оба адыгейца, Ефимов и возчик, смотрели на них с мажары улыбаясь.
Круглов все время оглядывался, будто поджидая кого-то.
Колечко сказала:
– Не узнаешь?
– Не узнаю, Анна Васильевна, пустоты много.
– На плану Опанаса Ивановича мы. Как раз, где его беседка была в саду, – сказала Анна Васильевна, показывая на пышное буйство трав и молодых кустиков, обступившее шалашик. – Палили они, палили, а опанасову жизнь никаким приемом спалить не могли. Утром встанешь, обязательно что-нибудь из земли показалось, я уж рассаживаю, выделяю – вроде как питомник устроила… А ленинградские говорят, это наш парк культуры и отдыха.
– Какие такие ленинградские? – спросил Круглов.
– Как, кто такие? Помнишь, ребят нахватали мы? Перед самым вашим отбытием…
– Ну да, ну да, – сказал Круглов, морщась, потому что с трудом вспомнил радостную до слез и такую далекую, прелестную картину встречи с детским поездом в день ухода добровольцев на фронт.
– Ну вот, они самые и есть! – сказала Анна Васильевна, кивая на работающих ребят. – Взяли мы тогда их и взяли. А тут немец катит с Ростова. Так?
– Так, – сказал Круглов. – Это я помню.
– Были б свои, так, понятно, и страху нет. А тут у нас Ленинград на руках. Перебьют, думаем, всю мелкоту, на развод ни шиша не останется… Ну, знаешь меня, я как взялась, в два дня собрала ребят, да в горы, вот к ним, – кивнула она на адыгейцев, теперь уже без улыбки смотревших на нее.
– Вы из «Руки прочь»? – спросила их Анна Васильевна. – Ну, точно. Я вас там всех знаю. Сулеймана знаешь? Вот у него мы и зимовались. А третьего дня, под самый-то бой, мы и вернулись. Младшенькие-то со мной, а постарше с гуртом чумакуют, – и она впервые за весь разговор улыбнулась. – У нас свой гурт: две козы да шесть кур.
Круглов, слушая ее, вертел головой, вспоминая прежний хутор. Страшный вопрос, который он боялся задать Анне Васильевне, мучил его.
Он задал его издалека, стороной, как будто то, что он услышит, уже было давно известно ему:
– И там, значит, коло берега, тоже все порушено?
– Ты не спрашивай ни о чем, Семен. Что свои глаза видят, то и есть.
– А мои, мои?.. Анна Васильевна, милая ты моя, а мои? Где же? – и он стал старательно улыбаться губами, чтобы они не дергались.
– Не знаю, родной. Ничего, милый мой, не знаю.
Круглов склонился к траве лицом вниз. Адыгейцы зашевелились, закашляли. Шамиль спросил:
– А наши местность как дело?
– Скрозь так.
Круглов поднялся, стал надевать сапоги.
– Саввы Андреича дубок, что ли, у берега?.. Он все знает… старик приемистый… тут не то что, а хоть бы выяснить, ты пойми… – бормотал он, ни на кого не глядя и все время морщась.
– Слушай, Круглов, – сказала Анна Васильевна, переставив с места на место немецкие каски. – Ты нас тут своими делами не мучай. Нету ничего. И Саввы нету. Понял?.. И у меня ни пуха, и у тебя ни пуха… Я тебя ни об ком не спрашиваю и ты меня ни об ком. Вот одно!.. – вскрикнула она своим просторным голосом, которому тесна была ее грудь, и толкнула Круглова в плечо, и все повернули головы, куда она требовала.

![Книга Из карманных записных книжек [ДО] автора Николай Гоголь](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-iz-karmannyh-zapisnyh-knizhek-do-258489.jpg)