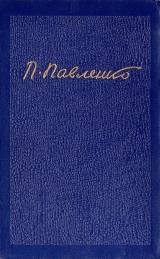
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 38 страниц)
– Ну, бачите!.. Опанас Иванович, Петр, бачите вы, як до меня ребенок прикасается? Он же с умом, слава богу… Казачка я, Мишенька, самая казачка, милок. Со мной не бойся.
И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы поезду не настало время отходить.
Едва оторвали от сторожихи девочку лет восьми, от двух молодых казачек – мальчика на костыле, и они, держась за его жалкий, домашней работы костылик, все еще пробовали уговорить начальство.
Ахая и причитая, Колечко побежала рядом с вагоном, из окна которого выглядывал Миша.
– Казачишко ты мой бесталанный, – кричала она, задыхаясь, и отпихивала руками встречных, чтобы не дать вагону обогнать себя. – Хмелиночка моя бедная… ты гляди, внучек, другим не давайся. Не давайся другим. Приеду.
Когда Миша дружелюбно помахал ей тоненькой ручкой, она остановилась, перевела дух и сказала, повеселев:
– Вот уж и привык до меня, сиротинка… Был бы он румяный, так на что он мне сдался. Я за то и беру, и каждая за то берет, что больной да хилый. А мне чем больней да слабей, тем сердцу верней…
Она помахала рукой вслед поезду, словно погрозила ему и, так как была еще возбуждена, продолжала:
– Мне дай такое, чтоб оно умирало, а вот – брешешь – в моих руках выживет. Живо будет, и сыто будет, и счастье свое найдет.
Она стояла высокая, дородная, и каждый, слушая ее, верил, что в таких могучих руках, как ее, все умирающее обретет силы жить и все несчастье станет радостью.
– А чтоб тебе, Анька! – сказал Петр Колечко и поцеловал ее при всех. – Стара, небога, а за дитей скачешь, як та: молодичка.
– Ты, кума, любого казака стоишь, – сказал Опанас Иванович.
Жаль было только, что ребят все-таки не разобрали по хатам. Было бы в этом что-то необыкновенно доброе и такое же хорошее, как и то, что они сами ехали на фронт.
А Опанасу Ивановичу даже подумалось, что, может быть, он совершенно напрасно едет воевать и, пожалуй, было бы правильнее остаться дома, взять к себе пяток ленинградцев и начать новую семью, какой еще не было.
…Долго ехали казаки молча.
Долго стояла перед их глазами картина детского поезда, и, улыбаясь, они снова переживали и погоню казачек за детьми, и растерянность педагогов, и веселое удивление самих ребят.
Казаки часто отдыхали вблизи ручьев, в тени дубовых деревьев. Трудно было им ехать.
Но трудней, чем старикам, было Ксене.
Они покидали станицы, чтобы разделить боевую славу с товарищами и как бы возвращались к дням своей молодости, овеянной войнами, она же ничего не видела впереди. Все, чем обладала она в свои шестнадцать лет, было дома, при себе, – родная хата, подруги и Коля Белый, без которого жизнь ей показалась лишенной смысла и огня и который тоже самое говорил о своей жизни без Ксени.
Все хорошее должно было начаться именно у себя дома, а не на стороне. Ехать сейчас с дедом – это делать лишний крюк в сторону от своего счастья, – казалось ей.
Кроме того, Ксеня впервые в жизни села на коня, и хотя был он тихий, резонный, ужасно боялась его и слезала не на левую сторону, – как бы должно, а на правую, и повод держала обеими руками, как вожжи, так что дед честил ее всю дорогу, замолкая только на привалах. Что делать! Не для войны растили Ксеню, не для скачек, думали, что, окончив десятилетку, поступит она в сельскохозяйственный институт, чтобы вернуться из него садоводом. Ксеня росла не по казачьему заведению.
Казаки отдыхали часто и к станице, где назначен был сбор добровольцев со всех районов, подъехали в начале вечера, красиво ложившегося фиолетовыми тенями на золотисто-зеленеющие луга и озими.
Станица началась сразу всей полнотой жизни, точно с разбега остановилась на всем скаку, грудью ударившись о берег реки. Не успели казаки миновать первые хаты вдоль шоссе, сразу перешедшего в улицу, как их окружила кутерьма станичного вечера.
Колхозная кузница гремела, что соборная колокольня в праздничный день. Человек шесть кузнецов возились у наковален, поставленных на вольном ветру перед сараем, где багровел горн и похрипывали старые мехи.
– Здорово, земляки! – степенно произнес Опанас Иванович, подъезжая.
– Привет! – ответили кузнецы и разогнулись перевести дух.
– Дня вам нет, что ли, ковать-перековывать?
– И дня мало, и ночи негде занять, – ответил кузнец с черною, обгоревшею по низу бородой и взял с наковальни раскаленную полосу, в изгибах которой уже смутно угадывался будущий клинок.
– Как, товарищи командиры, хороша будет? – спросил он.
Опанас прищурился, чмокнул краешком губ.
– Шашка, милый, это, как говорится, всегда шашка, а лесора – это всегда, милый, лесора.
Казаки засмеялись.
Кузнец взглянул на Цымбала.
– Товарища Цымбала нету с вами?
– Можно и Цымбала: кому нужен?
Кузнец, не ответив, опустил полосу на наковальню и сказал, посвистывая и оглядывая своих:
– Конешно, вам, небось, из музеев шашки понасобирали, а нам, извиняюсь, шесть тысяч клинков не из задницы выдернуть. А позвольте, между прочим, ваш клиночек полюбопытствовать…
– Шесть тысяч! – Цымбал поглядел на своих казаков. – Слыхали, хлопцы? – и ленивым, но четким движением вынул клинок из ножен.
По стали шла фраза золотом: «Врагу страшна, царю покорна».
– Я ж говорил – музейная. Я уж вижу, – восхищенно сказал кузнец, показывая клинок товарищам.
А Цымбал задумчиво качал головой:
– Шесть тысяч!.. Значит, хлопцы, пошло наше дело, пошло и пошло… И десять даст, и тридцать. И боле даст, Кубань-то!
2
В том году нам не везло на фронтах.
Весною неудача на Керченском полуострове.
Опанас Иванович, как услышал о сдаче, слег. За нею беда у Харькова. Летом успех немцев в донских степях, потом потеря Ростова и первые схватки с немцами в станицах Кубани.
Десятки городов и сотни деревень от Воронежа до Ростова попали в руки неприятеля.
Десятки других городов и сотни других деревень оказались вблизи фронтов, жизнь в них нарушилась и остановилась.
Россия была разрублена пополам. Не менее миллиона людей двигалось на восток. Туда же, в Сибирь и Среднюю Азию, вывозили фабрики и заводы.
Гигантский поток людей и грузов, застревая на железнодорожных станциях и речных пристанях, забивая шоссейные дороги брошенными автомобилями и повозками, потрясал людей своей невиданной и неслыханной катастрофою, стихией и обреченностью.
Те, кто наблюдал этот поток, оставаясь на месте, не видел в нем ничего, кроме непоправимой беды.
Так, вместе с тысячами людей, думал и Опанас Иванович.
После своего отъезда из родного хутора Опанас Иванович только дважды получил известия о своих, и это еще более злило и нервировало его.
Наконец, накануне потери Ростова, он совершенно случайно узнал, что Вера, жена Илюньки, ранена и находится на излечении в Батайске, а дочь Клава будто бы с месяц уже как погибла на Волховском.
Сведения эти были частными, и Опанас Иванович все еще верил, что они, как это часто бывает, опровергнутся жизнью.
Вскоре подвернулась командировка в Батайск по делам полка, в котором Опанас Иванович, получив звание лейтенанта, состоял чем-то вроде заместителя командира по хозяйственной части.
В Батайске был сущий содом, когда с Федором Голунцем, Илюнькой и Ксеней Опанас Иванович прискакал туда верхами.
Весь город складывался, грузился, уезжал и уходил пешком. О дочери ничего не удалось узнать. Чувство безнадежности еще более овладело Опанасом Ивановичем, когда он попытался навестить старых знакомых по гражданской войне.
Дмитрий Трощенко, к которому он заехал на дом, сразу даже не признал его, а узнав, дал понять, что не имеет ни минуты времени, ни разу не поинтересовался, каким образом Цымбал очутился в Батайске и почему он в военной форме и где, при каких обстоятельствах ранена его дочь.
То же самое повторилось еще в двух-трех знакомых домах.
Чувство безнадежности, сиротства и затерянности так ослабили его, что он, махнув рукой на старых приятелей, тотчас решил возвратиться в полк.
Теперь у него не было ни дома, ни семьи, ни старых друзей, словом, не было за спиной ни долгой жизни, ни возраста, и ему теперь ни о чем не хотелось думать, кроме войны.
Да и в войне он взял себе за правило думать только о самом необходимом и делать только самое неотложное.
Сейчас перед ним стояло одно настоящее. Он отдался весь ему со всей страстью натуры.
Настоящее его состояло из тысячи мелких дел будничной полковой жизни, забот о фураже, продовольствии, коновязях, вывозе раненых, похоронах убитых.
Под Кущевской полк Цымбала попал в жестокую переделку. Это было первое сражение полка с немецкими танками, кровавое и длительное, изобилующее подвигами старых и молодых казаков. Полк вышел из боя материально потрепанным и численно поредевшим.
Опанас Иванович в этой схватке был, как всегда, занят только тем, без чего нельзя обойтись сию минуту. Иногда это была погрузка боеприпасов или вынос раненых в тыл, но чаще, а может быть, и все время, – возня с людьми, тесное общение с ними, «подправа» их, как он называл про себя. Будто сад в сильную бурю, качались они и скрипели, готовые упасть, – и нужно было иной раз крикнуть погромче, шутливей, сказать что-то ободряющее и послать Кольку Белого именно туда, где ему нужнее всего сейчас быть, а Никифора Колечко, изругав до двенадцатого колена, вернуть назад.
Теперь у него никого не было, кроме полковой семьи, к которой он сразу же стал относиться, как когда-то к своей собственной, – требовательно, придирчиво и сурово.
Сам того не замечая, он был похож сейчас на дирижера, ведущего большой и пока что не очень сыгравшийся оркестр. Нужно было осадить один и выделить другой инструмент, а третий, выходящий из ритма, держать все время перед глазами, чтоб не путал соседей. Он как-то по движениям человека, по лицу его сразу соображал, что тому надо, и казаки, даже те из них, кого первый бой не поверг в беспокойство, то и дело подбегали к Опанасу Ивановичу за советами и указаниями.
– Ловко, ловко, – говорил он одному, вглядываясь уже в другого. – А Супрун-то, Супрун, смотрите… Никифор, беги к полковому. Понадобишься… Илюнька! Штраус! Пиши для газеты Шевченку. Красивый казак, сукин сын… Ты чего же пустой идешь? Вскинь ящик на плечи… Эй, раненый!.. Язык, что ли, отхватило?.. Как там у вас? Чего не хватает?.. Говори громче… Подавай санитаров. Сюда, сюда… Эй, раненые!.. Щей похлебать… Сюда… Грузите, грузите, сынки… Да кой же чорт коней кормит в такой час?.. Да бросьте вы!.. Баланду разводите… Захочешь – на небо вскочишь… Дружней, сынки, дружней… Не падай духом, падай брюхом…
Закончилось многочасовое испытание, и он долго не мог сообразить, сколько времени оно заняло, чувствуя себя докладчиком, нарушившим строгий регламент и говорившим за всех ораторов и оппонентов на собрании, посвященном чему-то большому, сложному, очень запутанному и в то же время необычайно простому, о чем и говорить-то по совести было нечего.
Но по личному опыту он отлично знал, что молодого, необстрелянного бойца нельзя оставлять наедине с собой. Свежая храбрость, думал после боя Цымбал, небрежна и легкомысленна, она не от веры в себя, а от плохого знания трудностей. Свежая робость, наоборот, характерна неуважением к своим силам.
В молодом бойце, отмечал Цымбал, столько же смелости, сколько и трусости, и решительно никогда нельзя предсказать, чего сейчас будет больше.
Молодой боец себя боится гораздо больше, нежели неприятеля, и важно изменить его мнение о своих силах, пусть даже не в ту сторону, в которую желаешь, а, в другую, но обязательно изменить.
А менять можно было, только общаясь, поощряя, браня, подзадоривая или смеясь, то есть все время держа перед ним ту чудодейственную режиссерскую палочку, которую оркестрант не столько видит глазами, сколько чувствует нервами.
И в работе этой Опанас Иванович почувствовал себя сильным. Дело шло к нему.
После боев за Кущевскую полк его, измотанный многодневными боями, отбившийся от своих баз и потерявший связь со штабами, отходил на рубеж степной речки Безымянки.
Следы поспешного отступления оживляли дорогу Усеянная брошенными автомобилями, телегами и ручными тачками, покрытая трупами павших от усталости коней, коров и ягнят, она напоминала разгромленное и брошенное людьми становище.
Праздный степной ветер трепал цветные кромки платьев и блузок, вывороченных из узлов и рюкзаков, и изобилии валяющихся у дороги.
Множество листов исписанной бумаги перелетало по полю, застревая в неубранной кукурузе.
Тут же, у дороги, чернели остатки костров рядом с наспех вырытыми могилами, возле которых еще лежали одеяла, сохранившие следы человеческих тел. Отдых и смерть лежали рядом на привалах.
Как ни старался Опанас Иванович отдалить от себя мысли о происшедшем и ограничить себя полковыми делами, вид степной дороги неумолимо возвращал его воображение к тому огромному несчастью, что неслось по всей стране.
Радио из Москвы, да и все газеты, попадавшие в руки Опанаса Ивановича, в один голос требовали – ни шагу назад, стоять и умереть на месте. Это был приказ самой жизни.
Воинские части отступали, потому что им надо было обязательно выйти из-под удара и соединиться со своими высшими или подчиненными инстанциями. Гражданские обозы двигались еще быстрее, потому что они боялись опоздать и оказаться ближе всех к неприятелю.
Прифронтовые фабрики и колхозы торопились еще более, потому что боялись попасть в водоворот воинских частей и старались эвакуироваться до перегрузки дорог.
И никто не стоял на месте. А между тем простой здравый смысл говорил, что остановиться – это наполовину победить.
Стоял ранний, еще по дневному горячий вечер, когда остатки первого эскадрона под командою лейтенанта Цымбала заняли переправу на реке и приготовились к обороне.
Два других эскадрона с полковым командиром должны были подойти с наступлением темноты.
Кони были укрыты в густых камышовых зарослях, казаки – в неглубоких, наспех отрытых окопчиках, две противотанковых пушечки вкопаны в землю и тоже прикрыты с боков и сверху камышовым настилом. Казаки полоскали портянки, купались, чинили сбрую.
Ксеня с удивленным, растерянным видом бродила вдоль дороги, рассматривая брошенное добро.
Безлюдная степь, как бы обойденная людьми стороной, дремала в летнем, стрекочущем цикадами зное.
Легкий ветер редкими бросками взметал пыль на горизонте.
Каждый раз казалось, что вдали кто-то скачет, но пыль ложилась, а дороги и поля оказывались пустыми, словно никогда не было здесь никакого движения.
– Богатый обмен веществ! – заметил Илюнька, кивая на разбросанное добро. – Зря я, Ксеничка, записался между прочим. И ты зря. Опанас Иванович – тот, конечно, другое дело… Славное море, священный Байкал!.. Минин и Пожарский!.. А я? Я единица научного склада.
Коля Белый неприлично громко захохотал.
Илюнька обратился специально к нему:
– Нет, я вам, Коля, говорю совершенно серьезно – до войны меня абсолютно не тянет, не мой предмет, ей-богу…
Коля, продолжая хохотать, подхватил Ксеню под руку, и они побежали в сторону от дороги, ныряя в ложбинках.
Илюнька сокрушенно покачал головой.
В полдень на полях, среди заскирдованного озимого, появились цветные фигурки девчат, и Опанас Иванович так обрадовался им, что сейчас же послал Ксеню узнать, кто такие, откуда.
Средних лет мужчина в красноармейской одежде скоро спешился у шалашика Опанаса Ивановича. Он слез с седла, опираясь костылем оземь, левая нога его моталась без дела и была короче правой.
– Здравствуйте, товарищ лейтенант, – сказал четко и весело приехавший. – Звание у вас молодое, а наружность, смотрю я, как-то ко званию не подходит.
– Здорово, – ответил Цымбал, не отвечая на вопрос. – Садись, расскажи, кто будешь.
– Председатель здешнего колхоза, Дмитрий Урусов, вот кто я, – словоохотливо сказал прибывший и, ловко орудуя костылем, присел рядом с Опанасом Ивановичем.
– Вы как, на подходе или на отходе? – не без насмешки спросил он, сбивая на затылок выцветшую пилотку и ожесточенно почесывая висок. – Сильно что-то стали отступать… Вчера шли, шли… тысяч пятьдесят… хлеба сколько помяли… придется сегодня заактовать… будь ты неладна.
Подошли командир первого взвода Шевченко, Федор Голунец, Семен Круглов и присели, не торопясь, не вступая в разговор и как бы даже не слушая, что говорится.
Урусов, тоже не торопясь, но емко, содержательно стал рассказывать, что он всего недели три вернулся из госпиталя «по чистой» и назначен был кладовщиком колхоза, а скоро заменил прежнего председателя, ушедшего на войну.
Он рассказывал, что лезет из кожи и его уважают за это и что он эвакуировал в Ставропольщину весь колхозный скот, а теперь, оставшись с девчатами да старухами, торопится вывезти убранное озимое.
– Мне бы тяглом только помочь, – сказал он. – А то вот вчера, знаете, прут по хлебу. Я говорю: «Да имейте совесть, по живому хлебу шагаете». А мне: «Ты что, немцу его бережешь?»
– В случае отхода ты, что ж, останешься? – спросил его Опанас Иванович.
– А как же! – И Урусов с удивлением поглядел на Цымбала. – Как же так, чтобы все бросить без присмотру. Да и куда, а? Куда, товарищ лейтенант, уходить?
– Точно, – ответил Цымбал. – От своих трех аршин никуда не уйдешь.
Высоко в небе прошли наши истребители, и хотя были они еле заметны и с них не могли видеть, что делается у степной речки, девчата замахали им руками и прокричали что-то веселое, озорное.
Потом негромко тарахтя, подпрыгивая над телеграфными столбами, прошли в сторону фронта две «уточки».
– Надо думать, что закрепились, – сказал Урусов.
– Похоже, что закрепились, – поняв его, подтвердил Опанас Иванович, думая о том, где сейчас майор Богиня с двумя эскадронами, пулеметной командой и обозами и как у них относительно горячей пищи, потому что кухни должны были уйти далеко за Дон.
– Как полковой подойдет, придется тебе, Федор, – сказал он Голунцу, – во второй эшелон съездить. Вторые сутки народ без горячего.
– Чорт их найдет, те кухни, – ответил Голунец.
– Это пропало, – весело подтвердил Урусов. – Вчера мимо нас какой-то народ проходил, так не то что кухни, а и наших коней едва не позабрал. Уж я едва вымолил. А кухни ваши пропали, как на толкучке, – засмеялся он. – Вам один выход, чужие подстеречь, да и загнать к себе, как телят.
Он поглядел за реку прищуренным взглядом степняка, и лицо его мгновенно сделалось болезненно улыбающимся, как от страдания, за которое стыдно.
– Опять идут, ссукины дети… Значит, не закрепились, – сказал он почти про себя.
Казаки встали и, прикрыв глаза ладонями, тоже поглядели вдаль.
– Надо, Опанас Иванович, высылать связных, с майором пора связаться, – сказал Голунец.
Опанас Иванович отмахнулся.
– Илюнька, коня!.. Едем к переправе, там, может, узнаем, где наши.
До ночи у переправы стоял беспокойный человеческий крик, похожий на мычание огромного стада.
К полуночи стал переправляться артиллерийский дивизион майора Бражнина, лучший на всем участке. За ним подошел к переправе инженерный батальон гвардии капитана Добрых, дважды орденоносца, кандидата в Герои, сзади подталкиваемый стрелковым батальоном капитана Мирзабекяна.
Бражнин, Добрых и Мирзабекян, неистово бранясь, вошли в шалаш Цымбала.
– Что это мы, с ума посходили? – Мирзабекян повернулся к майору Бражнину, как к старшему в звании.
– Сам ничего не понимаю, – ответил тот. – Можно было б сражаться, вполне можно.
– Так что же мешает? – снова спросил Мирзабекян, доставая из заднего кармана брюк портсигар, который никак не вынимался и злил капитана, придавая ему заносчивый, драчливый вид.
– Чорт его знает! – сказал Бражнин. – На нас какая-то армия соседнего фронта навалилась и жмет своими тылами, все перепутала, смешала… Я едва удержался до полудня…
– Мгм… Удержался ты, впрочем, как собака ни льду, – сказал Добрых. – Удержался… Да против кого ты держался, если ничего-то еще и не видно?
Опанас Иванович не стал слушать их разговора.
Какие люди бежали!..
Вначале он аккуратно записывал отходящие части, задерживал грузовики и подводы, но позднее, когда повалила толпа одиночек и уже невозможно было установить, остатки каких подразделений и куда двигаются, он только отчаянно бранился и хлестал нагайкой наиболее суетливых.
– Что ж бить-то! – крикнул ему какой-то возчик. – Сказали мне – отходи, я и отхожу… Мне хоть вперед, хоть назад, была б задача…
– Как потерял я командира, так будто мозги вон, – сказал другой. – И где я теперь его увижу… душа из него вон…
– Ну, пропускай в самом деле, чего держишь… Кони с утра не кормлены, – недовольным голосом кричал третий, торопясь отступить с той же деловой устремленностью, с какой он наступал несколько дней назад.
Задержавшийся на мгновенье поток хлынул с утроенной силой.
Командиры, собравшиеся в шалаше Опанаса Ивановича, с растерянно-виноватым видом глядели на бурное людское движение.
– Майор Бражнин, может, мы сядем и посовещаемся? – спросил Мирзабекян.
– О чем?
– Как о чем? Мы отступаем без приказа. Отступаем без всякой перспективы. Мы валимся в неизвестность.
– Не иголка, не потеряемся, – сказал Бражнин, – а я к тому же не командующий армией и «совета в Филях» созывать не имею права. Согласны?
Ему никто не ответил. Только председатель колхоза Урусов, все время вертевшийся на своем костыле возле командиров, вздохнул, почесал висок и сказал просительно:
– Хоть бы убраться дали. Живой же хлеб пропадает, ей-богу… Надо бы давеча кухни задержать, – щелкнул он языком. – Кухня стоит, так и рота держится.
– Что ты говоришь нам о праве! – сказал Добрых. – Какие сейчас права!
– Сейчас надо иметь только стыд и совесть, – вмешался Мирзабекян. – Я, понимаете, не хочу, чтобы мне кричали «отступленец!» и плевали вслед, как это вчера сделал один десятилетний мальчишка. Стал на дороге, руки расставил в стороны, кричит: «Дядя, вы отступленец, будьте вы прокляты!»
При свете карманного фонарика Добрых развернул карту. Все трое молча склонились над ней.
Бражнин думал о том, что же именно произошло с фронтом. Его уставший мозг пытался найти разумное объяснение происходящему и не находил. Он чувствовал полный упадок сил и полное недоверие к завтрашнему, потому что силы его иссякли, дух был унижен, и он считал, что, так же как он, бессильны все. Свое личное унижение переживал он, как унижение родины.
«Но что бы ни произошло, – думал он, – а я сохозяин происходящего. Я тоже виноват и виноват».
Но искал он свою беду не в том, что отступает, а в чем-то давнишнем, в каких-то принципиальных ошибках, причем едва ли своих.
Мирзабекян думал о том же, но иначе, Он ни в чем не винил себя, он просто не хотел отступать, считая это подлостью и изменой. Его совершенно не занимали сейчас вопросы высокой политики и мало заботили дела фронта. Он просто не хотел отступать, ему было стыдно прежде всего за себя.
«Какая-то позорная ерунда! Бесстыдство! – думал он. – Тысячи людей отступают и никто не возмутится, не крикнет, не остановится».
Скрипя зубами, он вдруг представил себе Москву, Кремль, Красную площадь и Сталина и увидел боль, гнев и презрение на его всегда спокойном и сильном лице.
– Что мы с ним сделали! Что мы с ним сделали! – пробурчал он. – Добрых, ты хотел бы сейчас стоять перед Сталиным?
Тот улыбнулся, отрицательно покачал головой.
– Ни за что. Не имею на это права.
– Права, права! – прокричал Мирзабекян. – Тоже мне законоведы! Бежите, законов не спрашиваете… Ну, а вот вызвали б тебя к Сталину, что б ты сказал?
Добрых серьезно поглядел на Мирзабекяна.
– Я б умер, – просто сказал он.
– Так слушайте, Бражнин и Добрых! Вы же честные люди. Пусть Добрых нами командует как общевойсковой. Я подчиняюсь ему. А, Добрых?
– Я согласен, – сказал Добрых. – Станем насмерть.
– Обороняемся до последнего? – переспросил Мирзабекян.
– До последнего.
– Без разведки будет затруднительно, – заметил Бражнин.
– Так ты что предлагаешь?
– Я присоединяюсь, не кричи, пожалуйста, – присоединяюсь к твоему мнению, но я говорю…
– Не говори! Я тоже хочу много говорить, я весь говорю, каждая капля крови во мне кричит, каждый мускул хочет доклад сделать. Не надо! Добрых, мы тебе подчиняемся!..
– Вообще я вам скажу, если решили оборонять этот рубеж, не здесь нужно бы задерживать, – отозвался Добрых.
– Абсолютно не здесь, – подтвердил Бражнин. – Западней этой Безымянки, отсюда километрах в трех, стоит какой-то казачий полк… Вот если бы он выставил заградиловку…
– Какое там в трех… – это, кажется, опять Бражнин. – С час назад они поили коней чуть повыше парома. Я было подъехал к их командиру, так он, сукин сын, таким меня шестиствольным матом обложил…
– За что? – спросили его все сразу.
– Не майор Богиня, случайно? – заинтересовался Опанас Иванович, вспомнив о своем командире полка.
– Нет, как-то попроще… Вроде скрипки…
– Цымбал?
– Вот-вот. Не вашего полка?
– Полка не моего, а фамилия родственная. Полагаю, что это должен быть родной сын мой, майор Григорий Афанасьевич Цымбал. С Южного фронта.
Добрых взял Опанаса Ивановича за плечи и мягко сжал их.
– Поезжайте, уговорите сына. Надо прикрыть западнее реки наше развертывание. Нужны сутки. Главное, что нам придется иметь в виду, это, что сюда, на наш берег, мы его казаков не пустим.
Опанас Иванович сошел с коня у санитарной машины, служившей штабом майору Цымбалу.
Ординарец велел подождать, потому что командир занят.
– Некогда. Скажи командиру – отец его прибыл.
– Не с подарками ли?.. Ну, пожалуйте, чего там… Раз отец, я не препятствую.
В кузове горел фонарь.
Григорий лежал лицом вниз на койке.
– Григорий!..
Сын сразу проснулся, строго взглянул на отца и, запросто поздоровавшись, будто они только вчера расстались, спросил:
– С делегацией, что ли?
– Зачем с делегацией. С полком.
Григорий глядел, не понимая. В нескольких словах Опанас Иванович объяснил ему, почему он не в станице, а в армии.
– Да про все это я писал тебе, видно письмо не дошло.
– Какие тут письма, видел, что делается…
– За этим к тебе и приехал. Отходишь?
– Прорвали, сволочи, фронт. Гонят во-всю, зацепиться нигде не дают.
– А ты цеплялся?
– Мне как скажут. Я, батько, майор, и не армией командую, а полком. Прорыв, видно, здоро-овый… Не знаю, где заштопаем. Дома-то у нас как?.. Все пока целы?
– Прорыв надо заткнуть, – перебил его Опанас Иванович. – Драться надо. Мастера вы на армию кивать, на генералов. А может, убит ваш генерал, или дурак дураком без связи сидит, или перепугали его ваши сводки, так он уж и взаправду думает, что немец на ваших плечах висит…
Григорий спустил ноги, поискал сапоги, стал натягивать их, кряхтя.
– Ты, батько, у меня академик, я погляжу, – улыбнулся он. – Нынче не та война, что вы вели.
– То же и я говорю. Мы дрались.
Григорий надел сапоги, стал искать портупею.
– Ты, батько, в гости ко мне приехал или с инспекцией?
– Я, Григорий, приехал с тобой проститься, – горько сказал Опанас, и рука Григория, надевавшая портупею, повисла в воздухе.
– Ежели ты только за реку отойдешь, зараз меняй фамилию. Хоть ты майор-размайор, а я тебе в своей фамилии отказываю. На кой тебе чины и ордена дали, дураку?
Григорий, играя скулами, молча разглядывал отца, будто удостоверялся, точно ли это отец его, или кто-то другой, похожий на него.
– Выстраивай поутру полк, – продолжал Опанас Иванович, – скажи, с сегодняшнего дня моя фамилия такая-то, а старую батько с собой в могилу забрал. Не для того я тебя растил, чтоб ты меня на старости лет…
– Погоди… – Оба они встали, касаясь головами крыши.
– Где твой полк, батько?
– Черти его знают, полк. А шестьдесят сабель со мной… На переправе и саперы есть, и пехота, и артиллерия, за тобой слово. Будешь драться и там будут драться. Решай, сынок.
– А ты про себя что решил?
– Я? Я с переправы не уйду, Григорий. Будет со мной хоть десяток – останусь. Не будет десятка – один останусь. Не могу иначе.
– Выслушай меня, товарищ лейтенант… Поскольку ты не в своем уме…
– Молчи! Встань перед отцом! Меняй, курва, фамилию! Жив буду, перед всем полком осрамлю. Вот тебе мое последнее слово, – старик шагнул к выходу, рванул фанерную дверь и крикнул в темноту:
– Ксенька!
– Папка! – негромко, сконфуженно отозвалась из темноты Ксеня. – Хоть посмотреть на тебя…
– Был у тебя отец, да весь вышел, – в сердцах буркнул Опанас Иванович и, выхватив из ее рук повод, стал нервно, пугая горячего Авоську, садиться в седло.
– И Ксеня здесь? Где ты, дочечка?..
Майор Цымбал горячо, по-мужски припал к ее лицу своей небритой черной щекой и, закусив губы, взглянул на отца, в самом деле намеревающегося расстаться с тем, что он так любил, так берег, чем так гордился всю жизнь.
– Папа, папа!.. – зло прокричал Опанас, уже сидя в седле. – С такого папы штаны надо стягнуть при всем народе.
Григорий засмеялся.
– Сердитый он, чорт, – шепнул дочке и, гладя ее плечи и волосы, ласково сказал отцу:
– Слезай, Иваныч, договоримся. Одностаничники все-таки. Хачмасов! Прими коней… Пойдем, Ксеня, посиди со мной, давно не видел тебя, дурочку. Мать-то пишет, нет? Жива?
Опанас Иванович чуть задержался, чтобы не помешать их разговору, который, несмотря на свою краткость, был очень длинен и обстоятелен.
По мелким оттенкам речи отец и дочь сразу догадывались о том, что их интересовало помимо слов.
Бывают минуты, которые запоминаются на всю жизнь, хотя в них нет ничего, кроме решений для себя. Такая минута наступила сейчас для Опанаса Ивановича: он добился, чего хотел, и половина несчастий и трудностей как бы от одного этого свалились с его плеч…
Главное было сделано. Стоять на месте. Не делать ни шагу назад. Сражаться до самозабвения.
«И тогда, – думал Опанас Иванович, – стратегии будет что делать. В одном месте мы, в другом – еще кто. Человек к человеку, глядишь, и табор…»
Будучи по старости лет человеком восприимчивым к приметам, он сплюнул, когда ему на ум пришла хвастливая мысль Мирзабекяна, что это ночное решение может быть чревато большими и важными событиями.
Наговорившись и нацеловавшись с отцом, Ксеня прилегла на отцовскую койку, чтобы рассказать ему сразу все семейные новости, и с неожиданной быстротой заснула, не успев пробормотать и двух слов.
Григорий покопался в рюкзаке, поставил на стол пол-литра «московской» и нарезал кружок жесткой колбасы, называемой казаками «с подковкой» или «скаковой».
– Ты, Иваныч, может, и прав, – сказал он, когда они выпили по стакану.
– Бить надо массой, отходить надо вразброд, это точно. А наши жмутся в массу, наступают друг другу на ноги, бегут, сукины дети, по дорогам, боясь окружения… Ты, может, и прав, да ведь и я, Иваныч, не виноват… Что у меня, корпус? Или армия? У меня же всего-навсего полк…
– Ты помнишь, Гриша, я тебе рассказывал, как я сад зачинал, – сказал Опанас Иванович, поднимая на лоб очки, что предвещало начало какого-то его увлечения.








