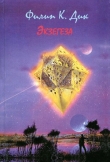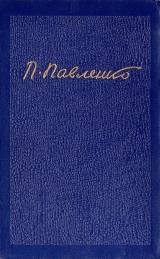
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 38 страниц)
Оно обидело.
Был уже поздний вечер, – в проливе утихло. Но, едва земля стемнела по-настоящему, заговорило небо. Оно сбросило с себя свет заката, точно пыль, и лишь на одно мгновение опалил он самую нижнюю часть неба, ту, что лежит по горизонту, да и она, сгорев, повисла серым клубом тумана, постепенно слившегося со всем остальным непроглядно-черным, плотным небом, в котором звезды не светили, а вспыхивали и терялись, как волчьи глаза.
Иной раз жаль, что огромный океан неба не принято делить на отдельные моря и называть их соответственно тем районам земли, которые омываются ими. Тогда бы небесное море, что над степями Дона и Кубани, смело заслужило название Синего, а покрывающее Кавказский хребет и Закавказье – моря Прометеева. Исследователи легко установили бы черты различия между этими соседствующими морями. Одно из них – Синее – знаменито своими глубокими, тяжелыми и всегда холодными тонами. Море же Прометеево оказалось бы замечательным по своему сиянию, вспышкам, горению, жару.
Пристрастное к легким лаковым краскам, дающим не полутона, а свечение, оно запоминается на всю жизнь светом огня, живущим в цвете неба – будь это полдень или полуночь.
Небо же над Кубанью никогда не горит. В нем может быть больше багрянца или золота, но это не брызги, а краски. Даже молния кажется здесь каплей краски, выдавленной из тюбика.
В эту ночь небо было черным, точно на палитру, где нанесено множество красок, сверху пролили тушь, и, смешавшись с красным, и синим, и розовым, и желтым, слегка блеснув чем-то пестрым, тушь все же в конце концов стала равномерно черной.
Громыхая всем небом, пролетели наши, а через час-другой с моря, с запада, донесся дальний захлебывающийся рокот немецкой машины. Она словно перепрыгивала от тучи к туче, придерживая дыхание.
Небо осветилось немыми молниями прожекторов. Вспыхнули созвездия рвущихся зенитных снарядов.
Степь вздрогнула.
Колхозные патрули – у мостов – размяли застывшие плечи. Пастухи подняли стада Колхозные пожарные, нахлобучив поверх кепок медные каски, сбежались к своим насосам и лестницам.
И в середине ночи взрыв авиабомбы так тряхнул хату Опанаса Цымбала, что стекла разлетелись в куски, а угол камышовой крыши шурша свалился на землю.
Опанас Иванович закурил тогда трубку и в одном белье вышел на крылечко.
За проливом вздрагивало оранжевое зарево. Немцы разбойничали за Керчью, а может быть, гнались за пароходом из Ейска или танкером, идущим к берегам Крыма.
– Бомбят и бомбят, сатаны проклятые. Пропаду на них нет!
На голос выглянул из сеней зять Илюнька.
– На кого вы там выражаетесь, папаша? – сонно спросил он. – Эй, кто идет? – громче и беспокойнее крикнул он потом, глядя в сад, вспыхивающий от огня прожекторов.
Осторожно ступая по темному садику, подошел дорожный техник Пятихатка, квартирующий рядом.
– Свои, – сказал он шопотом. – Кто это с вами, Опанас Иванович?
– Зять.
– Который из ваших? По голосу что-то не признаю.
– Да Илюнька… птица-штраус.
– А-а… Здорово, Илюнька! Вылезай, дай закурить. Завтра отдам.
– Адам был человек некурящий, нечего и тебе табак портить, – назидательно сказал Илюнька, подчеркивая, что в его фразе игра слов, и, почесываясь, поднялся с одеяла, на котором лежал в сенях. Огромная худая фигура его вытянулась до потолка.
Как бы не расслышав Илюнькиного ответа, Пятихатка присел на ступеньку крыльца.
– Здоровый бой какой, – вздохнул он. – Над головами где-то.
Цымбал молчал. Бомбы взрывались на земле, которую не один десяток лет он знал, как собственное тело.
Не видя, он сейчас чувствовал, куда падала каждая бомба, и грохот их взрывов отдавался в нем настоящей болью. Он знал, как уже сильно поранены виноградники, и прямо видел обезображенные лозы с вывороченными и перебитыми корнями.
Острые языки прожекторов вылизывали окраины туч, и вдруг – сразу три впились в одну точку. Стукнули со всех сторон зенитки. Осколки их снарядов мерно зашлепали по отцветающим яблоням, ломая тонкие веточки и засыпая землю душистым белым инеем.
Пятихатка, чтобы отвлечься, кашлянул и спросил:
– Илюнька за кем же у тебя? Или за Клавой?
– Отдам я такому Клаву… За Веркой.
– Это которая пулеметчица у тебя?
– Снайпер, – ответил Цымбал, все еще не отвлекаясь от мыслей о земле.
– Сто двадцать восемь гвоздиков все-таки на память вбила, не ждал, не гадал.
– Каких гвоздиков?
– Да что ты, ей-богу, все тебе объясни! Ну, это ж известно, – как немца убьет, сейчас же махонький гвоздик на приклад.
– Ага! Вроде календаря. На Южном она?
– На Южном.
Что-то снова прогрохотало вблизи.
На темном небе еще более ярко и нервно вспыхнула пригоршня звезд. Лучи прожекторов, гоняясь один за другим, низко прошли над проливом, лизнули берег и пропали за горизонтом, на мгновение осветив неясные контуры рыбачьих лодок.
Кивнув в их сторону, Пятихатка негромко просмеялся:
– Савва Андреич – слышали? – партизанский отряд из своих рыбаков сгарбузовал.
– Какие ж такие партизаны на море? – недовольно произнес Опанас Иванович.
– Не знаю, – ответил техник, – только знаю, что сам командует.
– Ну, командовать – это ему только дай. Тут он тебе что хочешь придумает.
Икающий звук немецкого мотора снова раздался над самыми головами.
Пятихатка сказал, словно шутя:
– А у тебя, Илюнька, совести ни на грош. Супруга твоя на второй орден пикирует, а ты при корове состоишь.
– Так что ж, если я аномал, – спокойно ответил Илюнька. – Таких, как я, высокорослых один-два на весь мир. Меня сейчас в музей требуют, в Краснодар, на любую должность, пожалуйста. А на кого дом брошу?
– Илюнька у меня из всех – домонтарь, – сказал Цымбал. – Не смотри, что молодой, а такая стерво – у-у.
Вопль огромной силы несся сейчас на землю. Все, ахнув, вздрогнуло и загудело. Еще! Треск, гул, сухая пыль глинобитных стен. Еще! Еще и еще! Оконное стекло, звонко прозвенев в этом шуме, продолжало биться и сыпаться, будто катили его целую бочку с высокого берега.
Сгорбившись и распустив крылья, скворец пробежал по руке Цымбала. Что-то пыльное, мягкое крепко ударило его в спину и, треща яблоневыми ветвями, прошло сквозь деревья.
– Горим! – прокричал зять Илюнька.
Кряхтя, Опанас Иванович приподнялся с земли, – его отбросило шагов на пять, – и не сразу и не целиком, а постепенно, частями увидел он осевшую на карачки хату, клубок огня, кривляющийся на оконных занавесках, и много пустого места вокруг жилья.
Сад лежал на боку, как хлеб, поваленный грозой.
На сломанных яблонях висели обрывки обоев да покачивалась рама с одной маленькой фотографией в уголке (дочка Клава в кубанке на просто и нежно убранных волосах).
Два-три портрета мужчин в военной форме и женщин в городских костюмах валялись на земле.
Вот прищуренный взгляд Григория, вот улыбка подстаршего сына Виктора, вот ясное, светящееся лаской и добротою лицо дочери Веры, а там еще кто-то…
– Осколочки вы мои родные… Илюнька! Ксения! Ничего не надо, спасайте одни карточки, семью спасайте!
А горела его – Опанаса Ивановича – жизнь.
Хату на этом гребне поставил еще прадед его запорожский есаул Хорько Цымбал, драбант самого Потемкина.
И первая яблоня, посаженная на пустыре за хатой, называлась «потемкинской», саженец был подарен светлейшим из собственных теплиц.
Вторую яблоньку называли «суворочкой», в память приезда Александра Васильевича Суворова. Обе давно погибли, но широкие пни их остались, как остаются в новых постройках камни древних сооружений.
Были в саду деревья и помоложе.
Вывезенные из Маньчжурии в шерстяных портянках, с трудом добытые в Иране, у садоводов за озером Урмия, разысканные в прусских поместьях, выпрошенные в крымских, донских и сочинских заповедниках, росли здесь сливы, абрикосы и яблони. И были они музеем его жизни.
Рождался в семье ребенок – сажалось и его дерево.
Росли, развивались дети – рос, взрослел и сад. В нем были свои внуки и правнуки, с одинаковыми именами и даже, честное слово, иной раз с одинаковыми характерами.
Бывало, закапризничает у Опанаса Ивановича молодая яблонька – а на бирке ее значится: «В честь внука Пети» – и старик, как бы невзначай, спросит сноху:
– А у тебя Петруша как, не шеборшит, толковенький?
– Да ничего, батяня, справный мальчик.
– А то я гляжу, его яблонька от рук отбилась… Не к делу ль, подумал.
И так вот росло все нерасторжимо – единою жизнью, и сам Опанас Иванович чувствовал себя и душою семьи и душою сада, что окружал семью. И было это одно – жизнь.
И вот взорвалось…
– Хотя и в изорванном виде, однакоже все налицо, папаша, – Илюнька разложил перед тестем скатерть с фотографическими снимками.
Старик смотрел на них и ничего не видел.
Между тем уже рассвело.
На медных касках пожарных уже струилось первое пологое солнце, точно каски были неровного цвета, светлее кверху, или заплатаны другим металлом.
Мажара, объезжая обломки деревьев и мебели, подкатила к догоравшей хате.
– Ну, как я сказал, так и есть, – довольно произнес Круглов. – Вот он вам, Опанас Иванович!
Савва Белый, молчавший всю дорогу, громко выругался и ткнул возчика в спину.
Цымбал не поднял головы, не взглянул на подъехавших. Он был погружен в забытье, словно тяжелая контузия лишила его последней энергии. Он сидел, нагнувшись над исковерканными, полусожженными фотографиями, и разглядывал их без волнения и интереса, точно с трудом вспоминая, что бы они могли означать.
– Здорово, браток! С обстрелом. – Савва Белый подошел не спеша, точно появился случайно.
– Здорово, Саввушка! В гости, что ль? – не поднимая головы, спросил Цымбал. – Во-время. Видел?
– Видел.
– Вот оно как!
– Война, брат. Ныне твоя хата, завтра – моя.
– Вот и беда. Оно бы куда ловчей – и сегодня фрицева хата и завтра его хата.
– Это верно. Чего ж теперь делать. Поедем ко мне. Нехай нагрузят чего осталось.
– Не надо… А то, верно, нехай нагрузят. Илюнька, Ксеня! Соберите что под руками.
Он встал и побрел в сад. Легкий ветерок стучался в оконные рамы, словно утро, как заведено было, привычно стукнуло в хату и, не найдя ее, растерялось.
Слова застревали в горле, будто были другого, чем нужно, калибра. Опанас Иванович только показывал руками. Белый же на взмахи рук отвечал словами:
– Да-да… Ить ссукины дети… А ловко это они…
Цымбал шел, взмахивая руками, и все движение его невысокой, худощавой, очень подвижной фигуры, все выражение умного лица, с короткой полуседой бородкой, как бы говорило:
«Вот здесь стоял мой дом, где я родился и вырос, создал семью, пустил глубокие корни в землю. Это было не просто мое жилище, а часть меня самого, фундамент мой, память моя.
Где, в каком другом месте соберу я теперь большую семью мою? Где буду играть с внучатами, где, на каком клочке земли разведу новый сад с тою же прадедовской славою, где и как, какими трудами вновь соберу я бесчисленные свои дипломы и записи о рекордах и снимки с плодов и деревьев за пятьдесят лет, прошедших как одно лето?
Такого дома и сада такого у меня теперь больше не будет. Жизни заново не начнешь, да ведь и начинать следовало бы сразу же за все двести лет, не меньше.
Сам-то я жив, но это как-то весьма частное явление, ибо жив, как певец без голоса, как мастер без своего инструмента, как птица без крыльев, жив не самою главною частью своего существа».
– Да-да, – повторял, идя за Цымбалом, Белый.
– Ишь ссукины дети… Ловко попали…
– Ты не тужись, Опанас Иванович, – сказал Круглов и, послюнив пальцы, пощипал свои прямые усы. – За твою главу не такую хату тебе возведут, скажи только.
Опанас Иванович поискал на лбу очки, устроил их на переносице.
– Дурной ты, разве из-за хаты тужусь, – вырвалось у чего.
Печаль его переходила в ярость.
Неясное, смутное томление злостью будоражило тело.
Была в беде его такая огромная и ничем не оправданная несправедливость, которую нельзя было принять за нечто должное. Печаль его искала мщения.
Фашистская сволочь свалила не хату его, нет, она разрушила все его прошлое, весь богатый уклад трудной жизни нескольких поколений Цымбалов, – и тех, что давно почили, и тех, что здравствовали, и, наконец, тех, что появятся теперь на свет вдали от прадедовских яблонь не в опанасовской хате и уж навсегда, навечно будут оторваны от прадедовской славы, на возах привезенной с Днепра в это, тогда еще пустынное и дикое место.
«Казак на костях строится», – говорили старики. Бомба ударила и по живым и по мертвым.
– Строились, жили, – задумчиво сказал Опанас Иванович, сам еще не зная, что скажет.
– Ать, сатаны проклятые! Легче дитё сродить, чем такие яблони вырастить… Строились, строились, а выходит, одна у казака доля – ятаган да воля.
– Пустое, – сказал Савва. – Не те годы твои да и война не та. Пошли ко мне… Круглов, складай в машину останнее.
Цымбал вскинул на лоб очки, словно стекла застили ему глаза.
– Ты, брат, не тот казак, что был, – повторил Белый. – Смотрите на него – эх, взъярился, что воробей на току.
– Каждый по-своему крутится, – ответил Цымбал. – Ты вот в партизаны, что ли, записался. А что такое морской партизан? Одна твоя глупость. Сам не знаешь, что такое.
– Отчего же не знать – знаю, – ответил Савва Андреич, сняв зюйдвестку и осторожно счищая с нее огромным ногтем, похожим на обломок ножа, прилипшую чешую. – Буду на Азове мины тралить, в Крым ходить с ребятами…
– Мины тралить… – Опанас Иванович сокрушенно покачал головой. – У меня семья, что завод была, каких людей выпускала, каких работников… А вот стал гол как сокол… Как же тут мины тралить? Вот и нет у тебя ответа… Ерунда это все, с партизанами, для отчета в газетку… Скажет же – мины тралить… У меня завод был, фабрика – и нету. Как жить! Я всю жизнь людей на дело ставил. И опять то ж обязан. А ты рыбу ловил. Ага! Так ты ее ж и лови, сукин сын, – тебя бомбят, а ты лови, горишь огнем – все равно лови и лови…
– Завод у тебя, Опанас Иванович, точно был знаменитый, – сказал Круглов, – что на овощи, что на фрукту, всегда к тебе, это верно, всем отделом, со всех концов. И народ у тебя был, точно, крепкий, руки с корнями. Только их в землю, и уж они прижились… и того Цымбала не стронешь с земли, стоит, как якорь. Но только Савва Андреич прав будет… как бы сказать…
– А сказать у тебя и не выйдет, – спокойно перебил его Цымбал. – Никогда у тебя сразу ничего не выходило и сейчас не выйдет… Савва – рыбу, а я – людей ловил, так оно и продолжится… Ах, сволочи, выродки!.. Так и продолжится, не на тех замахнулись.
Ему захотелось сделать нечто такое, на что он раньше ни за что не решился бы, нечто невозможное, немедленное…
Пятьдесят семь лет жил он делами, и дела стали единственным способом выражать себя.
То, что он вырастил сыновей и дочек, сейчас не казалось ему достаточной лептой. Захотелось действовать самому. Захотелось прибавить к ненависти сыновей свою – утроенную, к их крови – свою, до последней капли.
И будто осенило его.
Вышел из сада к толпе соседей и низко, медленно, по старинке поклонился народу до самой земли.
– Доверьте, дорогие, на фронт пойти. Там буду я новую семью ставить.
Народу собралось уже много. Опанас Иванович, маленький, щуплый, в тонком ситцевом бешмете, похожий на седого подростка, доверчиво и жалко, и вместе с тем отчаянно и вызывающе, стоял перед народом. Слов его сначала не поняли.
Он повторил:
– Доверьте, родные мои, на фронту порубать немцев. С пустыря жизнь начинается, как у прадеда Хорька Цымбала. Соберу я старых казаков, да и пойдем мы сыновьям на подмогу.
Зять Илюнька шепнул Круглову:
– Дуй в стансовет. Скажи, масштабная вещь получается. Может, районную газетку осведомить или, обратно, рассосать на месте, как перегиб!
– Иди к монаху! – сказал Круглов. – Рассасывать нечего, не сахар, я сам пойду…
Съезжаться стали вскоре после полудня в выходной день.
На широкой площади с утра вяло бродил в конном строю колхозный оркестр, не то сами музыканты приучались играть в седле, не то осторожно приучали к музыке упрямых колхозных коней.
Старики учили молодежь рубить лозу и брать препятствия. Толпа зрителей, своих и приезжих, наблюдала за учением, хлопая в ладоши, свистя и выкрикивая по именам лучших рубак и джигитов. Иностаничные подъезжали к новым, специально поставленным коновязям возле клуба. Тут их встречала разодетая во что-то красное и зеленое Анна Колечко.
– С прибытием, Александр Трохимыч! И вы стронулись?
– Доброго здоровья, Анна Васильевна!.. Как тут не стронешься, когда внуки спокоя не дают – едем да едем, все, мол, у Цымбала, весь цвет…
– Заходите, милости просим… Так вы с внучком, Александр Трохимыч?.. Небось, притомились?
– А, покорно благодарю!.. С внучком… Ноги что-то замлели. И то сказать – двадцать лет в седле не был.
Тут же, у коновязей, приезжих вписывал в книгу Илюнька Куроверов.
– И ты? – весело окликали его добровольцы.
– Да ведь знаете моего Опанаса Ивановича, Илюнька пожимал плечами, слегка осуждая тестя. – Я ведь единственный аномал по росту на всей территории края, бронированный всеми органами… Все это, ей-богу, будет условно, – горько говорил он. – Позаписываем народ, а они, может, чорт их знает, по анкетам будут неподходящие…
– Помирать не по анкете придется, – говорил кто-нибудь из только что подъехавших.
– Пиши, Илюнька, пиши, не задерживай, надо к инициатору, как по службе положено, доложиться.
Но Опанас Иванович, завидев новое лицо, подъезжал сам.
– Кто это? Не Шевченко Сашко?
– Я самый! А чтоб тебя разорвало – придумал же… Моя старуха аж сказилась – куды, говорит, старых чертей понесло!
– Вот чертяка! Здорово! И ты значит?
– А что ж? Чем мы хуже других?
– Ишь ты! – и Цымбал воинственно оглядывал приезжего. – У вас, гляжу, и кони завелись.
– У нас чего хочешь, Опанас Иванович. Вот тебе кавалерия, а вот и мотопехота, – говорил гость, показывая на грузовик с девчатами, подростками и старухами, весь в цветах и плакатах. Это вместе с добровольцами прибыла делегация провожающих.
Площадь быстро заполнялась машинами, мажарами и верховыми конями. Местные и прибывшие из района оживленно беседовали, столпясь у клуба. Колхозные представители тащили из грузовиков окорока, бараньи туши, катили бочки с вином, несли связки колбас, от запаха которых сводило зубы, волокли рогожные кули с копченой шамаей. Запах цветов, жирной рыбы, соленых арбузов и анапского рислинга плотно держался в воздухе.
Приехал с двумя внуками Антон Георгиевич Гандлер, виноградарь, с именем которого считались во всей стране.
Пешком, с сумой за плечами, явился Кузьма Разнотовский, станичный атаман при Деникине, георгиевский кавалер всех четырех степеней. На велосипеде приехал бывший священник, теперь счетовод в колхозе, Владимир Терещенко, – тоже просился на фронт, хотя б санитаром.
Четырнадцать орденоносцев, двое с высшим образованием, девять председателей колхозов, три агронома, один инженер-ирригатор, два шахтера – все крепкие казаки. Среди традиционных черкесок мелькали кожаные куртки. Редкий человек был без ордена или медали. Безусая молодежь и та поблескивала значками отличников, снайперов и парашютистов.
Разговор шел сейчас о том, куда направят добровольцев, – и всех ли вместе, или разобьют на группы, и нельзя ли проситься одной семьей на один фронт, а уж если в разброд, так тогда каждого ближе к сыновьям, братьям или отцам.
– Да на что они мне сдались – сыны-то! – кричал Шевченко, разглаживая черно-седую крылатую бороду, из-под которой скромно поблескивали четыре георгия – два золотых и два серебряных – да два ордена Красного Знамени. – Служить с ими? Да как же я с Николаем, с чортом, служить буду? Он, значит, у меня подполковник, а я старший сержант. Так как, по-вашему, я ему козыркать буду? Да нехай он сам по себе воюет, а я сам по себе! Побачим, кто хитрей.
Когда съехались все, кого ждали, секретарь райкома пригласил к столу. «Стол», из двадцати пяти обеденных столов, поставленный буквой П, был накрыт в саду при клубе. Жареные индейки и поросята, маринованные дыни и соленые арбузы, дичь, рыба, сыры, масло, мед – все, что давала родная Кубань, красовалось на блюдах. В глечиках и графинах благоухало вино – и рислинг, и кабернэ, и сладкие тяжелые вина, и шампанское – и это тоже все было свое.
Перед каждым прибором лежала пачка табаку – тоже своего, кубанского. Секретарь райкома поднял бокал за победу.
– Чтоб, когда вернемся с войны, у нас не менее того, что сейчас имеем на столе, а более того было. Вы поглядите, – и он обвел рукой стол, – спичку человек зажег – и та своя, зажигалочку крутнул – бензин чей? Наш, кубанский. Лес свой и нефть своя, и за золотом недалеко ездить. Одного какао, может, не хватает, дорогие станичники. Так, я знаю, у нас и рису не было. А какой рис пошел, какой хлопок! Природа у нас емкая, с ней что хочешь сотворим, – он помолчал, потому что сбивался на мирный хозяйственный лад, и сказал, подумавши:
– Народ мы сильный, приемистый. Войну кончим – втрое силы прибавится.
– За победу, казаки! За усиление, за славу!
Выпили за победу, потом за сыновей и внуков, и за Кубань, и снова за победу, и уж завечерело над станицей, а казаки все сидели за столом и говорили о разном.
– Я и доси помню, как мы германскую гвардию лупцовали, – говорил кто-то дребезжащим голосом, – ну и били, и в крест, и в квадрат, и в…
– Тихо, тихо, не выражайтесь, – слышался голос секретаря райкома. – Примите во внимание, с нами комсомольская прослойка обоего пола.
Дед Опанас кричал:
– На Западный надо проситься. Слышите, казаки? Как в святые дни!
Шевченко кричал:
– Не слухайте его, казаки! Выдумает – под Москву. Казак с конем – одна душа, а конь волю любит. В степь – вот куда!
– У тебя, у рыжего, два своих подполковника на Юго-Западном, вот туда и тянешь, зараза, под свое начало, – раздавалось в ответ.
– Да и у тебя, кум, кровинка на Брянском фронту. Може, и ты под своего шурина склоняешь?
Дед Опанас кричал:
– Хай на вас холера! Подавайтесь куда хотите!
– Гоп, гоп, гопака!.. – раздавалось рядом, все заглушая своим разудалым гиком.
Секретарь райкома долго усмирял расходившихся стариков, вспоминая старую славу боев у Касторной, у Старого Оскола, у Царицына. Старики в конце концов помирились на том, что «куда их служба потребуется, туда и двинут».
– Ура-а!.. Ура-а!.. Цымбалы верх взяли!.. Цымбалы! – И все, что способно было откликаться на внешние впечатления, что держалось еще на ногах, ринулось в сторону «ура».
Ладный, красивый казачина стоял перед Опанасом Ивановичем и, смущенно теребя новенькую – с алым верхом – кубаночку, смотрел светло-синими глазами вдаль перед собой.
Это был младший сын Саввы Андреевича Белого Николай.
– Так ты, Колька, чего, значит, у нас просишь? Ты опять повтори это мне, – с упоением допрашивал его Опанас Иванович, восстанавливая тишину и порядок.
– Прошу, товарищи старики, оказать доверие, с собой взять, – твердо повторил молодой Белый, ни на кого не глядя.
– А батькина воля есть?
– А батькиной воли у меня нету. Вас прошу.
– А мы и без твоего батьки решим, – закричал Шевченко.
– Семья крепкая, Белые-то. Надо взять. А?.. Взять, что ли? Хлопец-то ладный…
– И Савке примечание будет… Ха-ха-ха…
– Берем, берем… Бери, Опанас Иванович, что ему рыба?
– В знак уважения к батьке твоему, хоть ты и того… ну, да это наш счет… Принимается Николаша Белый: Садись за стол… Справа есть?
– Да есть, есть, дорогие мои, – кричала, обливаясь слезами, Анна Васильевна. – Он с моим Никишкой давно обдумал. Вдвоем я и готовила их.
Ксеня в новенькой черкеске из домашнего горского сукна стояла рядом, потупив взгляд.
– Садись рядом со мной, – сказала она так тихо, что казалось, только подумала.
– Твой старик как бы не заругал? Нет?
– Да что нам теперь… Мы сами казаки…
Гей, гук, мати, гук, де казаки пьют
Над билою та березою атаман!..
запел кто-то.
И опять все повалили к столам…
Станица долго не спала. На одном перекрестке плясали под гармонь, гармонистом была худенькая девочка лет четырнадцати, на другом – хором пели «Иван Иванычи», тринадцати– и четырнадцатилетние хлопчики, в эту весну пахавшие за взрослых, теперешние звеньевые и бригадиры колхоза, а там где-то плакали, бранились, ораторствовали и опять пели, пели.
Пары мелькали в тенистых проулках. Везде прощались.
Ночь была красивой, спокойной, как до войны. Она все пела и кричала до рассвета.
С рассветом колхозный оркестр заиграл «Интернационал».
На станице лежали прохладные тени садов, но холмистые поля за станицей были уже светлы, теплы. Солнце, еще скрытое тучами, бежало по земле низким световым потоком. Сейчас его ручьи приближались к разноцветным огородам и площади за ними. Когда-то на майдане стояла каменная церковь. Теперь вместо нее был клуб.
Митинг начался под открытым небом, среди нагруженных телег, грузовиков, двухколесных плетенок и оседланных верховых коней.
Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то казаки, снаряженные в тяжелый турецкий поход. Прощались с родными хатами и ребятишками их сыны и внуки, торопясь в Восточную Пруссию, на германца. А потом, года через четыре, они же, обросшие черными и рыжими бородами, в черкесках, со следами крестов и медалей на груди, клялись оборонять советскую власть, чтоб вернуться домой полными хозяевами, на полное счастье, на полный спокой жизни.
Не раз звучали на этом пыльном выгоне величаво-грустные «думы», не раз навеки прощались казаки со своими семьями.
Но всегда, всегда над печалью проводов витала здесь гордая казацкая воля, лихая казацкая непоседливость, без которой скучно казаку на белом свете.
И всего бы, кажется, вдоволь, и уж душа бы не глядела на сторону, а вот позовет за собой даль, скитание – и пошел, и не уговорить, не задержать. Прости-прощай, родная сторона!
Так и сейчас: долго кричали «ура», и целовались, и плакали, и говорили речи, а потом дружно вскочили на коней. Вся станица тронулась следом.
Анна Колечко, не сомкнувшая глаз всю ночь, была сейчас покорно-тиха, ничего не говоря, ни о чем не расспрашивая. Она шла у стремени, рядом с сыном Никифором, который записался вместе с отцом и, как ни плакала она, как ни просила, не пожелал остаться дома.
Зимние хлеба лежали по сторонам шляха веселою муравой, за ними – до самого горизонта – тянулись серые, еще не загоревшиеся листвой виноградники. Золотые, правда золотые места, суворовские!
– Ну, сваты, прощайте!
– Прощайте, сваты! С победой!
Но не суждено было казакам так просто распрощаться с родными местами.
Родное окликало их всеми цветами и красками, всеми звуками, каждым движением жизни.
В час прощанья послышались взрывы на железнодорожной станции, верстах в двух. Завыли паровозы. Зазвонил колокол.
Казаки вместе с провожающими бросились к станции, окутанной желто-сизым дымом.
Поезд, везший ребят из Ленинграда, не пострадал от бомбежки. Весело смеясь, ребята вылезали из вагонов.
Они были бледные, худенькие, в повязках, с палочками и костылями.
Казачки обступили их, рассматривая с уважением, с гордостью.
Почувствовав на себе внимательные взгляды, дети застеснялись.
Анна Колечко первой вырвалась навстречу детям… В руках ее была корзина с полдником для себя да еще десятка полтора вареных яиц, которые поутру пыталась она вручить сыну Никифору.
– А ну, гражданочки, – бойко крикнула она, – на-ка, детки, держи… съешь на здоровье. Сделай ручку лодочкой – маслица положу… Тебе, донечка ты моя, тебе… А это тебе – с костыликом… Ешьте, родные…
За Анной Васильевной одарять ленинградцев всем, что осталось от проводов, бросились и остальные женщины. Они растерянно бегали по платформе, выглядывая самых жалостливых ребятишек.
В это время прибыли и спешились казаки.
– Детский период, а? – покачал головой Илюнька, глядя на ребят, с наслаждением жующих пироги и крутые яйца.
– Бабы! – закричала Колечко. – Бабы родные! А я – клянусь святым крестом, – этого себе возьму! – и она привлекла к своему могучему животу тоненького зеленоватого мальчика с подвязанною щекою и руками в струпьях.
– Тебя как звать?
– Миша… – мальчик ответил сдержанно.
– Ой, боженько ж мой, худой, как та хмелиночка!.. Ой, бабы, я его заберу!.. Я с него – будьте добры – кабанчика сделаю…
– Мы не на разбор, тетя, мы в санаторий едем, – тревожно сказал ей Миша.
– Тишайте, тишайте! – закричала Колечко, вытирая голым локтем щеки и нос, хотя, признаться, никто не останавливал ее порыва.
– Ты, Анна, брала бы кого поздоровее… а то, выбрала… – сказала ей станционная сторожиха. – Девочку б и я взяла. Годков на восемь, – и она засеменила вдоль вагонов, кого-то вдали приметив.
– На кой мне здоровые да румяные! – закричала Колечко, оборачиваясь ко всем за поддержкой. – Я сама здоровая да румяная, мне вот такую худобку, я з него порося сделаю, сала в два пальца. Я з тебя, Миша, казака воспитаю. Дай ручку, голубок, где тут ваши старшие?
Казачки забрались в вагоны и уже выносили из них несложный детский багаж, когда из станционного здания появились педагоги.
– Граждане! Вы с ума сошли? – закричали они хором. – Дети не раздаются на руки. Это поезд специального назначения.
Они стали оттеснять колхозниц от вагонов, и над платформой поднялся плач и крик.
Подошли поближе и казаки.
– Слушайте меня… Кто хочет взять ребенка на воспитание… Да слушайте меня, чорт возьми!.. Должен явиться к нам в интернат, – прокричала казачкам руководительница эшелона, маленькая, хлопотливая старушка в больших роговых очках.
– Иди ты сама… в интернат! – под общий смех крикливо ответила ей Колечко, и казаки, гурьбой столпившиеся на платформе, поддерживали ее. – Я себе выбрала… Петр! – кричала она. – Чи не прокормим, а?.. Мишенька, не отказываешься итти ко мне? У нас дом справный. Вон дядя Петр, это мой… казак старого бою… лихо его не бери… А твои папа-мама где?
– Скажет тоже, интернат… – шумели казаки. – Шо ему тот интернат. В дому, как ни говори, всегда сытней. Сама и доглядит, сама и спать уложит. Раз ей дитё приглянулось, можете не беспокоиться, такому дитю того не съесть, что она подаст…
Но педагоги не могли позволить разобрать детей по рукам и продолжали спорить.
Отталкивая обступивших ее руководителей, Колечко доказывала свое:
– Шо я, здоровенького беру? Я извиняюсь с вашим интернатом, я знаю, кого выбрать. Вы разве выкормите такого? Заморите. Клянусь святым крестом, заморите. А у меня не помрет, брешете. У меня доси ни одного не померло, а уж какие годы прожили… Спросите людей. Да вот старик мой тут, не даст соврать. Да вот и сын мой, глядите… Ишь казачина!
Миша, испуганный суетой и громкими криками, исподлобья глядел на тараторящую Анну, и трудно было сказать – нравилась ли она ему.
Пожалуй, он побаивался ее и, наверно, ему не хотелось расставаться с ребятами и уходить в чужую станицу, но все же казачка была ему любопытна.
– Тетя, а вы правда казачка? – спросил он ее слабым голосом.

![Книга Из карманных записных книжек [ДО] автора Николай Гоголь](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-iz-karmannyh-zapisnyh-knizhek-do-258489.jpg)