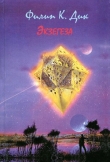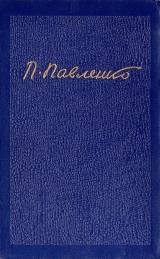
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 38 страниц)
Так, фраза за фразой, сюжет за сюжетом, вперемежку, создаются маленькие рассказы о людях нового, советского Дагестана.
И когда я добираюсь до Сулеймана Стальского, мне кажется, я уже хорошо его знаю.
Он живет в небольшом ауле за Касумкентом. Его стихи знает весь Дагестан. Аварцы, даргинцы и поэты других дагестанских народов, языком которых он не владеет, приезжают к нему советоваться о делах поэзии и слушать его стихи. Он поет негромким, чуть вздрагивающим старческим голосом, пристально глядя в глаза слушателю и скупо жестикулируя рукой. Движения его руки медленны и очень достойны, продуманны. Правой рукой оттеняя чтение, в левой он часто держит мундштук с папиросой-самокруткой, к которому не прикасается губами, пока не окончит пения.
Он не поет, он получитает, полупоет, он размышляет нараспев. Мы (Н. С. Тихонов, В. А. Луговской и я) приходим к нему вечером июльского дня. Вот невысокий, хоть и в два этажа, дом из глины с саманом, щуплый старичок в древнем домашнем бешмете ведет за рога буйволенка из сада в плетеный загон. Буйволенок норовит вырваться, но старик крепко держит его за рога и хлопотливо семенит босыми ногами.
Гостей он не ждал и смущен. По деревянной лесенке гости поднимаются во второй этаж, в кунакскую. Серые глинобитные стены, серый пол, прикрытый старенькими паласами, на полках вдоль стен сияние медных кастрюль и блюд, лучшего украшения восточного жилища.
Но комнаты малы, в них будет нам всем тесновато, тем более что уже началась суета – готовят чай.
Мы спускаемся на лужайку перед домом на стыке между несколькими садами, садимся на теплую траву кружком вокруг хозяина, и сын его приносит с собой тетрадь стихов отца – новшество, недавно заведенное сыном в дому.
Сулейман владеет – как помнится – тремя языками: лезгинским, тюркским и, кажется, персидским, этим международным языком Востока, языком старой поэзии. Следовательно, его нельзя назвать неграмотным человеком, хотя он действительно не пишет и не читает ни на одном языке. Его поэтические знания, повидимому, колоссальны и усвоены крепко, потому что не хранятся в справочниках и архивах, а погружены в память, тренируемую лет с десяти.
Он невысок, сух, общителен. Лицо с короткой черно-седой бородкой и усами, закрученными на концах чуть-чуть вверх, – очень городское, очень культурное, тонкое (почти персидское по мелкому рисунку линий, по выражению изящества).
Сочинять стихи и петь он начал в раннем детстве. Какой-то бродячий певец поразил его воображение могуществом песни, и Сулейман начал слагать свои стихи раньше, чем произнес их вслух. Он был уже взрослым человеком, когда вызвал на соревнование пришедших в аул певцов, победил их в песнях и, отобрав хамус, запретил посещать Ашага-Сталь. С той поры вот уже лет тридцать пять ни один ашуг не заходил в селение, где живет Сулейман, потому что никто не рассчитывает победить этого тщедушного на вид, но могучего душой старика.
Став поэтом, Сулейман не прекращал заниматься хозяйством, да и теперь занимается им, как и в молодости, слагая песни во время работы. Он знает, что его песни поются всюду, где люди понимают лезгинский язык, но он удивлен, узнав, что переведен и напечатан по-русски в нескольких журналах. Он не видел этих журналов, не получал гонораров; переводчики, хвастаясь открытием нового поэта, не удосужились ни послать ему переводов, ни денег за стихи.
Это было летом 1933 года.
– Кто же мои гости? – учтиво спрашивает поэт, и товарищ, мужественно пытающийся говорить сразу на двух языках – кумыкском и тюркском, объясняет, что в числе приехавших два русских стихотворца.
– Вы пишете или поете? – спрашивает он гостей.
– Мы пишем, – отвечают они ему.
– Я думаю, что написать все можно, но тогда не горит, не рвется сердце. Я, когда хочу сложить песню, все бросаю. Если работаю на поле – оставлю дело, берусь за песню. Тут сразу кричу соседям: идите слушайте, вышла песня!
Он тихим голосом просит, чтобы гости прочитали свои стихи.
Первым читает Луговской стихотворение «Учитель».
Медленно скручивая папиросу длинными, сухими пальцами и слегка прищурив глаза, Сулейман слушает, едва заметно шевеля губами в такт мелодии.
Затем ему переводят.
– Очень хорошая песня, – говорит он просто, задумывается на секунду, как бы повторяя ритм и тему прослушанного, и повторяет, подняв брови: – Хороша, очень хороша.
Вторым читает Николай Тихонов. Сулейман очень внимательно, как-то вбок слушает чтение, пристально глядит вдаль и, получив перевод, говорит:
– И эта песня очень хорошая. Легко идет, сильно.
Он вспоминает, как когда-то давно в песне поведал он о голоде своей страны и уездный начальник запретил ему слагать песни. Но в том-то и счастье поэта, что песня не требует ни бумаги, ни печатных машин, – она идет от сердца к сердцу, ее передать можно шопотом – и песня бежит по секрету от одного к другому и вдруг становится общей. Лезгин сам иной раз не знал, услышал ли он ее от соседа, или придумал в час голодного сна…
Над вечереющею поляной стоят последние лучи солнца. Листва дрожит на свету. Мы сидим на корточках посредине поляны, за нашими спинами толпятся ашагастальцы.
Мы говорим о песнях, об искусстве, о Дагестане. Сулейман рассказывает или читает стихи вместо ответа, потому что все большое, что пережито страной, воспето им. Когда он на секунду задерживает строку – толпа подсказывает ее поэту.
– Вот мои книги, – говорит, показывая на них, Сулейман. – У них в голове записаны все песни, что я сложил. Я даже и ошибаться не могу, они все знают.
И гортанным голосом, очень звучным и гибким для его лет, полупоет, полумечтает. Его простое мудрое лицо торжественно. Он не эстет, скандирующий стихи для рекламы, не бродячий увеселитель, задабривающий слушателя дешевой остротой, не позер, играющий мудреца. Он поет, он думает вслух о том, о чем про себя мечтают и думают все, говорит о печалях, находит путь к радостям и мечтает о будущем, глядя в себя.
Его хочется сравнить с Рабиндранатом Тагором, но это сравнение было бы пустой параллелью. Он не Тагор, но, быть может, такими, как Сулейман, будут поэты будущего. Вернувшись с поля и поставив в стойло быков, он выйдет на поляну и, смахнув пот с усталого лица, голосом, прерывающимся от волнения, пропоет песню, от которой все вздрогнут.
Вздрогнут оттого, что она близка всем и давно копошилась внутри каждого, но вот поэт вырвал ее из отдельных сердец и вновь возвращает сердцу обогащенной общей мудростью. И люди, только что проведшие горячий день на полях, усталые, черные от загара, стоят, не шелохнувшись и почти не дыша. Они отдали старику Сулейману свои глаза, свой слух, свои чувства, и вот что он увидел всеми глазами, всеми ушами, пережил всеми чувствами, пока они работали в поле.
Странная мысль мелькнула у меня тогда: этот удивительный старец, никогда не покидавший родных гор и не владевший грамотой, вел себя как Маяковский. То же рабочее отношение к стиху, та же воинственность, та же любовь к живому общению с читателем – слушателем. Мы говорили с Сулейманом о Максиме Горьком и о новых месторождениях нефти. Хозяин с великолепным достоинством руководил беседой.
Никто из нас четверых не предполагал, что мы все встретимся в Москве и что это произойдет на 1-м Всесоюзном съезде писателей. Счастье познакомить Сулеймана с Алексеем Максимовичем выпало на мою долю.
Дело было в Доме Союзов, в маленькой комнатке, где в перерывах между заседаниями отдыхали члены президиума съезда.
Я вел Сулеймана под руку и, пользуясь услугами товарища, знавшего азербайджанский язык, которым Сулейман владел так же хорошо, как родным лезгинским, шепнул, что смущаться не следует. В тот момент навстречу Сулейману поднялся Горький.
– Здравствуйте, дорогой товарищ, – сказал он, беря Сулеймана за руку и усаживая к столу. – Очень рад вас увидеть, очень рад…
Сулейман взглянул снизу (он был невысок, а рядом с огромным Горьким казался и совсем маленьким) на Алексея Максимовича и, чуть улыбаясь, сказал:
– Я очень рад, что мы с вами старики. Легче беседовать, когда люди одного возраста, – и, властно подозвав переводчика, стал спокойно говорить о поэзии, как он понимал ее и как он хотел, чтобы все понимали, потому что, говорил он, без песен никто еще не жил и нельзя жить, но что ему не совсем ясно, может ли написанная поэзия заменить устную, ибо бумага не в состоянии передать интонаций поэта.
Горький горячо возражал. Он говорил о том, что поэт влияет на массы не голосом, а мыслью и что ему, например, нет никакой возможности объехать всех своих читателей, если бы он возымел желание лично читать им написанное.
– Один услышит – другому скажет, третий – сам прибежит, – упорствовал в своем мнении. Сулейман, и разговор принял характер почти дискуссии.
И странно было глядеть на собеседников, горячо защищавших свои точки зрения, и неправдоподобной казалась эта беседа: между людьми, из которых один был образованнейшим человеком современности, а другой только впервые услышал радио.
Так говорить могли только давние друзья, разделенные расстоянием, но никогда не терявшие связи друг с другом и отлично один другого знавшие.
И, конечно, это была дружба, несколько необычайная и даже, быть может, странная, но дружба, мыслимая лишь у нас, в советской действительности, и дружбу эту не с чем было сравнить, ибо она была немыслима лет двадцать – тридцать тому назад.
…Через некоторое время Сулейман вновь приехал в Москву, кажется на совещание передовиков-животноводов, и от него позвонили, что он хочет видеть меня.
Дело шло о каких-то породах скота, которые должны были быть ввезены в Дагестан, но неизвестно почему не ввозились, а Сулейман не знал, как помочь делу.
– Вот, кунак, какие мы теперь дела делаем, – сказал он, – песню про это сложить – не так помогает, и вижу я, дело к бумаге клонится. Нехорошо. Я говорить могу, писать не умею, и выходит, Горький правильно говорил: голос не везде действует.
Потом Сулейман спросил, чем я занят. Я рассказал, что собираюсь писать о Дальнем Востоке.
– Правильно, – согласился он. – Все мы о близких местах пишем, дальние места без нас живут, неладно это. Привет там от меня передай, скажи – старый Сулейман из Ашага-Стали поклон послал. Наверное, там тоже мои кунаки есть… Лезгины наши где только не бывают! – шутливо добавил он.
Но голос его тогда уже звучал не для одних только дагестанцев, и он знал об этом, по нисколько этому не удивлялся, а считал это вполне естественным и нормальным.
В этом спокойном отношении к своей огромнейшей и при том быстро вспыхнувшей известности было нечто эпическое. Пожалуй, его объясняла фраза, которую часто повторял Сулейман:
– Дружу с тем, что делается вокруг. Весело мне.
Дружба со всей эпохой, с делами своего времени, – вот где источник его спокойствия, его мудрости, и это то единственное и ничем не заменимое, что так роднит между собою всех нас, разноязычных, разноплеменных, старых и молодых, пишущих и устно творящих…
1935–1948–1951
Писатель должен быть бойцом
Сегодняшнее оборонное совещание является и событием моей личной жизни, потому что на нем очень много и хорошо говорили о моей мните.
Но в день успеха я не могу, не должен забывать, что не всегда в моей литературной жизни меня сопровождал такой успех.
Я начал с ошибок и работал одно время плохо, неверно. Я начал свою литературную жизнь, путаясь в «Перевале».
Мое счастье, что я быстро ушел оттуда, быстро порвал с этой группировкой, политическая характеристика которой нам известна.
Уйти из «Перевала», порвать с его людьми и его идеями было лишь началом дела. Сойти с определенной политической линии, порвать с ее людьми – еще не значит противопоставить себя им, и борьба моя с этим влиянием должна была продолжаться в творчестве.
Уехав в Туркмению после выхода из «Перевала», я написал книги о Средней Азии, и, написав их, я понял, что влияние «перевальских» идей неощутимо еще гнездилось в творческом комплексе моих идей. Помимо политического разложения, «Перевал» воспитывал вялость, инертность в литературе, любовь к малой, своей, – боже упаси, только не общей, а именно своей одиночной теме, теме оригинальной души.
Долгое время сказывался «Перевал» на моей работе. Когда я написал «Пустыню», она была принята не плохо, но я скоро понял, что это не то, что надо было писать. Я должен был написать лучше, шире, чем написал.
После моей книги о Средней Азии мне захотелось написать о Парижской коммуне. Может показаться неожиданным такое желание. Но это была внутренняя, своя очень маленькая борьба с тем провинциализмом «перевальчества», который существовал у нас долгое время. Любовь не к той русской теме, о которой прекрасно говорил Вишневский, а к ложнорусской теме, стилизованной под Палех, которая долгое время у нас насаждалась.
Хотелось выскочить из этой темы и говорить о Парижской коммуне, как о родном нашем деле, как о нашем наследстве.
Написав «Баррикады», я, однако, не чувствовал такого огромного удовлетворения и счастья, какое я чувствую, написав «На Востоке».
Я писал «На Востоке» очень трудно. Много раз малодушие сковывало меня, и я думал: чорт возьми, взялся я за тему непосильную, очень трудную, может быть лучше уж писать что-нибудь про царевну Софью. Спокойнее как-то! А тут не знаешь, нужно ли это политически, или не нужно. Но должен сказать, что я испытываю невероятное наслаждение, написав книгу. Оказалось, книга нужна стране. Книга получилась. Уже кончая ее, я почувствовал, что делаю огромное дело, что я в сущности являюсь представителем громадного коллектива людей, которые хотят, чтобы эта книга появилась, как их книга. Если бы я был раздавлен трамваем, то люди, которые имели отношение к моей книге, довели бы ее без меня до благополучного конца. Сегодня я выступаю как представитель многих людей, писавших «На Востоке».
Вот такого ощущения своей связи с читателями я раньше никогда не испытывал. Трудность темы явилась ее огромным счастьем. Потеряв много здоровья на этой теме, я вдруг пришел к простому сознанию, что по существу только такие книги есть смысл писать. Я не хотел бы сейчас написать ни одной из моих ранних книг, которые я могу назвать единоличными, одиночными книгами. Хочу и буду писать только острые книги, трудно рождающиеся. Наступит время, когда мы сможем говорить о своих книгах: не я их сделал, а мы их сделали, не я их задумал, а тысячи их задумали. С гордостью и радостью говорю, что над нею работали многие командиры, комиссары и политические работники нашей страны. Мы все писали книгу. Пусть услышат они сегодня, как хвалят их и мою, нашу работу. Так писалась и моя книга…
Сейчас мне просто не хочется возвращаться к какой-нибудь спокойной теме. Нужно писать только самое острое, самое нужное, самое отчаянно важное.
Книгу «На Востоке» я писал не так, как прежние свои книги, а так, как, может быть, нужно писать нам всем.
И прежде всего никогда не нужно засекречивать свою тему.
Наши более старшие товарищи иногда сидят на сундуках своих тем, и до чего же это глупо! Когда спрашиваешь – что вы пишете, он тебе отвечает – «кое-что будет».
Я хочу копаться в «сундуке» Леонова, как в своем собственном. Я ничего у Леонова не украду. Когда в моем сундуке копались десятки и сотни людей, я знал, что они оставят у меня все мое и никто ничего не украдет. Если, забираясь в сундук моей темы, мне иногда летчик или танкист говорил неправильно, то ведь он говорил не из желания ухудшить мою работу, а наоборот, из горячего желания помочь – даже больше, – желания отвечать за мою работу, и такого советчика надо было допустить к сундуку моих тем.
Я работал над книгой, не думая заранее, в каком жанре она получится, не создавал ее плана. Могуч поток советской творческой жизни, и я хотел одного – дать симфонию этого потока. Меня обвиняли в рыхлости сюжета, но мне хотелось, повторяю, описать поточность наших дней, их бег, их вал, когда одна жизнь исчезает, но другая подкатит незавершенное дело и понесет дальше. Меняются, исчезают биографии, но идет, подымается общая наша, великая советская жизнь.
Скажу одно. Я пробыл в ОКДВА полгода и вернулся оттуда другим человеком. Человек слабого здоровья, я полтора года писал «Баррикады», в восемь печатных листов. Роман «На Востоке» в 22 листа я писал тоже полтора года и, кроме того, еще успел написать сценарий «Мужество», да еще второй оборонный сценарий и начать оборонную пьесу. Правда, я ее не сделал, но писать начал.
Сам удивляюсь, откуда у меня появилась такая работоспособность. Только от той смелости, от той школы, которую я получил на Дальнем Востоке, в нашей Дальневосточной армии.
Чем больше, чем государственнее тема, тем скорее ее пишешь. Я, например, боялся, что война опередит книгу. У меня не выходили некоторые персонажи, я задерживал работу.
Тогда мне говорили: «Что ты мудрствуешь! Если не выходит – брось». Пиши я эту вещь о чем-нибудь другом, я бы, возможно, еще год ее прописал. А тут некогда было думать.
У нас у всех есть плохая черта – оглядываться на прошлое. Пишем, оглядываемся и смотрим, хуже или лучше было у Куприна или у Андреева. Эту ерунду нужно бросить. Надо писать нужную вещь так, чтобы она вышла вовремя.
Что бы мне хотелось делать дальше? Я бы хотел остаться писателем военной темы.
Сейчас наша военная тема – тема строительства, ибо наша война – это созидательная война, наши бойцы и командиры – строители. Они будут строить ревкомы и воспитывать людей на тех территориях, где придется драться. Мы строим, а не уничтожаем. Военная тема – тема величайшего строительства, и это гуманитарная тема, несмотря на то, что это смертная тема.
Повторяю – до конца своей жизни хочу остаться военным писателем.
Когда я написал «Баррикады», то чувствовал, что я боец, который еще не умеет так завертывать портянки, чтобы они не натирали ног. Теперь я понял, что я умею «заворачивать портянки», и мне приятно, что я встал в боевом ряду рядом с Вишневским. Это место я не уступлю никому и никогда.
1937
Просто, понятно, точно…
Двадцатипятилетний юбилей «Правды» я праздную не только как коммунист, для которого «Правда» является могучим ленинско-сталинским голосом коммунистической партии, но как литератор и молодой работник «Правды».
Что дала мне «Правда» как литератору?
Твердую, ясную позицию в вопросах литературы, потому что именно «Правда» с ярой непримиримостью и последовательностью боролась за партийную линию против всяческих перегибов, против разрушительной работы последышей троцкизма, воспитывая в нас чувство партийной ответственности за искусство.
Работа в «Правде» учит писать просто, понятно, точно, то есть учит тем качествам, которые так часто неизвестны и как бы даже чужды нашей прозе, как огня боящейся газетной работы.
Но именно по газете, по «Правде», учишься определять жизненность или надуманность своих образов, правильность своей манеры писать, потому что любая самая маленькая работа рассчитана на то, чтобы дойти до миллионов читателей.
Следовательно, любая, самая маленькая ошибка тоже помножается на миллионы.
«Правда» учит литератора, в ней работающего, свои собственные романы строить и писать так, как если бы он их писал для боевых страниц «Правды».
В ее школе приобретаешь качества политического работника, не теряя и не дробя качеств художника.
С радостью и гордостью вспоминаю также и то, что именно «Правда» дала мне возможность поехать на Дальний Восток и написать роман о нем.
1937
Оборонная литература
Тема защиты родины и боевого подвига родилась вместе с историей народов. На этой теме вырос эпос. Образ воина всегда был – в глазах народа – образом чести и славы, а поля исторических битв не кладбищами, а памятниками его национальной силы и государственного достоинства.
Игорь ли из «Слова о полку», Добрыня ли Никитич или Илья Муромец из былин – все это образы самого народа, его персонифицированная воля к самостоятельности, и посейчас волнующая нас, несмотря на то, что забыты самые условия, в которых приходилось действовать народным героям. Забыта обстановка, но живы и волнуют нас характеры, увлекают героические дела.
Тема защиты родины не иссякала в народе и в творчестве лучших художников слова даже в периоды, когда условия государственной жизни вносили разлад и двойственность в общественное сознание, когда царский гнет иссушал, мертвил любовь к своему отечеству и ослаблял веру в его достойное будущее.
«Полтава» Пушкина и «Бородино» Лермонтова были глубоко народны именно гордостью за мужество и стойкость, проявленные русским народом в годы страшных угроз его самостоятельности.
От былин, через Пушкина и Толстого, к великим песням нашей гражданской войны идет славная традиция оборонной темы, обогащенная после Октября новым, революционным содержанием.
В. Маяковский и Д. Бедный поднимают эту тему как знамя, и «Окна РОСТа» Маяковского вместе с баснями Д. Бедного, их подписи на плакатах становятся лозунгами, поговорками и остротами всех лет гражданской войны.
Пришел Серафимович с «Железным потоком», Фурманов с «Чапаевым» и «Мятежом», Фадеев с «Разгромом», и тема защиты социалистической родины стала еще шире и глубже, развернув нам образы нового героизма, не героизма смерти и гибели, а жизни и созидания под ленинско-сталинскими знаменами. Когда в боях с белыми генералами народы Советского Союза добывали право на свободную, мирную, социалистическую жизнь, они решали судьбы всех народов мира.
Когда советская литература дала первые свои книги об этой новой для мира, впервые справедливой, войне, она дала в руки миллионов хорошо записанный опыт, как сражаться и побеждать за социализм.
Образ Чапаева становится мировым. Но он лишь первый в ряду многих других, уже давно созданных героической революцией, но еще не отображенных искусством.
Рождаются первые краснофлотские песни Асеева. Вс. Иванов дает образ китайского батрака, борющегося за русскую революцию в рядах сибирских партизан. Показывают героических революционных матросов на сцене Билль-Белоцерковский и Лавренев; Шолохов записывает героику Дона Красного; Вс. Вишневский, по-новому пронеся тему 1-й Конной и балтийских моряков, включает героев нашей гражданской войны в живую борьбу сегодняшней Испании, как непосредственных участников великого общеевропейского дела. «Цусима» А. Новикова-Прибоя, книга гибели царского флота в руках бездарнейших адмиралов, становится книгой уроков и книгой матросской славы.
А. Толстой в «Хождении по мукам», К. Федин в «Городах и годах», Малышкин в «Севастополе», Ставский в книге рассказов «Сильнее смерти», Ромашов в «Огненном мосту» и «Бойцах», Л. Никулин в рассказах о гражданской войне и затем Соболев («Капитальный ремонт»), Слонимский («Повесть о Левинэ» и «Пограничники»), Лапин («Подвиг»), Л. Рубинштейн («Тропа самураев»), М. Залка («Добердо»), Корнейчук («Гибель эскадры»), Вирта («Одиночество»), Павленко («На Востоке»), Яновский и др. – разрабатывают все шире и глубже, все разнообразнее в плане жанров развертывают тему защиты социалистической родины. Они по-новому рассматривают героику гражданской войны, то заглядывают вперед, в очертания будущих войн, то показывают быт и будни Красной армии, типы и характеры бойцов и командиров, то, наконец, развертывают картины авангардных боев зарубежного пролетариата или рисуют советскому читателю образы врага.
Тему эту наполняет боевым пафосом многое увидевший в Испании М. Кольцов. Ее – оборонную тему – начинает глубоко понимать ранее далекий от нее И. Эренбург. К ней приходит в последней своей книге В. Катаев. К ней, после «Наследников», возвращается Л. Славин. Неустанно работают Г. Фиш, Вашенцев, Первенцев и много других товарищей, сделавших делом жизни показ боевой героики советского человека.
Но, пробежав по вехам прозаических книг, вошедших в той или иной степени в славный фонд оборонной литературы (и не касаясь других книг, оборонных по своему смыслу и существу, хотя и трактующих «гражданские» темы), мы должны особо остановиться на нашей оборонной поэзии.
За двадцать лет своего развития советская боевая красноармейская песня стала песней трудящихся всего мира. Ее поют всюду – и в окопах Мадрида и Шанхая, и на парижских улицах, и в фашистских застенках. Имена Маяковского, Д. Бедного, Асеева, Н. Тихонова, Суркова, Жарова, Гусева, М. Голодного, Луговского, Прокофьева, Алтаузена, Светлова, Саянова, Лебедева-Кумача и других наших песенников и певцов оборонной темы стали известны и дороги широчайшим массам.
Есть что петь в мирном быту, будет что петь и в борьбе. Уже поют и любят наши песни далеко за пределами Советского Союза, – об этом стоит вспомнить перед октябрьскими днями. Советская песня не один раз водила бойцов в сражения, и водит их, и еще будет водить к славным историческим победам социалистической жизни, под знаменами Ленина – Сталина. Но двадцать лет Октября есть рубеж, ставящий перед оборонниками еще более сложные и вдохновенные задачи.
Нам, оборонникам, нужно глубоко вскопать историю наших советских народов, извлечь из нее и показать миру наиболее героические страницы народных войн. Еще и еще обратиться к эпосу гражданской войны, чтобы создать книги о Сталине – полководце, о Фрунзе, Ворошилове, Буденном, Щорсе.
Нам нужно писать о сегодняшних героях Красной Армии, о ее знаменитых и славных бойцах, защищающих рубежи Союза, о будничном героизме пограничников.
У нас мало книг о Красном Флоте и Красной Авиации и нет ничего о командирах – Героях Советского Союза.
Мало книг и о наших возможных врагах, мало книг о будущих войнах, о героях антияпонской борьбы в Китае.
Все это нужно нам, и нужно скоро.
Кадры оборонных писателей, имевших в своих рядах Матэ Залку (генерала Лукача), – крепкие, упорные кадры. Творчество М. Кольцова тому пример.
Тема защиты родины растет, привлекая к себе все новые и новые писательские силы, воспитывая их и вооружая идейно-творчески. Эта тема силы и славы нашего государства, мощи нашей Красной Армии, единства наших народов. Ей предстоит широкое будущее. Ее ждет широкий читатель. Это тема верности сталинскому знамени, знамени наших побед, нашего счастья, нашего будущего!
1937

![Книга Из карманных записных книжек [ДО] автора Николай Гоголь](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-iz-karmannyh-zapisnyh-knizhek-do-258489.jpg)