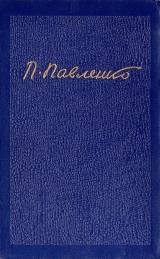
Текст книги "Собрание сочинений. Том 6"
Автор книги: Петр Павленко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
Когда после доброго часа ругани и посылки лодок с заводными канатами бот снялся с мели, ни старичка, ни девушки с безумным лицом нигде не оказалось.
На утро станица Т., и хутор за Кубанью, и железнодорожная станция, что в двенадцати километрах, и совхоз, и зверопитомник только и говорили о том, что вчера ночью от немцев сбежал знаменитый кубанский мститель Опанас Иванович Цымбал, попавший в руки немцев под другим именем.
– Дай ему бог дорогу! – говорили старые казаки, а старухи, ложась спать, прислушивались к каждому шороху за стеной хаты – не попросится ль кто ночевать. Но Цымбал не объявился. Он был уже далеко. Той ночью, когда, покинув бот вместе с Ксенией, он, как советовал ему Закордонный, пробрался по-над берегом в лесок, забирая как можно левее, – он виделся только с двумя-тремя старыми приятелями в хатенке Закордонного.
История Цымбала со времени боя за степную переправу на Безымянке выросла не в обыкновенную большую жизнь человеческую, а в легендарное народное житие, когда кажется, что и тот, кому посвящена легенда, не больше, как рассказчик событий, свершающихся со всеми.
О гибели Григория передавали разно и чем далее, тем все с большими преувеличениями, будто бы Опанас за сына уничтожил две тысячи немцев да еще написал письмо их генералу, что программу свою считает невыполненной.
Говорили, что Опанас Иванович дал зарок – хоть всех детей и внуков положить, но сто тысяч немцев обязательно успокоить, и что будто бы в этом духе он даже напечатал письмо с призывом ко всем своим, разбросанным по фронтам.
К истории о гибели сына присоединили рассказ об измене зятя, Ильи Куроверова, который-де оказался у немцев и обещал словить и доставить начальству беспокойного тестя своего, а также и жену свою Веру, если они попадутся ему на глаза.
Старик, узнав о таком илюнькином обещании, не стал ждать, явился к нему сам и застрелил, что поздоровался.
Утверждали, клянясь, что раненная под Ростовом дочь его Вера Опанасовна, жена Илюньки Куроверова, после того разыскала отца (она будто бы тоже не ушла с Кубани, а хоронилась у добрых людей) и рука в руку с отцом два месяца сражалась за Лабой в партизанских отрядах, пока шальная пуля не остановила ее жизни.
По рассказам знающих, Опанас Иванович после Лабы ушел из отряда с внучкой Ксеней и молодым казаком Колькой Белым под Краснодар, но в сентябре его и внучку, однако без Белого, видели на Кавказской, встречали в Армавире.
И сейчас же началось там такое, чего все ждали, но на что никто до той поры не рисковал, – немец узнал и что такое осенняя кубанская ночь, и что таит в себе степь кубанская, и что обещает бурная и открытая Кубань-река.
За голову старого Цымбала немцы обещали большие деньги. Его фотографии – и в форме, с георгиевскими крестами и «Красным Знаменем» на груди, и в рабочем виде, каким он выглядел в мирные дни на хуторских виноградниках, – были разосланы всем станичным атаманам, всем гестаповцам на железнодорожных станциях.
Когда один кто-нибудь делает то, что мечтают делать сотни и тысячи других, молва приписывает ему столько же вероятного, сколько и невероятного, столько же осуществимого, сколько и невозможного. Видя в таком человеке самого себя, каждый отдает ему и лучшие свои мысли и благороднейшие поступки. Все, что свершается доброго, дело его рук. Злое имеет место, только когда он вдали, и чем меньше способны сделать люди, верящие в своего героя, тем больше чудес приписывают они избраннику своих тайных надежд и упований…
Опанас Иванович стал именно таким всеобщим героем.
Он знал о своей славе и не гнал ее от себя, но как бы молчаливо терпел до поры до времени.
На вопросы, он ли действительно сделал то-то и то-то, Опанас Иванович никогда прямо не отвечал, точно это были вопросы, в высшей степени неприличные, касающиеся секретнейших тем, а когда очень надоедали ему, отмахивался, приговаривая:
– Честному зачтется, с подлеца вычтется.
Но утаивая масштабы собственного участия в освободительной борьбе, он не жалел слов, рассказывая о чужих подвигах.
Казалось, – и Опанас Иванович это подчеркивал, – что он в курсе всех дел и настроений на оккупированной немцами Кубани, в связи со всеми активными ее силами и потому знает решительно все и обо всем может судить на основании точных данных…
Старики сидели в ту ночь в шалашике у реки. Внучек Закордонного, мальчик лет четырнадцати, стоял на страже. Он был взволнован появлением знаменитого Цымбала и гордился, что ему поручено охранять его. Несколько раз он уже подходил к беседующим старикам, разглядывал их, будто убеждаясь, они ли это, и опять тихо исчезал за деревьями.
Опанас Иванович рассказывал, какие события назревают на Кубани и какой линии держатся наши в Армавире и Краснодаре.
– Фашиста убить все равно что своего сберечь, – отрывисто говорил Опанас Иванович, пытливо разглядывая лица слушавших его. – Десяток убил, свой народ на девять душ уберег, а то и увеличил на десять душ. Вот так и действуют, и вам так советую. Я старик, и то таким манером живу. Как его не уничтожу, так будто и не жил. Партизанствуйте всеми силами, ждать нечего. В Армавире ребятишки, и те в отряды сгарбузовались, связь режут, автомобили из строя выводят, к минам приглядываются… Поняли? Как немец станет назад заворачивать, дома обязательно начнет рвать, мимы под них ставить. Разминировать придется.
– Дождемся ль когда наших-то? – вздохнул Закордонный.
– Дождемся, – твердо сказал Опанас Иванович. – На Тереке, – давеча один словак мне рассказывал, – немца уже горячка треплет. Надо хороших дел ожидать. А как услышите, что наши ударили, враз беритесь за топоры. Тут приказа ждать нечего.
Как бы случайно положил Опанас Иванович руку на плечо Ксени. Она поняла что-то и, встав, вышла из шалаша.
Опанас Иванович продолжал:
– В Краснодаре многих я видел. Доходят весточки и от наших кубанцев с фронта. С генералом Кириченкой в моздокских степях дают они немцу пить.
– Доброе дело, – сказали старики. – А поименно ничего не слыхал, не рассказывали?
– Ивана Евдокимовича Хрулева кто из вас знает?
– Ну, этот… он всегда на всех съездах, слетах бороду, что павлин свой хвост, распустит…
– Ну, ну, ну…
– Так он, рассказывали, за один бой семь танков, старый чорт, подбил.
Старики довольно рассмеялись.
Шурин Дряпаченкова Антона Иваныча тоже кавалер двух орденов, сынишка Гендлера, был у нас такой винодел, тоже вверх вылез, из ваших Чвялева поминали, Топоркова, Варвару Парникову…
– И Варвара в строю?
– В строю, как же. Разведчик.
Пока Опанас Иванович перебирал подвиги кубанцев, о которых довелось ему слышать от верных людей, Ксеня, все так же опустив голову, будто что-то ища на земле, пошла по саду.
Внук Закордонного вышел ей навстречу.
– Вы куда, не в хату к нам? – застенчиво спросил он ее. – А то я вас проведу, идемте.
– Погоди, – тихо сказала Ксеня. – Чего мне в хату к вам ходить?.. Я к тебе. Давай сядем.
Мальчик не спускал с Ксени глаз.
– Это дед твой? – спросил он.
– Дед.
И боясь, что он начнет расспрашивать ее о том, чего ей не хотелось касаться, она быстро спросила:
– А ты как, занимаешься немцами? Что так?.. А ты один, один, без компании. Свой риск, свой и писк, как дед говорит. Одному хорошо, вольно.
Говоря, она подняла лицо, и взгляд ее всегда опущенных глаз стал остер и светел.
– А ты? – хрипло спросил ее мальчик.
Она кивнула головой.
И, помолчав, придвинулась к мальчику.
– Хочешь?
– Что? – одними губами спросил он ее.
– Вместе чего-нибудь сегодня сделаем. Паром затопим, канат – в воду… провода я, как шли мы с партией, подметила… в три ряда… Это куда?
– На Крапоткин.
– Вот и здорово. Ты только кусачки мне достань да финочку или кинжальчик… Достань, родной, а то свое добро все пораскидала, теперь – как без рук.
Она взяла мальчика за руку, встряхнула ее.
– Твоих годов которые, уже ордена имеют. У деда все они записаны.
– Подожди у реки, я сейчас, – сказал мальчик.
Когда Ксеня вошла, Опанас Иванович, не взглянув на нее, продолжал рассказывать о знакомых кубанцах и как сражались они в степях, и как обороняли Туапсе, и как действовали в камышах, у моря.
– Там мой дружок Савка Белый такую войну развел, не приведи господь. Из воды и камышей носу не кажет, но беды немцам много наделал. Да! – вспомнил он. – Поп у нас был расстриженный, Владимир Георгиевич Терещенко. Сначала было в добровольцы записался, ну, однако, не приняли его. А тут в скорости и немцы – на Кубань, он туда-сюда, взял да и надел рясу. Немцы – к нему: «Поп?» – «Точно так, поп». – «Ну, значит, и служи обедни, если поп». Он и начал. С хаты в хату, с хутора в хутор, якобы сбор на построение храма ведет, а сам между тем дело делает.
В Краснодаре даже в газетке объявил, что-де объявлен сбор на построение храма в память спасения родины. А потом раз – денежки через фронт, на танковую колонну «Кубанец». Немцы – к нему, а его уж и следа нет…
– А твои, Опанас Иванович, не слыхать, как и что, где воюют, здоровы ли? – спросил Закордонный.
Цымбал поглядел в сторону.
– Все навстречу жизни идут. Как я, как Григорий.
– Слушок у нас был, что ты втроех действовал, верно ли?
– Было, верно, – так же сухо ответил Опанас Иванович. – А теперь вот вдвоем с внучкой остались… Ничего. Все к жизни идем, вперед идем. Были б первые, вторые да третьи всегда найдутся.
Он явно не хотел говорить на эту тему и сразу перешел на другую.
– Много думал я, дорогие мои, много ночей не спал – как жить станем после войны, где силы возьмем. А один старичок мне и сказал: тю, дурной, да ведь сколь людей не убивают, а их сила в землю не хоронится, с костями не гниет, а в нас входит. Я, говорит он мне, до войны семь раз на неделю болел, а нынче топором меня с ног не сшибешь. Кто, говорит, жив останется – у того сил прибудет. Хоть миллион нас останется, а силы будет все равно, что у ста миллионов. Русский народ, говорит, приемистый, у него душа с ящичком… клади, что хочешь, не потеряется.
Цымбал передавал речь старика, чуть улыбаясь и как бы слегка вышучивая ее, но, видно, и сам был того же мнения о войне и людях.
– Да-а, народ покрупнел, – согласился и Закордонный.
– На кого ни поглядишь, все сильней стали, доброту эту с себя сбросили, шаг тверже, глаз острей, это верно, и я заметил… Тебе, Опанас Иванович, не пора отдохнуть?
– Пора, пора, – сказал Цымбал. – До зари надобно подальше куда убраться… Сапожник был тут у вас на Стекольном, хромой… Жив он?
– Жив, – сказал Закордонный. – Он примет, человек свой. Ну, прощай, Опанас Иванович. Тут вам старуха собрала поесть-попить, в уголке, под холстиночкой…
– Прощай, кум. Под мой счет вы тут размежовку кой-какую можете сделать, убрать кого надо. Чтоб своих не подводить, на меня валите.
Закордонный поглядел на все время молчавших одностаничников.
– Это сделается, – сказал он. – Сначала тебя проводить надо.
– Ну, дай вам боже лебединый вiк да журавлиный крiк.
– До победы! – И Цымбал перецеловался со стариками.
– До победы, Иваныч!
Старики быстро слились с черной ночью.
Опанас Иванович стоял, глядя в небо…
– Пойдем или сначала будем ужинать? – безразличным голосом спросила его Ксеня.
– Поесть и в пути успеем. Разжилась инструмента?
– Разжилась, – так же скупо, точно неволя слова, ответила Ксеня и, быстро увязав в холстинку оставленный для них ужин и выглядывая мальчика, который должен был передать ей кусачки и нож, пошла к реке.
Тот, кто знавал раньше эту веселую, шуструю девушку, теперь бы не узнал ее в скромной, много перестрадавшей и много затаившей на сердце женщине, какой она казалась по манере держаться, по замкнутости, по истомленности взгляда, рассеянно скользящего по предметам.
В ней ничего не осталось от прежней Ксени. Не похожа она была и на ту себя, ненасытно пожиравшую впечатления жизни в первые дни боевой страды. Теперешняя Ксеня была девушкой-вдовицей. Еще не начав жить, она уже познала горечь утраты, несчастие смертей, ужас бедствий, пришедших вместе с проклятым немцем. Но без слез расставшись с мирною хуторскою жизнью, Ксеня потом быстро освоилась с военным бытом.
Девушку в шестнадцать лет не трудно увлечь повествованиями о подвигах, о веселой полковой жизни, проходящей в походах по неизвестным краям и областям. Она знала, кроме того, что ее уход на войну – это патриотизм, что вся их семья сражается, что слава их имени, как в гербе или знамени, сосредоточена в деде Опанасе, а он заявил, что, «пока есть у меня хоть один внук или сын и пока своя рука не уронила сабли, я мира не жду, а иду навстречу жизни, через бой и сражения».
Ксене льстило, что дедом, а затем и ею, самою молодою доброволицею в полку, все так интересуются, что никогда не хватает фото, что ей велят подписывать статейки в газету, что артисты, приезжая в полк, поют песни именно ей, а один даже сочинил специальную песню, посвященную ее будущим подвигам. Все это заставляло жить, не замечая трудностей, с улыбкой на лице. То, что было невыносимо трудно для другого, для нее представляло лишь очередное препятствие, лишнюю ступень в той лестнице огромного подвига, на которую неумолимо, безжалостно вел ее дед.
Гибель отца и, может быть, больше чем самая гибель, собирание по частям его тела и увязка его в бурку, вырезали из ксениной души какую-то очень значительную часть, и именно ту, в которой хранилась нежность ее натуры.
Двумя неделями позже гибель Коли Белого уже не потрясла ее. Она только поморщилась, взглянув в его изорванное крупнокалиберной пулей лицо.
Другие же смерти ее вовсе не трогали. Она привыкла к тому, что ничто не обладает живучестью на том страшном пути, по которому шла сама.
В другое время резкая перемена в характере и во всем облике внучки, наверно, встревожила бы Опанаса Ивановича, и он со своей утомительной, не знающей устали энергией взялся бы лечить и возрождать ее.
Но сейчас он как бы соглашался с тем, что другою она не могла быть, а такая, как есть, вполне хороша для дела, составляющего смысл их теперешней жизни.
Никогда не знал он пустых, ненужных для жизни желаний, в силу любви, питаемой ко всякому полезному предмету на свете, – будь то лошадь, певчая птица, красивый цветок или приятный, ласкающий глаза вид природы, но больше всего на свете любил он дела.
Он собирал дела, произведения жизни, как пчела собирает мед, как книжник – библиотеку. Ему всегда хотелось все уметь – и лучше, чем другие. Характер его был пропитан гордостью и упрямством. Теперь, в войну, все желания и все дела выражались у него в уничтожении врага. Это стало его призванием. Он жил только для этого. Если бы его лишили этой возможности, он умер бы. Но чем больше удавалось ему истребить фашистов, чем хитрее расставлял он перед ними свои сети, чем больше людей вовлекал в борьбу с врагом – тем крепче, шире и благороднее становилась его душа.
Мечты о том, что прежнее счастье когда-нибудь вернется, уже не раз стыдливо снились ему ночами.
Храбрость открыла в Опанасе Ивановиче новое дарование – острую неуемную жажду жизни, такую, какой не знал он и в молодости. Так окрылил бы человека несбыточными надеждами вдруг появившийся на седьмом десятке прекрасный голос, талант живописца или музыканта.
С новым талантом уже нельзя было жить так, как жил до него и без него. Границы жизни требовали расширения. Территория интересов раздвигалась. Все доброе в прежней жизни начинало казаться мелочью, словно человек даже физически вырос за это время и ему тесно, физически тесно среди старых привычек.
И жизнь, навстречу которой он шел, представлялась ему большой, важной, очень ответственной.
Точнее он никак не мог представить ее.
Одно знал – война отняла у него право на возраст, война подстелила под ноги новый огромный мир несделанного, а неисчислимые гибели наложили на него долг работать за десятки, думать за сотни, мечтать за тысячи и верить, что он еще не жил своей настоящею жизнью, а заживет ею только после победы. И какими чудесными, ласковыми были эти мечты о кровью завоеванном будущем!
…Внук Закордонного посадил их в лодку.
– Погоди, – шепнул Опанас Иванович, – хочу партизанского солнышка подождать.
Нефть на базе загорелась рывками, будто откашливалась прежде, чем вспыхнуть, но вспыхнула сразу широкою полосой.
– Я тебя запишу, – сказал Цымбал. – Действуй. Приеду проверить.
– Добре. А Ганьку Чудина не запишете, дядя?
– Кто такой, откуда?
– Да наш казачонок, хуторской, сирота. Хороший хлопец.
– Бери, – сказал Цымбал, – бери и становись за старшего. И чтоб у тебя дело шло.
Мальчик протянул руку.
– Это пойдет, только вы запишите, как сказали.
И столкнул лодку на глубокую воду. Темнота вобрала ее в себя, но мальчик еще долго глядел вслед Цымбалам.
Сегодня окончилось его детство и начиналось отрочество, какого ни у кого не было.
На Кавказском побережье Черного моря зима – это дождь, а весна – дождь с ветром. Нет страшнее месяца, чем февраль, когда с гор вокруг Новороссийска срывается бора, свирепый норд-ост, сбивающий с ног человека, валящий под откос поезда, сдирающий с домов железные крыши. Воздух проносится тогда мимо рта, его не захлебнешь, он застревает комками в горле и душит, и невозможно открыть глаза – так воздух больно бьет в них и надолго слепит.
В такие дни пароходы уходят в открытое море, а все живое на берегу жмется к стенам, отсиживается в домах.
Но в этом году – 1943-м – шумно, людно было на кавказских берегах у Новороссийска и восточнее его, в горах, десятками волн спускающихся к станицам вдоль шляха из Краснодара в Новороссийск. Горные тропы стекали жижей с каменных карнизов, оседали наспех пробитые дороги, трещали мосты и на огневые позиции, занимаемые пехотой, на руках волокли снаряды, консервы и хлеб. Как бы долго ни везли его, он всегда приходил сырым, его резали ниткой, как глину.
Сыро и мокро могло быть и месяц и два. На дорогах, ведущих к фронту, стояли брошенные в грязи автомобили, зарядные ящики, санитарки, фуры, валялись дохлые кони, не выдержавшие горной войны. Лишь человек мог вынести всю тяжесть здешних условий. Он прополз по горным лесам, таща на себе пищу, оружие, боеприпасы, пушки, жил месяцами в мокрой одежде, забыв, что такое огонь и каков вкус махорки, и видел во сне пыль и зной летних русских дорог, и не было у него ничего радостнее сознания, что на земле существует солнце.
Бойцы говорили:
– Жить тут немыслимо, но находиться можно.
Сюда, в эти неприступные горные щели, везли консервы из Америки, и назывались они тут «вторым фронтом».
– Прямо очумели – вторую неделю на «втором фронте» сидим, аж в рот не лезет, – разводили руками интенданты.
Но говорили об этом незлобиво, скорей даже весело.
Немцы, битые и разгромленные на Тереке, у Владикавказа, на Куме, у Минвод и разгромленные на Кубани, закопались на узком пятачке от Новороссийска до Темрюка, где их теснили со всех сторон.
Порыв наступления, хотя темпы движения пали, был очень велик, но теперь, когда занимать новые пространства стало труднее, дух успеха выражался не в пройденных километрах, а в цифрах уничтоженных немцев.
В начале февраля моряки под командой майора Куникова ворвались с моря в Станичку, предместье Новороссийска, и заняли ее. Город оказался расслоенным надвое. Партизаны неистовствовали на железной дороге, и в тылу города, и между станиц.
Авиация денно и нощно бомбила немецкие тылы, а войска дружно нажимали на его оборону, и не было дня, чтобы не продвинулись вперед.
Шли жестокие бои за станицу А. Взятия ее ожидали с часа на час, и на дороге между Геленджиком и фронтом скопилось много народу.
У командира дивизии, наступавшей с гор, с юга, в маленькой простреленной хатке и в голом саду за нею толпились офицеры армейского штаба, военные корреспонденты центральных газет, переводчики, партизаны, командиры частей, стоящих во втором эшелоне, приехавшие за трофейными «оппелями», и гражданские работники, посланные для восстановления советского аппарата.
Они лежали группами в саду, толпились у хаты и тараторили о фронтовых делах, безмерно куря и все время захаживая к полковнику за новостями, хотя его зычный голос легко достигал сада и по его разговорам с полковыми было вполне понятно, как обстоят дела. Дивизия шесть суток вела бой на марше, измоталась до крайности. Все в ней было на пределе, на выходе, но чувствовалось, что она выдержит. У всех участвующих в бою всегда ведь есть внутреннее чувство успеха или провала. Сражение может увлекать и быть непонятным, может обнадеживать, но может и лишать веры в себя, – и вот шестые сутки нежный, только душой ощущаемый признак близкой победы захватил тут всех, начиная от командира дивизии до последнего обозника.
И сразу, точно признак этот обладал звучностью, его услышали и в штабе армии, и у соседей, и на хуторах далеко в тылу – и все понеслось в эту дивизию, боясь опоздать, и теперь негодовало, предсказывало и не ободряло.
Командир дивизии, тучный полковник на низких кривых ногах, обутых в резиновые сапоги, нервничал. Все эти слетевшиеся со всех сторон гости стесняли его, они были живым укором его медлительности. Как режиссеру, у которого опаздывает важный спектакль, ему казалось, что блестящий успех, которого он вот-вот добьется, уже заранее испорчен непредвиденной задержкой, и она, конечно, будет истолкована выше как его бесталанность.
Гостей было слишком много, чтобы помочь ему, и по их изобилию полковник давно понял, что взятие станицы где-то рисуется многообещающей операцией, о которой будут говорить и писать. Возможно, так именно и было, даже наверняка так и было, и если бы меньше толклось у него приезжих инспекторов и наблюдателей, он сам был бы гораздо лучшего мнения о своей операции. Но сейчас он чувствовал себя так, будто у него делают обыск. Все, что он вложил своего в разработку этого трудного сражения, теперь уже не принадлежало ему. Люди, которые не хотели, да если б заставить их, то просто и не умели ни за что отвечать, вертелись перед его глазами целыми сутками, одобряя или критикуя его.
Они знали заранее, что дело пойдет именно так, как оно шло. Они говорили: «наш план», «наше предложение», «наш вариант». Они звонили в свои отделы: «Конечно, вышло по-нашему».
Полковник всех их давно б разогнал, но не хотелось ссориться накануне успеха.
Только уполномоченные крайисполкома да корреспонденты газет ни во что не вмешивались, искренне желая полковнику быстрого успеха и страдая, что этот успех задерживается.
Выходя из хаты хлебнуть свежего воздуха, полковник угощал военных корреспондентов папиросами и вяло пошучивал:
– Вот она какая, война эта… не слушается нас с вами. Вы уж, небось, и корреспонденции свои написали и передать успели – дивизия, мол, молодецким ударом ворвалась в станицу. А мы, вишь, все ползем и ползем, не знай, где вылезем. Ну, ничего, ничего. Материал у вас будет не плохой… Сегодня из станицы от Цымбала девушка одна придет. Внучка его. Вот вам чудесный материальчик. Шестнадцать лет. На счету двести девяносто немцев. Ходит по немецким тылам, как тень…
Он затягивался папиросой до предела и, медленно выдыхая дым из ноздрей и губ, похожий в эту минуту на подбитый, готовый взорваться танк, говорил:
– Ползем и приползем. Наша возьмет.
– Ударности нет, Василий Иванович, – загадочно сказал один из гостей, в форме майора танковых войск.
– Ну да, нет, – спокойно согласился полковник. – А ты скажи, откуда у меня будет эта ударность на седьмые сутки боев на месте? Вот сейчас звонил Константин Емельяныч. Сегодня к двадцати одному ноль-ноль чтобы я покончил с задачею. Я говорю – бойцы без сапог, три дня без горючего, боеприпасы на исходе, транспорт застрял. Знаю, знаю, говорит, и забочусь о тебе – выполнишь задачу, перевалю через тебя гвардейской дивизией – и получай четверо суток отдыха… Понимаете, в чем дело? Это у нас называется – нищего за пупок тянуть. Станицу брать мне, а преследовать, то есть трофеи и ордена, гвардейке. Понятно? Ну вот, я сейчас звоню своим полковым – так и так, за наши страдания командование отводит нас на отдых, по выполнении задачи. Как, скажут, на какой такой отдых? Нет, уж пусть гвардейская за нами идет, а не мы за ней. Ну, и так далее и так далее. И будет ударность.
Полковник повернулся к корреспондентам и сказал:
– Хотите видеть ударность? Поезжайте к майору Добрых и вы увидите сейчас, что такое ударность… Есть у людей охота к бою, значит будет тебе и ударность.
В полку Добрых, занимающем позиции перед самой станицей, была та же картина, что и у командира дивизии. Только вместо офицеров из армии здесь суетились и торопили командира полка офицеры из штаба и политотдела дивизии, а вместо корреспондентов больших газет томились бездействием армейские и дивизионные газетчики да бегали, похожие на ларешников, фотографы, на все лады снимая дальние хаты станицы. Суету увеличивали раненные во вчерашнем бою. Могучий магнит успеха прижал и их к фронтовым хуторам. Уходить назад за трудный, мокрый перевал была им неохота, и, таясь от начальства, они компаниями лежали на сеновалах, вслушиваясь в разноголосицу боя, и гадали, когда падет станица.
Им до того не хотелось отдаляться от своего полка, до того жалко было уходить в тыловую глушь, из которой неизвестно куда зашлют их после выздоровления, что они готовы были ждать и день и два, только б «эвакуироваться вперед».
Добрых, как и предполагал командир дивизии, был обозлен и обижен предложением отдыха и не скрывал своей обиды перед корреспондентом, который приехал поглядеть на ударность.
– Мне бы они дали отдых, когда я стоял в обороне, – кричал он, сидя у колченого столика под ветвистой яблоней, на голых сучьях которой распластана была плащ-палатка. – А теперь, когда я держу немца за пятки, – они, здрасте, вспомнили. Боец любит наступать и уж раз пошел, никто его не может лишить этого права. Как шли головными, так и пойдем.
– Измот большой, – неопределенно сказал комиссар, поглядев на корреспондента, и попробовал чемодан, на котором он сидел, как пассажир в ожидании поезда.
– Ничего. Как шли головными, так и пойдем, – повторил Добрых, прислушиваясь к выстрелам.
Он был одет в шинель, поверх которой висело все его командирское хозяйство – планшет, полевая сумка, пистолет, бинокль, старая коробка из-под бинокля, заменяющая табачницу, на пуговке шинели – карманный фонарь, на поясе – парабеллум. Ему было жарко и тяжело, но снять часть вещей все как-то не хотелось, – а вдруг придется двигаться? Только за сегодняшний день Добрых в четвертый раз менял свой командный пункт.
– Дайте мне Игнатюка, девочка, – сказал он связистам, не поглядев, что за его спиной дежурит красный и рослый парень.
Гости, сидящие полукругом, рассмеялись.
– Игнатюк?.. Здорово, милый. Слыхал новость? Тебя, как потрепанное и морально нестойкое подразделение, отводят на отдых. Ага. Свыше. Начальство об нас всегда думает, как же. Значит, как ворвешься в станицу, прикажи ротам цветков нарвать… гвардейку встречать…
– Ну, это уж маком! – Игнатюк положил трубку. В его блиндаже тоже было полно народу. Несколько председателей колхозов из районов за станицей, раненый казак – кириченковец, возвращающийся к себе домой, двое партизан да группа казачек с детьми и узлами, спешащих в ту же проклятую станицу, которую шестой день никак не могли взять.
Осенью поуходили казачки в горы, кое-как перебились там зиму, а теперь, при первых звуках побед, толпами валили к родным местам, торчали вблизи боев, ухаживали за ранеными, хоронили убитых и все вздыхали – целы ли хаты да хватит ли сил дотянуть до родных гнезд.
Возле блиндажа лежала группа шоферов с машин, оставшихся без горючего.
Им тоже некуда было сейчас деться, не ехать же за горючим назад через перевал, когда впереди большая станица, а в ней, конечно, немецкий заправочный пункт.
Между блиндажом капитана Игнатюка и тыловым хозяйством роты, действовавшей в дубняке, за овражком, сидел на ящиках из-под патронов заместитель командира батальона по хозяйственной части, окруженный старшинами рот.
Они вели счет тому, что надо ротам в первую очередь. Роты нуждались в котлах, ложках, кухонной утвари. Давно уж не было перцу. Забыли о том, каков вкус у соленого огурца, тем более – у капусты.
– И вот все это, милые мои, надо записать, – назидательно говорил заместитель старшинам. – Чтоб стояло перед глазами. Чтоб ты не покрышками и зажигалками интересовался, а чтоб в голове так и сверлило, как кинореклама, – котлы! Котлы! Прежде всего котлы!
– Записали, что кому надо? Так. И обес-пе-чить. Это значит, заранее подготовиться, тару иметь под рукой, лошадку… персональные поручения раздать бойцам. Боец должен знать, в чем его рота нуждается. А то тягнут, что ни попало, а позвольте узнать – почему алюминиевая посуда попала армейскому Военторгу? Это каким макаром? Общеизвестно каким: роты стремились консервами запастись да винцом, а настоящее добро проглядели. Будете ушами хлопать, соседи ни черта не оставят. Это закон. Так и вовсе без ничего останемся.
– Нет, уж это маком! – донеслось до них из командирского блиндажа.
Они прислушались.
– Мне полы драть, а им плясать?.. Не для того я шестой день дерусь, чтобы свой успех уступать. Через час я займу станицу.
Старшины беспокойно зашевелились. Заместитель покачал головой.
– Пора, ей-богу, пора. Из-под рук у нас добро вытащат. Я уж чувствую. Идите, действуйте.
И сразу зашевелилось, забегало, заахало безмолвное население дубняка. Бабы стали созывать ребят, увязывать мешки.
– Эх, ладно бы до темноты войти, – шептались мешки.
– Войдем, – говорил кто-то. – Слышите, как пошло?
И точно, на всем участке батальона словно что-то вздрогнуло, напружинилось, хотя бой, шедший с рассвета до полдня, все еще топтался на месте.
На переднем крае, в низких зарослях дубняка, волнисто спадающих к станице, шевелилась, окапывалась, ползла, сближалась до последнего рывка первая рота.
На участке второй, перекрывшей открытый фланг батальона, тоже было пока тихо. Редкие выстрелы сторожевого охранения не нарушали покоя.
Третья, сходившая в три атаки, стояла гористее, на отдыхе. Там стирали белье, варили горячее, грелись на солнце, подсчитывали расход боеприпасов, чистили оружие, писали рапортички, сводки, ведомости, заготовляли наградные листы, торопясь подготовиться к вечеру, когда обычно начиналось самое главное.
Игнатюк вышел из блиндажа и стал на колени с биноклем в руках. Ветви бузины гордо покачивались на его шлеме.
Архитектор по своей основной специальности, Игнатюк добровольно ушел из инженерных войск в пехоту и считался одним из самых способных в полку майора Добрых, тоже сапера в прошлом. В нем было глубоко заложено, как он сам говорил, «чувство кирпича»: то ощущение простейшего элемента постройки, без которого немыслимо и ощущение задачи в целом.








