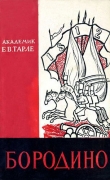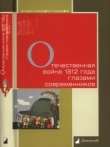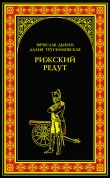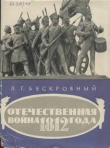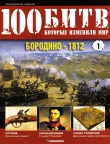Текст книги "Отечественная война 1812 года. Школьная хрестоматия (СИ)"
Автор книги: Петр Кошель
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
Чтобы трубка лучше держалась, наружный диаметр очка делается несколько больше внутреннего. При воспламенении заряда в орудии состав в трубке загорается.
Когда весь состав в трубке сгорает, огонь сообщается разрывному заряду, от действия которого снаряд разрывается на куски – черепки или осколки. Поэтому, в отличие от ядра, эти снаряды обладали и осколочно-фугасным действием, т.е. поражали не только ударом, но и осколками и взрывной волной.
Граната или бомба с разрывным зарядом называется заряженной, а полностью готовая, с трубкой, – снаряженной. Для того чтобы снаряд не падал трубкой вперед и не затухал, противоположную от очка часть делали более тяжелой. С этой целью сначала их отливали эксцентрическими, т.е. центр пустоты и снаряда не совпадал. Но из-за неодинаковой толщины стен их разрывало на малое количество осколков. Поэтому, начиная с 1808 года, снаряды стали делать концентрическими с утолщением в виде сегмента против очка. Тогда считали, что они должны непременно падать на землю тяжелой частью вниз, а, следовательно, трубкой вверх. Но т.к. в любом случае снаряды в полете вращались, то эти ухищрения не оправдали себя, и позже (с 1840 года) отказались и от сегмента.
Для приготовления гранатной трубки в деревянной заготовке сначала просверливают канал, затем ее обтачивают до нужных размеров, а в толстом конце вытачивают чашку – выемку в виде полусферы. Канал трубки набивают составом, состоящим из 3 частей мякоти, 2 селитры и 1 серы, оставляя вверху ½ свободными, куда вкладывают серединой 2 куска стопина (огнепроводный шнур, состоящий из нескольких свитых вместе хлопчатобумажных ниток, пропитанных разведенной на вине пороховой мякотью) такой длины, чтобы наружу торчало 2 вершка, и опять набивают составом до конца. Потом, вымазав внутри чашку густо разведенной на вине мякотью, вкладывают в нее концы стопина, и, присыпав мякотью, покрывают сначала бумагой, потом холстиной, которую завязывают под чашкой стеклядью, и сверху осмаливают.
Выстрел с гранатой готовили следующим образом. Сначала ее смаливают для предохранения от ржавчины, а находящегося внутри пороха от сырости. Когда остынет, через воронку насыпают внутрь положенное количество мушкетного пороха. Затем заколачивают в очко деревянной колотушкой готовую трубку, обернутую под самой чашечкой паклей с клеем, пока не войдет плотно до самой своей чашки. Предварительно трубку обрезали внизу с двух сторон клином на определенную длину, чтобы граната взорвалась на нужном расстоянии. Но, т.к. для полевой артиллерии снаряды готовили загодя в арсеналах, то трубки обрезали на максимальную длину, поэтому в сражении у противника была возможность потушить упавшую гранату, если огонь велся не на предельной дальности. Загнав трубку, обмазывают верх гранаты с трубкой горячей смолой, а края намоченной смолой же трубочной холстинной обвязки прикрепляют руками к поверхности гранаты. После чего, повернув гранату трубкой вверх, вкладывают в чашку шпигеля, которая перед этим смазывается растопленной смолой, чтобы граната прилипла и не могла повернуться трубкой в сторону. Чашка у гранатного шпигеля имеет глубину в 1/4 диаметра гранаты. Далее, подобно ядру, граната вставляется шпигелем вниз в картуз, обматывается веревкой, правда конец картуза не связывается, а собирается сборками и обшивается вокруг верхней части снаряда так, чтобы конец трубки у гранат был снаружи.
Перед выстрелом холстину с трубки срывают, а концы стопина расправляют по поверхности гранаты, присыпав для более надежного возгорания мякотью.
Картечь применялась исключительно для поражения живой силы противника.
Особенно эффективна она была, если войска противника располагались в развернутом фронте или в широкой колонне. На вооружении русской армии находилась картечь двух видов – вязаная и жестяная; последняя, в свою очередь, подразделялась на дальнюю и ближнюю.
Жестяная картечь – снаряд, состоящий из чугунных пуль, уложенных в определенном порядке в жестяном цилиндре. Нижним основанием цилиндра служит железный поддон, верхний же ряд пуль покрыт кружком из листового железа, на который загнуты зубчатые края цилиндра. Картечь помещается в орудие поддоном к заряду. При выстреле поддон передает пулям давление пороховых газов, отчего одни пули втискиваются в промежутки между другими, передавая давление во все стороны, разрывают цилиндр, и вылетают из орудия, разлетаясь в стороны от оси канала.
Дальняя картечь состоит из малого числа пуль большого калибра, и, как видно из названия, применялась для стрельбы на большие расстояния. Ближняя, соответственно, имела больше пуль, но меньшего калибра. Вообще вес целой картечи (пуль, жестяного цилиндра и поддона) для всех орудий был в 1,5-2 раза больше веса того снаряда, от которого орудие получает свое название. Несмотря на это, скорострельность картечью была выше, чем ядрами за счет менее тщательного прицеливания.
В России были приняты пули 9 номеров – из них в полевой артиллерии не использовались только номера 6 и 9.
До введения чугунных пуль для картечи использовались свинцовые ружейные пули, насыпанные без всякого порядка, но они при выстреле слипались в комки и плохо рикошетировали, поэтому, после произведенных в 1807 году опытов, их заменили описанными выше чугунными, по образцу французских. Кроме того, деревянный поддон, раскалывавшийся при выстреле, заменили железным.
Для приготовления картечи заготовку для стакана сворачивали на деревянном шаблоне и запаивали. С одной стороны вставляли железный поддон, загибали края стакана, а немного выше поддона ударами молотка делали желоб, который, кроме удерживания поддона, служил аналогично желобу на шпигелях. Затем в стакан в нужном порядке насыпали картечные пули, накрывали жестяной крышкой и загибали сверху зубчатые края стакана. Картечь с картузом связывалась так же, как в случае с гранатами, только под пушечные картечи шпигель не полагался, а для единорожных он нужен был только для того, чтобы заполнить пустое место в каморе между порохом и стаканом.
Вязаная картечь к тому времени уже выходила из употребления. В ней вместо железного поддона используется толстый деревянный круг, в центре которого укреплен деревянный цилиндр – древко. Вокруг древка в холстинном мешке уложены чугунные картечные пули, по 6 в ряду. Мешок оплетался бечевкой и осмаливался.
Вязаную картечь, в отличие от жестяной, в картуз не вставляли.
Вся картечь называлась по числу фунтов или пудов, выражающих калибр орудия, для которого она служила.
Брандскугель (зажигательное ядро, брандкугель, от нем. brand – огонь и kugel – ядро) – чугунный шар со сферической пустотой, который наполняется зажигательным составом. Служит для поджигания различных предметов. При выстреле огонь передается через отверстия составу внутри ядра, и из них начинает вырываться пламя, от которого и поджигает вокруг все, что может гореть. Наносит вред также ударом.
Как и гранаты, брандскугели осмаливают, затем забивают отверстия деревянными гвоздями, кроме одной, через которую просовывают брандскугельный состав, состоящий из:
пороха – 12 частей
мякоти –12
смолы –71/2
селитры –21/2
сала свечного –1
воска –1/2
канифоли –1/2
льна или тряпиц, мелко изрубленных –1/16
После остывания заряда гвозди вынимаются. Отверстия приготавливаются таким же способом, как и гранатные трубки, но с использованием свечного состава, – т.е. вставляются крест-накрест куски стопина, прибиваются составом, пока не останется 1/4, куда кругом укладываются концы стопина и присыпаются мякотью.
Затем отверстие прикрывается лоскутом писчей бумаги, на который накладывается пропитанный смолой четырехугольный пластырь из холста. К шпигелю брандскугели присмаливались так, чтобы все отверстия отстояли от краев на равном расстоянии и были вне чашки шпигеля. Картуз, как у гранат, обшивался так, чтобы отверстия остались незакрытыми.
Другой зажигательный снаряд – каркас – в то время выходил из употребления. Он представлял собой эллипсоид из зажигательного состава, помещенный в железный каркас.
Светящее ядро применялось для освещения в ночное время неприятельских позиций, работ и т.д. Представляет собой шар, сделанный из ярко горящего состава:
антимония (сурьмы) – 1 часть
мякоти –3
серы черепковой –16
селитры –20
Состав набивается в деревянную форму. Когда остынет, шар вынимают из формы, покрывают с двух противоположных сторон чашками высотою в 1/5 часть диаметра из листового железа толщиной 1/2-1 линии, соответственно калибру, потом скрепляют проволокой, переплетая ее между чашками. Просверливают 4 глухих отверстия на равном расстоянии друг от друга; набивают их так же, как у брандскугелей, и закрывают бумагой, просунув ее под проволоку. Затем одной чашкой вставляют в чашку деревянного шпигеля. Светящие ядра, как и каркасы, в картуз не кладут.
Кроме описанных выше, в 1803 году в Англии появился новый вид снаряда – шрапнель, названная так по имени изобретателя. Она впервые была применена в 1808 году в битве при Вимейро. Но в русской артиллерии шрапнель была введена только в 1840 году. Она представляла собой гранату, в которую, вместе с порохом, были насыпаны ружейные пули. Поэтому ее еще называли картечной гранатой. Иногда в художественной литературе шрапнелью называют картечь, но, как видите, это разные снаряды.
Для передачи огня заряду через запал применялись скорострельные трубки. Сначала их внутри прочищали, затем приклеивали к деревянной чашечке, имеющей внизу заплечики для привязывания бумажной обвертки. После высыхания набивали составом – мякотью, разведенной на вине. Затем, до остывания, пропускали проволоку, чтобы состав быстро горел и давал длинное пламя. Чашку вымазывали тем же составом внутри, вкладывали в нее пропитанный мякотью кусок бумаги, и, присыпав мякотью же, закрывали бумагой, которую завязывали ниткой под самой чашечкой. Перед выстрелом обертку срывали с трубки. Такая трубка должна была зажигать порох на расстоянии не менее 2,5 футов.
В отдельных случаях, например, в ненастную погоду, скорострельные трубки поджигались вместо пальников палительными свечами, представлявшими собой бумажные гильзы, заклеенные и набитые на дюйм глиной, чтобы можно было держать горящую свечу в руках.
Остальное пространство набивалось свечным составом:
селитры – 16 частей
серы –4
мякоти –3
угля –1/2
Свеча должна была гореть 5 минут. Перед каждым выстрелом ее поджигали от фитиля, а после – тушили.
***
СОВЕТ В ФИЛЯХ
Действующие лица:
Барклай де Толли Коновницын
Кутузов Раевский
Беннигсен Кайсаров
Дохтуров Толь
Уваров Адъютант
Остерман
Изба в Филях. По стенам широкие лавки. В красном углу — стол, около него лавки; слева у стола походное кресло. На задней стене висит шинель и фуражка Кутузова. На стене у печки — лохань, помело, ухват и кочерга. Полки с посудой. На столе планы.
Барклай де Толли, закутанный в шинель, сидит за столом, погруженный в рассмотрение планов. По правую руку его — Остерман, Дохтуров, Уваров и Коновницын, стоят, оживленно беседуя, налево на первом плане. У печки Ермолов, взволнованный, озабоченно шагает из угла в угол.
Уваров (нервно Дохтурову). Вы разве не видите, что делается в войсках?.. Уныние охватило солдат! Офицеры озлоблены!.. Тысячи раненых тянутся по дороге к Москве. Наше войско после Бородинского сражения еще не успело оправиться и устроиться... Вы изволили слышать, что сегодня на Поклонной горе докладывал полковник Кросса? светлейшему о наших позициях?.. Он прямо сказал: «Невозможно выбрать удобней позиции для того, чтоб погубить армию».
Дохтуров (горячо). Я совсем не стою за то, чтоб мы приняли бой на занятой позиции... Но у меня волосы становятся дыбом на голове, когда я только подумаю, что мы без выстрела уступим Москву неприятелю.
Коновницын. Светлейший просил сегодня утром графа Ростопчина, чтоб архиепископ поднял из Москвы чудотворную икону Божией Матери и окропил войско святой водой... Крестный ход поднимет дух армии и воодушевит войска...
Входит полковник Толь.
Остерман (Толю). Еще не изволил прибыть барон Беннигсен... Скоро уже семь часов, а совет назначен в четыре.
Толь. Барон объезжает позиции левого крыла нашей армии.
Ермолов (насмешливо). У себя на постели после сытного обеда...
Неловкое молчание. Толь проходит в глубину к печке. Ермолов подходит к нему.
Ермолов (тихо Толю). Старик все греется на солнышке...
Толь. Светлейший с дедушкой Андреем беседует... (Прислушиваясь). Да вот и он идет.
Тяжелой походкой, с опущенной головой, входит Кутузов. Все встают.
Кутузов (подходя к креслу). Прошу садиться, господа! Беннигсен едет...
Беннигсен (быстро входя). Прошу извинить, ваша светлость, с утра не слезал с коня... (Здоровается небрежно с генералами и занимает место на скамье по левую руку Кутузова.)
Кутузов, опустив голову, закрыв глаза, сидит, глубоко задумавшись. Молчание.
Беннигсен (посмотрев на Кутузова, вопросительно обведя глазами генералов, говорит громко, уверенно). Итак, я позволю себе, господа, предложить вопрос: выгоднее ли сразиться под стенами священной Москвы или оставить ее неприятелю?.. Сражение под Москвой...
Кутузов (быстро поднимает голову и резко прерывает Беннигсвна). Вопрос ваш, барон, по меньшей мере, неуместен... Положение слишком серьезно, чтобы решать его наобум, не соображаясь с обстоятельствами дела. Участь не только армии, Москвы, по и всей России зависит от решения сего вопроса.
Беннигсен (обиженно). Извините, князь... Я очень знаю... но я желал...
Кутузов (горячо). Армия вверена государем мне... Прошу того не забывать...
Молчание.
Кутузов (спокойнее). Позиция наша на Воробьвых горах, выбранная бароном Беннигсеном, крайне невыгодна...
Беннигсен (перебивая). Я позволю себе возразить...
Кутузов. Я не окончил, генерал... Позиция никуда не годится. Многие дивизии разобщены непроходимыми оврагами... В одном глубоком овраге речка.
Беннигсен. Да, но маленькая речка!..
Кутузов (возвышая голос). Речка, прерывающая всякое сообщение. Позади позиции Москва-река... За ней город с узкими улицами и переулками. Спуски к восьми мостам так круты, что только пехота может сойти по ним. Ежели неприятель опрокинет наши передовые линии — вся армия будет уничтожена до последнего человека... Пока цела армия, есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии не только Москва — вся Россия будет потеряна... В силу сих соображений я предлагаю совету вопрос: ожидать ли неприятеля на выбранной позиции или оставить Москву?..
Глубокое молчание. Беннигсен, видимо, обиженный, смотрит на Кутузова с иронией.
Коновницын. Надо идти навстречу неприят... Барклай де Толли (встает и нервно перебивает). Я полагаю, что на занятой позиции бой нельзя принять... Я самолично расположение наших войск подробно осмотрел. Позиция неудобна. Ожидать на ней неприятеля опасно. Победить его сомнительно. Наполеон большими силами располагает, чем мы. Со времени Бородинского сражения наши войска потерпели зна-чительные потери, особенно в офицерах и генералах. Хотя бы нам и удалось место сражения удержать, мы значительный урон понесем. С оставшимися силами защищать обширную Москву нельзя. Ежели же мы разбиты будем, то все, что достанется неприятелю на месте сражения, будет им уничтожено при нашем отступлении через Москву.
Дохтуров. Разве возможно говорить еще об отступлении!..
Барклай де Толли. Конечно, потеря Москвы произведет тяжелое впечатление на государя, но не будет для него неожиданностью. Она не вынудит его заключить мир. Решительная воля государя — с твердостью продолжать войну. Сохранив Москву, Россия не избавит себя от войны, жестокой и разорительной. Сохранив армию, она может продолжать войну. Единственное средство спасти отечество — оставить без боя Москву и отступить на Владимирскую дорогу, дабы сохранить сообщение с Петербургом.
Дохтуров (с досадой). Легко сказать: оставить Москву!..
Остерман (хладнокровно). А что же делать, по вашему мнению, генерал?
Дохтуров (горячо). Перейти в наступление и разбить неприятеля!
Остерман. А ежели Наполеон нас разобьет?
Коновницын. Ну, это вилами на воде писано!..
Остерман. Ну, а ежели?
Дохтуров. Без риска никакая война невозможна!
Беннигсен. Я задаю вопрос: хорошо ли сообразили последствия, который повлечет за собою оставление Москвы, древней столицы империи. Какие потери казна и множество частных лиц понесут?.. (С возрастающим пафосом.) Подумали ли, что будут говорить крестьяне, общество, весь народ!..
Дохтуров. Всех охватит ужас и уныние!..
Кутузов сидит с опущенной головой, закрыв глаза, как бы дремлет.
Беннигсен (с пафосом). Подумали ли о стыде оставить неприятелю древнюю, священную столицу без выстрела?!
Дохтуров. Ужасно, невыносимо стыдно!..
Беннигсен. Я спрашиваю, какое произведет сие впечатление на иностранные дворы?.. и вообще в чужих краях?.. Должно же наше отступление иметь границы!.. (Смотрит с иронией на дремлющего Кутузова.) И потом я не вижу поводов думать, что мы непременно разбиты будем... Сие ничем не доказано, и судить о том преждевременно.
Ермолов (сурово бурчит). А когда разобьют, будет уже поздно!
Беннигсен (с пафосом). Я думаю, мы остались такими же русскими, которые всегда дрались с примерной храбростью!..
Ермолов (про себя). Ты-то наверно остался немцем!..
Беннигсен. Ежели мы в сражении 26-го августа понесли большие потери, то не меньший понес и неприятель. Ежели наша армия расстроена после Бородина, то неприятельские войска поредели и расстроены.
Дохтуров. После Бородина они не скоро оправятся!.. Хорошую баню им задали!.. Будут помнить!..
Остерман (отчеканивая каждое слово). Можно решиться на защиту Москвы, ежели вы, граф, поручитесь, что мы одержим победу на выбранной вами позиции.
Беннигсен (раздраженно). От одного человека того невозможно требовать. Победа зависит от храбрости солдат и умения генералов, граф.
Дохтуров. Совершенно правильно!
Адъютант (входя, докладывает). От генерала Винценгероде донесение к вашей светлости (подает пакет Кутузову).
Кутузов ( разрывая пакет). Подать свечей!
Денщик приносит две свечи, ставит ни стол перед Кутузовым и уходит. Кутузов читает. Напряженное молчание.
Кутузов (со сдержанным волнением). Я получил донесение, что неприятельские корпуса идут в обход наших флангов. Сообщение весьма важное.
Беннигсен (торопливо и тревожно). О, да, очень важное. Ввиду сего я предлагаю перевести все войска на левое крыло и двинуться навстречу неприятелю.
Дохтуров (горячо). Мы разобьем его теперь наголову!..
Барклай де Толли. Теперь уже поздно!.. Ночью нельзя передвигать войск по непроходимым рвам.
Остерман. Мы и так все время бродили во тьме!..
Барклай де Толли. Неприятель может ударить на нас прежде, нежели мы успеем разместить войска на новых позициях.
Беннигсен. Но диспозиция не так трудна, как вам кажется.
Барклай де Толли (горячо). Наша армия, по храбрости ей сродной, может сражаться в какой угодно позиции и отразить сильного неприятеля, но не может исполнять движения в виду неприятеля.
Кутузов (насмешливо). У нас уже были примеры... Мы до сих пор помним Фридланд.
Беннигсен (злобно). Фридланд!.. Фридланд был неправильный бой... Против тактики...
Ермолов. Колотят всегда против тактики.
Барклай де Толли. Русские не в состоянии исполнить движения в виду неприятеля.
Дохтуров (задорно). С русскими солдатами все возможно!.. Суворов и не то делал.
Коновницын. Мы должны перейти в наступление во что бы то ни стало. Армия расстроена более бездействием, чем Бородинским сражением. Я подаю мой голос за наступательное движение...
Дохтуров (пылко). Мы обязаны перед государем и родиной защищать Москву. Успех боя зависит не от позиции, а от духа войск. Только русскому человеку понятно, что он теряет с потерей Москвы.
Раевский (входя). Прошу простить, ваша светлость, я был в арьергарде и только сейчас устроил войска.
Кутузов (апатично). Я устал... Ермолов, будь добр, передай генералу Раевскому, что мы здесь говорили...
Раевский (беря Ермолова под руку). Отойдем к сторонке, чтобы им не мешать.. (Отходят к печке и тихо беседуют.)
Кутузов (Уварову). А ваше мнение, генерал?
Уваров. Я разделяю мнение военного министра.
Кутузов (Раевскому). А ты что скажешь, Раевский?
Раевский (подумав). Мое мнение — оставить Москву без боя... «Россия не в Москве, среди сынов она!»
Кутузов (Ермолову). А ты, Ермолов, не проронил ни слова?
Ермолов. Я бы атаковал неприятеля!
Дохтуров (про себя). Иного мнения не может быть у человека, любящего свою родину.
Кутузов (внезапно вспылив). Ты говоришь так, Ермолов, потому что не на тебе лежит ответственность за целость армии и за исход войны.
Неловкое, продолжительное молчание.
Кутузов (глубоко взволнованный). С потерей Москвы не потеряна еще Россия... Первой обязанностью поставляю себе сохранить армию и сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление... Самым уступленном Москвы приготовлю неизбежную гибель неприятелю... Посему я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге... Знаю, вся ответственность обрушится на мою седую голову, но я жертвую собой для блага отечества... (Помолчав, встает и говорит твердо.) Приказываю отступать!
Тяжелое молчание. Дохтуров быстро встает, спешно кланяется и уходит, раздосадованный, за ним, озабоченные, угрюмые, опустив глаза в землю, уходят все остальные. Кутузов опускается в кресло. Кайсаров стоит в глубине.
Кутузов (внезапно всхлипывая). Что делаем! Боже мой, что делаем!.. Подумать страшно! Москву французам покидаем!.. (Кладет голову на стол и громко рыдает.)
Из пьесы «Пожар Москвы» Е. П. Карпова
С потерею Москвы не потеряна еще Россия. Первою обязанностью ставлю себе сохранить армию, сблизиться с теми войсками, которые идут к ней на подкрепление, и самым уступлением Москвы приготовить неизбежную гибель неприятелю. Поэтому я намерен, пройдя Москву, отступить по Рязанской дороге. Знаю, ответственность падет на меня, но жертвую собою для спасения Отечества. Приказываю отступать!
М. И. Кутузов
КУТУЗОВ И НАПОЛЕОН В РОМАНЕ Л. Н. ТОЛСТОГО «ВОЙНА И МИР»
Роман Л.Н.Толстого «Война и мир» является, по мнению многих, «величайшим романом в мире». Это роман-эпопея, повествующий о знаменательных и грандиозных событиях из истории страны, освещающий важные стороны народной жизни, взгляды, идеалы, быт и нравы различных слоев общества. Основным художественным приемом, который использует Толстой, является антитезы. Этот прием является стержнем произведения, пронизывает весь роман снизу доверху.
Противопоставлены философские понятия в заглавии романа, события двух войн (войны 1805—1807 гг. и войны 1812 года), сражения (Аустерлиц и Бородино), социумы (Москва и Петербург, светское общество и провинциальное дворянство), действующие лица. Характер противопоставления носит и сопоставление двух полководцев – Кутузова и Наполеона.
Писатель прославил в своем романе главнокомандующего Кутузова, как вдохновителя и организатора побед русского народа. Толстой подчеркивает, что Кутузов – подлинно народный герой, который руководствуется в своих действиях народным духом. Кутузов предстает в романе как простой русский человек, чуждый притворству, и одновременно как мудрый исторический деятель и полководец. Главное в Кутузове для Толстого – его кровная связь с народом, «то народное чувство, которое он носит в себе во всей чистоте и силе его». Именно поэтому, подчеркивает Толстой, народ и выбрал его «против воли царя в производители народной войны». И только это чувство поставило его на «высшую человеческую высоту».
Толстой изображает Кутузова как мудрого полководца, глубоко и верно понимающего ход событий. Не случайно правильная оценка Кутузовым хода событий всегда подтверждается впоследствии. Так, он верно оценил значение Бородинского сражения, заявив, что это – победа. Как полководец, он явно стоит выше Наполеона. Именно такой полководец был нужен для ведения войны 1812 года, и Толстой подчеркивает, что после перенесения войны в Европу русской армии потребовался другой главнокомандующий.
«Представителю народной войны ничего не оставалось, кроме смерти. И он умер».
В изображении Толстого Кутузов – живое лицо. Вспомним его выразительную фигуру, походку, жесты, мимику, его знаменитый глаз, то ласковый, то насмешливый. Примечательно, что Толстой дает этот образ в восприятии различных по характеру и социальному положению лиц, углубляясь в психологический анализ. Глубоко человечным и живым делают Кутузова сцены и эпизоды, изображающие полководца в беседах с близкими и приятными ему людьми (Болконским, Денисовым, Багратионом), его поведение на военных советах, в битвах под Аустерлицем и Бородиным.
Одновременно надо отметить, что образ Кутузова несколько искажен, не лишен недостатков, причина которых – в особых позициях Толстого-историка. Исходя из стихийности исторического процесса, Толстой отрицал роль личности в истории. Писатель высмеивал культ «великих личностей», созданный историками. Он считал, что ход истории решают народные массы. Он пришел к признанию фатализма, утверждая, что все исторические события предопределены свыше. Именно Кутузов выражает эти взгляды Толстого в романе. Он, по словам Толстого, «знал, что решают участь сражения не распоряжения главнокомандующего, не место, на котором стоят войска, не количество пушек и убитых людей, а та неуловимая сила, называемая духом войны, и он следил за этой силой и руководил ею, насколько это было в его власти». У Кутузова – толстовский фаталистический взгляд на историю, согласно которому исход исторических событий заранее предрешен. Ошибка Толстого состояла в том, что, отрицая роль личности в истории, он стремился сделать Кутузова только мудрым наблюдателем исторических событий. И это привело к некоторой противоречивости его образа: он выступает в романе как полководец, при всей своей пассивности точно оценивающий ход военных событий и безошибочно направляющий их. И в конечном результате Кутузов выступает как активный деятель, скрывающий за внешним спокойствием огромное волевое напряжение.
Антиподом Кутузова в романе выступает Наполеон. Толстой решительно выступил против культа Наполеона. Для писателя Наполеон – агрессор, напавший на Россию. Он сжигал города и села, истреблял русских людей, грабил и уничтожал великие культурные ценности, приказал взорвать Кремль. Наполеон – честолюбец, стремящийся к мировому господству.
В первых частях романа автор со злой иронией говорит о преклонении перед Наполеоном, которое воцарилось в высших светских кругах России после Тильзитского мира. Толстой характеризует эти годы как «время, когда карта Европы перерисовывалась разными красками каждые две недели», и Наполеон «уже убедился, что не нужно ума постоянства и последовательности для успеха». С самого начала романа Толстой ясно выражает свое отношение к государственным деятелям этой эпохи. Он показывает, что в поступках Наполеона кроме прихоти не было никакого смысла, но «он верил в себя, и весь мир верил в него».
Если Пьер видит в Наполеоне «величие души», то для Ф.Шерер Наполеон – воплощение французской революции и уже поэтому злодей. Юный Пьер не понимает того, что став императором, Наполеон продал дело революции. Пьер защищает и революцию, и Наполеона в равной мере. Более трезвый и опытный князь Андрей видит и жестокость Наполеона, и его деспотизм, а отец Андрея старик Болконский сетует, что нет Суворова, который показал бы французскому императору, что значит воевать.
Каждый персонаж романа думает о Наполеоне по-своему, и в жизни каждого героя полководец занимает определенное место. Надо сказать, что и по отношению к Наполеону Толстой был недостаточно объективен, утверждая: «Он был подобен ребенку, который, держась за тесемочки, привязанные внутри кареты, воображает, что он правит». Но Наполеон в войне с Россией не был бессилен. Он просто оказался слабее своего противника – «сильнейшего духом», по выражению Толстого.
Писатель рисует этого знаменитого полководца и выдающегося деятеля как «маленького человека» с «неприятно-притворной улыбкой» на лице, с «жирной грудью», «круглым животом» и «жирными ляжками коротеньких ног». Наполеон предстает в романе как самовлюбленный, самонадеянный властитель Франции, упоенный успехом, ослепленный славой, считающий себя движущей силой исторического процесса. Его безумная гордость заставляет его принимать актерские позы, произносить напыщенные фразы. Всему этому способствует раболепие, окружающее императора. Наполеон Толстого – «сверхчеловек», для которого имеет интерес «только то, что происходило в его душе». А «все, что было вне его, не имело для него значения, потому что все в мире, как ему казалось, зависело только от его воли». Не случайно слово «я» – любимое слово Наполеона.
Насколько Кутузов выражает интересы народа, настолько Наполеон мелок в своем эгоцентризме.
Сопоставляя двух великих полководцев, Толстой делает вывод: «Нет и не может быть величия там, где нет простоты, добра и правды».
Поэтому подлинно велик именно Кутузов – народный полководец, думающий о славе и свободе Отечества.
В 1820 г. на Бородинском поле был сооружен первый памятник – церковь Спаса нерукотворного, или мавзолей Тучковых. Поставила его М. М. Тучкова (вдова генерала А. А. Тучкова) на месте гибели мужа (тело которого не было найдено) – на средней из Багратионовых флешей в ограде Спасо-Бородинского монастыря. Здесь же, в монастыре она и поселилась .
Все на продажу
Специальная экскурсионно – туристическая программа «На поле русской славы».
Осмотр экспозиций «Бородинское сражение в Отечественной войне 1812 года», « 1812 год в декоративно-прикладном искусстве», «Дом-музей игумений Марии».
Продолжение осмотра – автобусная экскурсия.
Посещение памятных мест Бородинского поля с выходом и осмотром полевых артиллерийских укреплений 1812 года, памятников на командных пунктах Кутузова и Наполеона, а также на местах расположения русских и французских войск, архитектурного ансамбля Спасо-Бородинского монастыря, основанного на месте гибели генерала А.А. Тучкова, военно-инженерных сооружений Великой отечественной войны.
Инсценировка захвата автобуса,
Автобус внезапно останавливают и окружают солдаты, одетые в форму французской армии 1812 года. На французском языке они объясняют, что пассажиры взяты в плен. Затем появляются солдаты в русской форме и после кратковременной перестрелки освобождают «пленников». Для продолжения знакомства туристов приглашают на военно-исторический бивак.