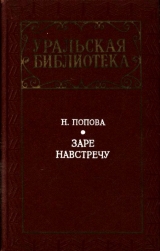
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 25 страниц)
– А ты куда? Ложись-ко лучше спать!
– Пойду с тобой, папаша, – ответил Роман.
Село уже засыпало. Улицы были темны и безлюдны.
Только в церковном доме, у писаря, у Кондратовых горел огонь и топились печи, – там хозяйки готовили ужин для приезжего начальства.
Необычно ярко светились все десять окон волостного правления.
В первой комнате, за низенькой, по пояс человеку, перегородкой находилось все волостное начальство – старшина, писарь и два его помощника. Лампа-молния беспощадно освещала всю казенную грязноту помещения: закапанный чернилами стол, грязные балясины перегородки, рваные обои, покосившийся черный шкаф, пятна копоти над душником и над дверцей печки, непромытый пол.
Увидев Ефрема Никитича, старшина слез с подоконника и осторожно приоткрыл дверь в комнату, где обычно сидел сам.
– Самоуков здесь, ваше благородие.
– Пусть войдет, – ответил начальственный голос.
Ефрем Никитич и стражник вошли, и дверь за ними закрылась.
Все жадно насторожили уши, а глуховатый старик писарь, тот откровенно стал подслушивать у двери.
После неизбежных вопросов об имени, отчестве, фамилии, возрасте, семейном положении Ефрема Никитича спросили, в каких отношениях он был с убитым урядником.
– Ни в каких, – ответил старик, – он сам по себе, я сам по себе.
– Ссорился ты с ним?
– Чего нам делить-то? – грубо ответил Ефрем Никитич.
– Наглец! Невежа! – раздался начальственный окрик, от которого невольно поежились и старшина, и писарь. – Встань как следует! Отвечай… Говори правду: ссорился?
– Сказал одинова сгоряча: «Давну, мол, тебя, пышкнешь, как порховка!»
– Как? Как? Что за «порховка»?
– Ну, поганый гриб… круглый… он высохнет, на него ступишь, он пышкнет и выпустит из себя как бы пыль или порох… Порховка!
– Так… Пон-нятно. А за что ты грозился его убить?
– Да не убить, ваше благородие! – испуганно сказал Ефрем Никитич. – Он ведь ко мне с кулаками подступает, а сам ростику маленького, кругляш… я и сказал: пышкнешь, мол…
– Из-за чего произошла ссора? Ну, что ты замолчал? Говори!
– Снасть он у меня изломал, – неохотно ответил Ефрем Никитич.
– Ка-акую снасть? Ты, наверно, шерамыжил, как говорят у вас? Золотишком баловался?
– Так точно… но на своем покосе.
– Что значит «на своем»? Ты ведь его не родил и не купил? Откуда он «твой»?.. Разрешение было? Заявка?
– Не было… Я пробный сполоск делал… а его и выбросило.
– Понимаешь ли ты, Самоуков, какое преступление ты совершил? Не понимаешь? Ты угрожал смертью должностному лицу при исполнении им служебных обязанностей.
– Да не угрожал я, – рассердился Ефрем Никитич. – Я только и сказал, что пышкнешь, как порховка… Поглядите, ваше благородие, на меня: я мужик большой, сильный, а он – кто против меня? А тоже рысь нагоняет. И верно что: давни – пышкнет, как…
– …как порховка. Это я уже слышал. Теперь припомни, Самоуков, другую ссору, о которой ты мне ничего не сказал.
– Не было другой ссоры.
– А первого сентября? Ты сказал: «Только попадись мне, такой-сякой, я тебя палкой окрещу по затылку!»
– В жизнь не говаривал таких слов. Это кто-нибудь по насердке меня облыгает.
– Не лгать!
– Ей-богу, ваше благородие. Первого? В Семенов день? Я даже его и не видел. Ой, нет, верно, видел на кругу. Он в гости мне навеливался, приставал: «Угости да угости!» Я смехом ему возьми да и скажи: «Угощу, чем ворота закрывают».
– Хитер ты, изворотлив, Самоуков, но лучше тебе бросить хитрости… Помни: добровольное сознание смягчает вину.
– Ни в чем я не виноват, ваше благородие.
Наступило молчание. Заблестевшими глазами взглянул писарь на старшину, как бы приглашая прислушаться: «Вот сейчас он его сразит!» А старшина, угрюмо опустив голову, махнул рукой: «Погиб!» Сотский чихнул и испуганно зажал нос рукой. Все неодобрительно поглядели на него.
Звонко, отчетливо следователь сказал:
– Сознавайся! Ты убил урядника и стражника! Запираться бесполезно.
– Да не убивал я, – с отчаянием в голосе отозвался старик, – грех вам, ваше благородие…
– Не строй из себя невинную жертву. Учти: дважды ты угрожал уряднику. Молчать! Не прерывай меня!.. Дважды ты угрожал, как явствует из твоих же слов… И вообще твое поведение… Кто подбивал мужиков не отдавать покосы? А?
– Не я один.
– А еще кто?
После паузы Ефрем Никитич твердо сказал:
– Никого я не назову. Мало вам одного, вы и других невиноватых очерните, вон как все переворачиваете…
– Так, – со зловещим спокойствием сказал следователь, – очень хорошо! Увести его.
– Куда, ваше благородие? – спросил деревянный голос стражника.
– В каталажку. Родных не допускать. Еду пусть передадут… белье… это можно…
Ефрема Никитича повели вниз, в подвал, в каталажку. Полными слез глазами взглянул он на зятя. Роман шепнул:
– Что же ты про Маньку не сказал?
Старик хлопнул себя по лбу и хотел возвратиться, но стражник ударил его в спину, велел идти вниз.
Утром Роман пошел к Кондратовым, но дальше порога его не пустили.
– Чего надо, говори мне, – сказал Тимофей. – Манька – моя невеста, не позволю ей с чужим мужиком лясы точить.
Теща сходила к Манькиной матери, плакала, просила ее объявить следователю правду. Та сидела, опустив голову, молчала.
– Невинный человек из-за вас гибнет! Возьмете грех на душу, не будет Маньке счастья! Вот увидишь!.. Объяви, Устинья, объяви, милая, слезно прошу тебя…
А Устинья не подымала головы и только сказала прерывистым шепотом:
– Знать ничего не знаю.
Роман добился свидания со следователем. Тот пообещал допросить Маньку и допросил. Манька с плачем клялась, что испугалась Тимофея «по ночному делу» и ничего матери больше не говорила.
Через день Ефрема Никитича увезли в тюрьму, в Перевал. Устинья увела корову и лошадь к родне, распродала овец и куриц и уехала к Ярковым, чтобы быть поближе к мужу.
XIII
В начале марта тысяча девятьсот девятого года к «помощнику в Перевальском уезде начальника губернского жандармского управления» ротмистру Горгоньскому пришла содержательница одного из самых дешевых публичных домов. Она сообщила, что личность, пожелавшая остаться неизвестной, может указать, где печатают прокламации.
Как водится, «личность» (пропившийся чиновник) намекнул, что рассчитывает на вознаграждение. Горгоньский дал пропойце две красненьких и узнал, что типография находится в трех верстах от города по тракту, за городской бойней, в лесу, на даче Бариновой. Едва успел уйти доносчик, Горгоньский вызвал полицмейстера и вместе с ним наметил план действий: ровно в полночь пристав с городовыми и жандармским унтер-офицером должны окружить дачу и обыскать.
В то самое время, когда разрабатывался этот план, купчиха Баринова, кряхтя и сопя, вошла во флигель к Чекаревым.
– С бедой я к тебе, Сергей Иваныч! Неладно у нас, – заговорила она, стаскивая с плеч шубу. – Ну, чего ты опешил? На, повешай мою-то одежку… Стоит в дверях как столб!
Отстранив Чекарева, она вошла в комнату… да так и остановилась в изумлении: на двуспальной кровати, раскинув большие, сильные руки, крепко спал незнакомый мужчина. Крупная голова его глубоко утонула в подушку. На белой наволочке четко выделялся овал смуглого лица с синеватым отливом на бритых щеках.
– Ишь, какой видный, бог с ним!.. Откудова он к тебе залетел?
– Сродный брат, – нехотя ответил Чекарев. – Садитесь расскажите, что у вас стряслось.
Баринова отплюнулась.
– Тьфу!.. Говорить-то мерзко… Квартирантка-то наша хахаля себе завела!
– С чего вы взяли?
– Сторож судачит. Говорит, часто к ней этот фертик ходит… дохлый, говорит, такой мужчина, а что только и делает! Стукоток стоит! Тьфу!
– Ну, хорошо, ходит… а вам какая печаль?
– Окрестись, Сергей Иваныч, – строго сказала Баринова, – как это «какая печаль»? В моем доме непотребство – вот какая печаль!.. А тебя я хочу попросить: съезди, сделай милость, на дачу, вытури ее, бесстыжую!..
– Съездить можно, – сказал Чекарев, подумав.
– Съезди немедля! Спаси бог – убийство получится, попробуй сдай потом дачу! Да и по судам натаскаешься…
– Да отчего же убийство?
– Ой, да я тебе само-то главное и не сказала! Ну, ладно, сидит у нее тот хахаль, а второй под окошками слоняется, ревнует, ухо наводит… Сторож ему: «Чего, варнак, делаешь?» А тот погрозил ему пальцем, да и был таков. Беда ведь!
Чекарев нахмурился.
– Давайте лошадь, сейчас же съезжу.
– Съезди, отец родной! Хочешь, и кучера с собой возьми.
– На что мне кучер?
– А может, ее поучить придется или хахаля вытолкать… мало ли что.
– Один управлюсь.
– Ты-то как не управишься, – льстиво сказала Баринова и похлопала его по плечу. – Так я велю, нето, запрягать?
– Велите.
– А братец без тебя проснется?
– Ну и что? Проснется, подождет… да и Маруся скоро придет. Велите запрягать, Олимпиада Петровна.
Зажиревший от безделья гнедой мерин направился было ленивой рысцой, но почувствовал сильную, нетерпеливую руку и побежал как следует.
Скоро Чекарев подъехал к дому Романа Яркова.
– Ну, друг, хоть кровь из носу, а где хочешь доставай лошадь, короб, езжай на дачу… увезти надо технику… Только куда ее девать – не знаю!
– Ко мне в малуху, товарищ Лукиян! Зайди погляди, места хватить работать. По ночам – никто не догадается! Вот только товарища Софью… – Роман смутился: – И ей бы место у нас нашлось, конечно, да вот… жена… – И он опустил глаза под проницательным взглядом Чекарева.
– Софья ночью уедет в Лысогорск. Начинаем готовить областную конференцию. Ты не забыл о собрании? Всех оповестил? Ческидов знает? Хорошо. Васильев? Все должны быть… Товарищ из центра приехал, будет выступать. Ну, я покатил!
Прошлой ночью Софья, услышав возглас сторожа, задула лампу, кинулась к окну и успела увидеть, как сгорбленная черная фигура бежит, мелькает среди черных стволов. Утром она прошла по следу до дороги. Разумеется, это мог быть и грабитель… но чутье подсказывало ей, что типографию выследили, что опасность надвигается. К приходу Ильи – к пяти часам вечера – она упаковала всю мелочь, кипу отпечатанных газет, бумагу. Софья не боялась, что с обыском придут днем. Во-первых, как правило, это бывает по ночам, а во-вторых, она повесила на дверь замок и старалась не стукнуть, не брякнуть. Софья решила: «Давыд успеет привести лошадь, к ночи увезем технику!»
Всю технику уложили на дровни, опутали веревками, прикрыли рогожами, кошмой. Софья взяла подушку с одеялом да саквояж и уселась на ящик спиной к лошади. Роман, расставив ноги, утвердился сзади.
– Езжай, Лукиян, вперед!
– Нет, братец, ты ступай передовым, – ответил Чекарев. – Сообрази: я приехал сюда, когда птичка уже улетела, мой след – последний!.. Кое-где твою полозницу перееду… Понятно?
– Понятно-то понятно… Да вот на переднем пути, наверно, я где-нибудь по твоему следу проехал – не сообразил!
– Поправлю. Ничего. Но помни, Роман, как будешь на тракт выезжать, бери влево, пусть думают, что вы уехали в Бобровку, а не в город… Товарищ Софья, учтите: с собрания вы сразу на вокзал! Саквояжик возьмите, литературу… Ну, езжайте!
Они поехали.
Некоторое время Роман молчал, сторожко оглядываясь по сторонам. Ему повезло: тракт был безлюден. С полверсты он проехал по направлению к Бобровке и на твердой, наезженной дороге повернул лошадь к городу.
Наступил вечер.
Небо стало похоже на зеленовато-голубую раковину, окрашенную бледным розовым светом. Высокие, тонкие, голые чуть не до верху сосны стояли неподвижно. Потянуло сырым весенним запахом. В городе зажглись огни.
– Ну, как здоровьишко, поправилось? – с какой-то уважительной теплой лаской спросил Роман, глядя сверху на чуть порозовевшее лицо Софьи.
– Ничего, спасибо.
Теперь она держалась прямо. Прядь волос, выбившаяся из-под платка, уже не была мертвенно-тусклой – отливала живым блеском.
– Я все хочу спросить, семейный вы человек, товарищ Софья, или одинокий?
– Муж есть, ребят нету.
– И где он сейчас?
– В ссылке, – отрывисто ответила Софья.
– Надолго вы в Лысогорск поедете? – спросил Роман после молчания.
Софья не ответила, только быстро, внимательно взглянула на него.
– Я вот к чему спрашиваю: искать вам квартиру или…
– До собрания побуду у вас…
– Так! – Роман поскреб затылок, смущенно улыбаясь. Чем ближе к дому, тем затруднительнее казалось ему его положение. Хорошо, он привезет домой Софью, а как объяснит это Анфисе? Вместе пойдут на собрание… вернется он поздно… Неприятность может получиться. И еще одна мысль мучила его: а вдруг дома есть кто-нибудь чужой, какая-нибудь соседка? Как разгрузить дровни?..
Роман въехал во двор, задвинув засов, спятил лошадь к дверям малухи и, взяв жену за руку, отвел ее к крыльцу.
– Не горячись и не реви, – сказал он строго, глядя ей в глаза. – Это не разлучница твоя, не врагиня какая, она мне никто! Сегодня же увезу ее, а имущество останется у нас. Ни о чем ее не расспрашивай… И помни: если хоть слово об этом кому болтнешь – гнить мне в тюрьме. Поняла?
Фиса поняла, что он не лжет, поверила, но тревога исказила ее лицо.
– Да господи, Роман… да я…
– Иди ставь самовар!
Фиса послушно пошла ставить самовар.
Через несколько минут Роман запер малуху на замок, проводил Софью в избу.
– Может, отдохнули бы? – робко спросила Анфиса молчаливую гостью, которая, расстегнув, но не снимая шубы, присела на скамью.
– Спасибо. Не хочется.
«О чем с ней говорить», – с тоской думала Анфиса, помня, что гостью нельзя расспрашивать. Она вопросительно взглянула на свекровь, но та неотрывно смотрела на Софью, и взгляд ее, обычно суровый, теплился нежным сочувствием.
Вскипел самовар.
– Выкушайте чайку, – печально сказала Анфиса.
– Напрасно вы… я не хочу…
– Давай-ка разденься, дорогая наша гостьюшка, – заговорила свекровь необычным, взволнованным голосом, – не бойся, милушка, ворота на запоре, не придет лихой человек! Разденься, родная, отдохни, отогрейся у нас! Неси, Фиса, щи, кашу, молоко… все на стол неси! Поешь, моя голубушка, перелетная моя пташечка!
Говоря так, она с ласковым насилием подняла гостью с места и повела к столу.
– Мать у вас золотая! – сказала Софья Роману, когда они вышли на темную улицу.
– Да, – отозвался он, – и мать, и жена… такое уж мне счастье… Вы можете идти скорее? А то мы опоздаем, придем к шапочному разбору.
Идти, и правда, надо было далеко. Собрание проводили в школе, где работала Ирина Албычева, версты за три от Верхнего завода. Школа стояла «на отставе» – за городом, за больницей.
XIV
Старуха сторожиха как-то пожаловалась Ирине, что сидит вечерами в школе, как «цепная собачонка»:
– Ни в церкву, ни в гости. Сиди-посиживай… А мне, старой егозе, не сидится… нет, не сидится мне, миленькая! Вот помаюсь-помаюсь, да и потребую расчет.
Когда Илья спросил, нельзя ля провести собрание в школе, Ирина сразу вспомнила этот разговор.
– Панфиловна, – сказала она, – если хотите, можете уйти в субботу на целый, вечер, я побуду, в школе.
– Спасибочко, миленькая! Я, нето, ко всенощной схожу!
– А потом можете зайти к знакомым.
Хитренькие глазки Панфиловны засмеялись:
– Ой, что вы, Иринушка Матвеевна! В гости в субботу, говорят, ходят только вшивые!
Заметив беспокойное движение Ирины, старушонка готовно предложила:
– Конечно, могу у крестницы в баньку сходить… потом почаевничать… – И, не сдержав любопытства, спросила шепотом – Может, у вас свиданка или что, не осудите на вольном слове… я могу хоть до полночи пробегать!
Только одно мгновение колебалась девушка… Не успела отхлынуть ударившая в лицо кровь. Ирина, опустив гордый, обиженный взгляд, сказала тихо:
– Да. Ко мне придет знакомый.
– Что же ты прямо-то не скажешь! – весело рассмеялась сторожиха, осмелела, погладила девушку по плечу своей сморщенной лапкой. – Дело молодое! Ой, да что же это я? Собираюсь в церкву, а денег на свечку нету!
Еще больше покраснела Ирина.
– Я дам вам денег.
В субботу вечером она дала Панфиловне рубль.
– До двенадцати часов ночи не возвращайтесь!.. Да не вздумайте подглядывать!
Сказано это было так властно, так строго глядела Ирина из-под сросшихся бровей, что старуха не посмела больше фамильярничать.
– Не приду, миленькая, не приду. Ставни-то запереть?
– Закройте.
Панфиловна ушла. Ирина, решив, что собрание удобнее всего провести в третьем классе, окна которого выходили во двор, собрала в эту комнату стулья и табуреты со всей школы, раздвинула – пятиместные парты, на учительский столик поставила графин с водой и стакан, зажгла керосиновую лампу.
Пусто, тихо было в небольшом старом здании; пропитанном особым, каким-то кисловатым запахом. Томительное нетерпение охватило девушку. Вот она хочет идти… она уже идет рядом с Ильей… отказалась от беспечной, благополучной жизни ради тяжелой, опасной работы, хочет бороться за счастливую, справедливую жизнь народа…
Звук знакомых шагов привел девушку в себя. Она пошла навстречу Илье. Он уже расставил пикеты.
Один за другим входили участники собрания.
Ирина с уважением вглядывалась в их лица. Романа Яркова она уже знала. С интересом всматривалась в его спутницу – белокурую худенькую женщину. Илья подошел к ней: «Давайте, Софья, ваш саквояж, он вам, я вижу, мешает». С удивлением увидела Ирина Полищука. Он тоже удивился, приподнял свои красивые, будто нарисованные, брови, поклонился девушке, но к ней не подошел. Вошла Петровна – Мария Чекарева. Торопливо вбежал Валерьян Мироносицкий… «А-а! Рысьев! – приветствовали его. – Здорово, товарищ Рысьев!» Он бросил на подоконник фуражку, взъерошил жесткие кроваво-рыжие кудряшки, расстегнул пальто с двумя рядами светлых пуговиц и стал разговаривать с пожилым рабочим, оживленно жестикулируя. Ирину он будто и не заметил.
Еще раз хлопнула дверь.
Лукиян пропустил вперед себя незнакомого приземистого человека. Ирина как взглянула, так и не отвела больше глаз от него.
Невысокий, широкоплечий, поздоровавшийся со всеми наклоном головы, он прошел по комнате стремительными, четкими шагами. Повесил на гвоздь пальто и шапку, провел гребенкой по необыкновенно густым волосам и сел к столику. Силой, суровой страстностью дышало его волевое лицо.
Пока выбирали председателя и секретаря собрания, он сидел, положив на стол большие руки, с живым интересом оглядывая собравшихся.
И вдруг весь встрепенулся, побледнел, покраснел… Как ослепленный, опустил тяжелые веки… и снова поднял их. Он глядел на Софью. Глаза его горели. Софья отвечала сверкающим взглядом.
«Что за чудо? Она на глазах хорошеет!» – дивилась Ирина.
Лукиян сказал;
– Товарищ Орлов послан к нам товарищем Лениным!
Орлов поднялся с места. Едва зазвучал его глубокий окающий голос, все стихло.
– Не изменилась наша цель, товарищи, не изменились лозунги!..
Со страстью он заговорил о том, что уже не за горами новый подъем революционного движения и что надо готовить массы к этому подъему.
– Но что значит готовить? Может быть, призывать к восстанию? – спрашивал Орлов и сам же отвечал с решительным жестом: – Нет! Не время! Сейчас еще не время, товарищи!
Он стал горячо доказывать это, анализировать положение в стране. Отметил и усталость рабочего класса, и усиление реакции.
– Что же мы должны делать? Собирать силы! Укреплять партийные организации!.. И работать в легальных рабочих организациях, всякую возможность использовать. Тактика ясна… бесспорна… Правда, товарищи? Но есть люди, которые мешают, путаются под ногами, толкают палки в колеса, – грозно хмурясь и ожесточаясь, продолжал Орлов. – Я не говорю уж об эсерах, кадетах! О ликвидаторах-меньшевиках я говорю! На Пражской конференции товарищ Ленин предложил осудить ликвидаторство, и конференция осудила! И мы, большевики, будем их бить!.. Бить по рукам тех, кто действует против программы, против тактики нашей партии, против революции!
Он помолчал.
– И еще есть такие человеки… говорят они шибко революционные слова, а делу партии вредят. «Не хотим работать в легальных организациях! Это-де нам, революционерам, не пристало, это-де нам не к лицу!»
– Отзовисты! – с угрюмым презрением вставил Васильев, сидящий на первой парте.
– Да, они! – подхватил Орлов. – Правильно, товарищ, отзовисты! Вот их-то нам и надо вытаскивать за ушко да на солнышко… Разоблачать!
Орлов заговорил о положении в уральских партийных организациях. Организация страдает от частых провалов, значит, строже должна быть конспирация. Недостаточно хорошо поставлена пропаганда. Усилить надо борьбу с враждебными влияниями. Плохо, стало быть, работает социал-демократическая группа на спичечной фабрике, если там эсеры силу забрали! Он называл по именам эсеров, кадетов. Сказал, что адвокат Полищук разлагает массу. Рысьев отказался работать в кооперативе. А ведь его туда направила организация. Значит, Рысьев встал на линию отзовистов.
В прениях первым выступил Полищук.
– Разве реальна та революционная программа, за которую ратует товарищ Орлов? – начал он ровным голосом, иронически подняв брови и точно рисуясь своим спокойствием. – Где возможности для создания демократической республики? Для конфискации земель и так далее? Нет таких возможностей! И не будет! Стоит подумать трезво… и вывод станет ясен: должна существовать и может существовать только легальная рабочая партия, только…
– Столыпинская! – вставил насмешливый, резкий и тонкий голос.
– Прошу не прерывать меня, товарищ Рысьев! – с неудовольствием сказал Полищук. И, ускользая от гневного взгляда Орлова, выложил все свои меньшевистские доказательства, несмотря на то, что реплики с мест все время прерывали его.
– Дайте слово! – и Рысьев-Мироносицкий вскочил с места и подбежал к классной доске. Ирина видела, что он разгорячен и зол.
– Товарищ Орлов вышел и всех разбодал, – заговорил он с насмешкой в голосе и во взгляде. – Все – Враги революции, только Орлов и его присные на правильном пути.
«Отзовисты прячутся за революционную фразу»? Нет, не прячутся, товарищ Орлов! Не прячутся, а остаются верными делу революции, делу народа, которое вы, товарищ Орлов, готовы р-р-аспылить в легальщине! Ставка на Думу, на профсоюзы, на кооперативы, что это – не ликвидаторство? – стараясь заглушить возмущенные голоса, кричал Рысьев. – Да, Рысьев отказался работать в кооперативе. И не буду я там работать! Вы еще меня в торговую компанию Гафизовых пошлите…
– Будет надо – пошлем!
Тут Рысьев окончательно рассвирепел. Он пародировал, передергивал, пока наконец председатель Лукиян не пригрозил лишить его слова.
«Покончив» с Орловым, Рысьев принялся за Полищука.
– Много Орлов напутал, в одном был прав – в оценке ликвидаторства. Товарищ Полищук, знаете, куда вас клонит? К симбиозу с царизмом, в кадетские объятия! Неудивительно: выходец из буржуазии идет в родное лоно.
– Вы сам – попович! – отозвался уязвленный Полищук.
– Верно. Но я не вернусь в «лоно». Родитель правильно зовет меня «заблудшим чадом»…
– Мы, рабочие, стоим за Ленина, за его линию, – говорил Роман Ярков, глядя в упор на Орлова, точно рапортуя ему. – Не пойдет сознательный рабочий за такими, как Полищук… Такие люди – в обе стороны комлями, нашим и вашим. По-моему, гнать их надо из партии. О товарище Рысьеве я скажу лучше: ошибается…
– Голова вроде умная, а в голове – путанка! – вставил Паша Ческидов.
– Верно, Паша, в голове у него все спуталось, завилось… верно, что «заблудшее чадо»! Вы, товарищ Рысьев, учились много, у вас, видимо, ум за разум зашел. Мы – простые рабочие, а понимаем лучше: нельзя нам без легальных организаций. Я тоже вначале думал: к чему, мол, идти в Думу? Зачем это? Но товарищ Давыд, спасибо, растолковал. Подумайте-ко: наши депутаты могут там вслух говорить о всяких пакостях царизма, кадетов и прочих. На все государство их голос слышится. Рабочий почитает, послушает, подумает – поймет, какой дорожкой ему идти! Знать, крепко насолила наша фракция во второй Думе царю, если этих борцов на каторгу сослали. Царизм понимает, какой ему вред от депутатов-большевиков, а вы не понимаете, какая нам польза от работы в легальных организациях!
Рысьев вскочил. Начался отчаянный спор.
Выступил Илья. Твердо, спокойно, с железной логикой доказывал он правильность ленинской тактики. Невозмутимо принимал насмешливые выпады Рысьева… Ирина слышала, как Лукиян сказал Орлову: «На обе лопатки положил его Давыд!» А Орлов время от времени кивал Илье, как бы говоря: «Так его! Так! Правильно!»
Ирину так захватил этот спор, что она забыла о времени. После голосования она с испугом взглянула на карманные часики с чугунной крышкой и золотым ободком: было одиннадцать часов. Она сказала об этом Илье.
– Товарищи! Надо побыстрее освободить помещение! – объявил он, и все стали расходиться.
Рысьев, надевая на ходу фуражку, кивнул Орлову с веселой угрозой:
– Думаете, убедили? Мы еще поборемся!
Орлов ему не ответил. Ирина увидела, как этот сильный, суровый человек, который мог бы поднять на ладони хрупкую Софью, подошел к ней. С какой-то неистовой трепетной нежностью выдохнул:
– Друг мой!
Ирина взглянула на пылающее лицо Софьи и вышла.
Но даже двух минут нельзя было оставить их наедине: следовало привести в порядок комнату.
Вернулся Роман, вышедший одним из первых. Тихим, почти виноватым голосом он сказал:
– Извозчик на углу, товарищ Софья!.. Пора…
Орлов поднялся, взглянул на жену, на саквояж… лицо его омрачилось.
Он с усилием улыбнулся, взял пальто, помог Софье надеть его, застегнул воротник и, обхватив ее рукой, скорее понес, чем вывел из школы.
XV
Григорий Кузьмич вызывал Ирину только в крайней необходимости. Поэтому, получив его записку, она немедля отправилась к нему. «Неужели болен? – тревожно думала она, все ускоряя шаги. – Или Таля захворала? Но нет, ведь папу не вызвали! Что же случилось?»
Дядя был здоров, но печален.
– Скажи мне, Ирочка, в каких вы отношениях с Антониной Ивановной?
– Ни в каких, милый дядя… вы знаете.
– А я думал… Жаль! Думал, хоть немного сблизились… Видишь ли, какая вышла у нас история…
В старших классах мужской гимназии, где Григорий Кузьмич преподавал словесность, организовался литературный кружок. Юноши читали Белинского, Писарева, Добролюбова, горячо спорили, «приучались думать, разбираться…», обсуждали первые литературные опыты своих товарищей. «Хорошая подобралась молодежь, – рассказывал Григорий Кузьмич, – умная… честная… Но вот молодая их горячность и довела до беды! Надзиратель нашел в парте Вадима Солодковского номер рукописного журнала, прочел и обнаружил в одной статье резкие выпады против существующего порядка. Статья подписана псевдонимом. Директор требует, чтобы Вадим назвал автора, чтобы сказал, откуда у него этот журнал, кто его составляет. Вадим на все отвечает: „Не знаю“. Остальные юноши тоже отговариваются незнанием. Всему восьмому классу сбавили отметку за поведение. Вадима хотят исключить».
– А вас, дядя, ни в чем не обвиняют? – допытывалась Ирина. – Наверно, и вам грозит что-то?
– Как тебе сказать, Ирочка? Может быть, и подозревают. Ведь я – отец «крамольника»! – и старик смигнул набежавшую слезу. – Но что они могут мне сделать? Сама посуди: второй раз сына не казнишь… Ничего они мне не могут сделать! Не в том дело. Мальчиков жаль… Вадима.
– Вы хотели, чтобы Антонина Ивановна вступилась за него?
– Охлопков ее послушался бы… одно слово Охлопкова – и Вадим спасен.
– А зачем его «спасать», милый дядя? – сказала задумчиво Ирина. – Мне знаете, что кажется? Мне кажется, что ему не надо ждать исключения. Он сам должен уйти из гимназии!.. Я бы ушла.
– Да зачем же ему уходить, Ирочка?
– Выразит протест против сыска, стойкость покажет.
– Ах ты, Ира, ты, Ирочка, – с печальной улыбкой возразил дядя, – разве есть у Вадима настоящая стойкость? Он – тростник, колеблемый… Прямой подлости не сделает, товарища не выдаст… но… Вадиму надо закончить гимназию, получить аттестат.
– Что же делать, дядя?
– Уж не знаю, что… Папу твоего, пожалуй, просить не стоит.
Они разом взглянули друг на друга. Григорий Кузьмич, вспомнив о Полищуке, который один только мог повлиять на Антонину Ивановну, понял, что Ирина тоже подумала о Полищуке. Горькое, презрительное выражение появилось на лице девушки. Тяжело дыша, она сказала:
– Его просить не буду!
– Да нет, Ирочка, я и не имел в виду… конечно… я…
В тяжелом замешательстве старик не знал, что сказать, и только подчеркивал неловкость. Он решил сам поговорить с Полищуком: «Деликатно намекну ему, он человек передовой, возмутится фактом – поможет… Некрасиво обращаться за содействием к любовнику братниной жены… да что поделаешь? Спасать надо Вадима!» На том и решил.
На другой день за обедом мачеха позвала Ирину к Охлопковым.
– Кстати навестишь Августу.
Ирина согласилась. «Уже успел!» – подумала она о Полищуке и невольно взглянула на отца. Отец с наслаждением обгладывал куриное крылышко, причмокивал. «Знает он? Может, не хочет замечать?» Противно стало Ирине, и в первый раз отчетливо подумала она: «Зачем я живу здесь?» Ничто не привязывает ее к семье. Даже жалость к отцу прошла постепенно. Всем здесь она стала чужой. «Да, надо уйти!»
По дороге к Охлопковым девушка продолжала обдумывать этот шаг. «Сцены начнутся, оскорбления, но… добьюсь! Не с полицией же они меня будут удерживать? Уступят в конце концов».
Мачеха тоже молчала всю дорогу. Молча они вошли в угрюмый дом Охлопковых.
Антонина Ивановна сразу прошла к брату, а Ирина к Вадиму.
Больно ей было смотреть на измученное лицо юноши. Выпуклые глаза его стали еще больше, шея длиннее, на бледной коже беспорядочно выступили красные пятна. В движениях беспокойство, во взгляде растерянность… «Тростник, колеблемый…», – вспомнила она слова Григория Кузьмича.
Задушевно сказала:
– Знаю о вашей беде, Вадим, и что вы держитесь стойко… Иного и не жду от вас!
Он быстро, искоса, с каким-то испугом: и досадой взглянул на девушку, ничего не ответил и начал ходить из угла в угол, мотаясь длинным туловищем. Походив, остановился перед Ириной.
– Если до вечера не сознаюсь, исключат.
– Но вы не сознаетесь! – пылко сказала девушка. Она начала убеждать Вадима, что исключение из гимназии– совсем не трагедия. «Трагедия – потерять уважение к себе!» Какие силы почувствует в себе Вадим, когда вынесет это первое испытание! И, может быть, этот шаг – уход из гимназии – будет первым шагом на том благородном пути, о котором они мечтали, читая Герцена.
В дверь постучала горничная. Вадима звал к себе Охлопков.
В отчаянии юноша провел по волосам пальцами, как граблями, одернул рубашку. Ирина проводила его до дверей кабинета. Точно боясь самого себя, он сжал руку Ирины своей холодной, потной рукой.
– Побудьте здесь, Ира, прошу вас.
Она горячо закивала в ответ:
– Держитесь!
Позднее Ирина поняла, что Охлопков, согласившись выручить Вадима, хотел все же добиться признания или хотя бы утвердить свою власть над юношей. Но в то время, когда она, стоя в коридоре, слушала допрос, ей казалось, что ходатайство мачехи Охлопков отклонил.








