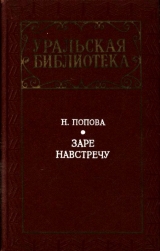
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц)
– Постой-ка, зять, мне и праздник не в праздник… гребтит на сердце-то. Давай зайдем к фершелу, ровно его сынка голос-то, Семена Семеныча? Он и есть! Шибко грамотный человек, все законы знает, он нам не одинова помогал. Зайдем посоветуем!
Они вошли.
Жена фельдшера Котельникова – седая румяная коротышка – маслила гусиным крылышком горячие шаньги.
– Посидите пока здесь, – сказала она, – у Сени земской сидит, об делах говорят. Напою их чаем, уйдет, тогда и…
– Мы на улице обождем, – сказал Ефрем Никитич.
Они вышли. Роман стал звать тестя домой, но тот хитро подмигнул и указал ему на бревна у амбара. Сидя здесь, можно было расслышать все, что говорилось в горнице.
– …роль благородная, святая! – крикливо говорил земскому Семен Семенович. – Земский начальник – это защитник населения! Встаньте, Иван Петрович, на сторону крестьян… против разбоя заводоуправлений! Прекратите нео… неописуемое беззаконие! – И тем же тоном, без всякого перехода, без паузы предложил: – Выпьем перед пирогом! Ваше здоровье! С праздничком! Я ведь именинник сегодня. Кушайте пирог! Кушайте, а я расскажу суть дела.
И Котельников с жаром, захлебываясь и повторяя, стал рассказывать.
По закону межевать наделы должны были владельцы-посессионеры. Но в течение тринадцати лет они сумели только произвести топографическую съемку. За это время между ними и населением возникло много так называемых «земельных споров». Два года тому назад посессионеры, посовещавшись между собой, отказались от межевых действий. Это дело было поручено Уральскому поземельно-устроительному отряду, работавшему в казенных дачах. Отряд этот составил и предъявил населению проекты наделов. Надельные документы поступили в губернское присутствие для совершения данных…
– Какое же право имеет завод обменивать покосы теперь? – кричал Котельников. – Покойника назад не ворочают, поймите вы!
– Но что я могу сделать? – скучным голосом сказал земский начальник. – Мне предъявлено требование об обмене…
– Да покосы эти уже на правах собственности!
– Не совсем так. Вспомните, уважаемый Семен Семенович, статьи от сорок восьмой до пятьдесят седьмой Положения крестьянских владений… Заводоуправление имеет право требовать обмена.
– Я эти статьи помню лучше вашего, уважаемый мой! А ну, до какого срока возможен обмен? Ага!
– Срок – пятнадцать лет.
– То есть?
– Экий придира! Ну, до пятнадцатого мая сего года.
– «До!» – торжествующе выкрикнул Котельников. – «До»! А их претензии поступили «после» срока! Это – раз. Второе – не поленитесь, загляните в местное Великороссийское положение, вы увидите, что обмену не подлежат угодья, которыми владеет население до девятнадцатого мая девяносто третьего года! А здесь таких много.
Земский молчал.
– Так как, уважаемый Иван Петрович?
– Мне думается, вы правы. Надо подумать…
– Подумайте, подумайте!
– …Заглянуть еще раз в законы… А теперь я попрощаюсь. Благодарю за угощение. До свидания.
Заскрипело крыльцо под тяжелыми шагами. На улицу вышел земский начальник с недовольным и задумчивым лицом. Котельников высунулся из окна. Волосы его стояли, как петушиный гребень.
– Ефрем Никитич! Заходи, старый друг, чего ты там притулился?
Он долго ходил по комнате, потирая свой желтый блестящий, будто напомаженный лоб, – все не мог успокоиться.
– Стойте твердо на своем, упритесь, как быки! – поучал Котельников. – Противьтесь всем обществом!
– Да ведь как обществом-то? – приуныл Самоуков. – Богат бедному не заединщик!
– Там видно будет! Помни: закон за вас. В течение недели дело будет в шляпе. Земский обещал.
– Да ведь он только подумать хотел, Семен Семенович. Он пока думает, а завтра второй сход у нас. Как нам с начальством говорить? Научите, Семен Семенович.
– Доверьтесь мне. Выберите меня «доверенным горнозаводского ключевского общества».
– Вы хлопотать будете, если они после второго схода не уймутся?
– Буду хлопотать! – и Котельников потер руки, как будто предстоящие хлопоты сулили одно удовольствие.
– Денег-то много ли собрать?
– Каких? Для чего?
– Благодарственные… вам…
– Безвозмездно! Беру хлопоты на себя безвозмездно… тогда и мысли ни у кого не будет, что я из интереса за вас хлопочу. Так и другим скажи.
– Одно я не пойму никак, Семен Семенович, – задумчиво заговорил Ефрем Никитич, – какая такая сласть в наших землях? Что тут кроется? То ли в казну сено хотят ставить, что ли?
Хитро-хитро улыбнулся Котельников.
– Не знаю, дорогой… Есть у меня мыслишка, сказал бы… да ведь разболтаешь!
– Ни в жизнь! – и старик размашисто перекрестился.
Котельников указал взглядом на Романа.
– Это зять мой, – сказал старик. – Что скажешь, то и умрет в моей семье.
– Зачем «умирать»? Молчать надо только до поры до времени. Выясню – и тогда мы вслух заговорим, во все колокола зазвоним. Дело вот в чем… прииск от вас рукой подать… верно? Не понимаешь? Этакий ты… А я думаю, что и на ваших покосах есть платина! Вот где собака зарыта! Вот из-за чего сыр-бор горит!
Ефрем Никитич сжал кулаки и только одно слово проронил глухим от ярости голосом:
– Варначьё!
– До поры до времени об этом никому не говори. Я проверю… А ты иди подготовь серьезных, умных мужиков к завтрашнему сходу. Противьтесь! Понял? Действуй.
VI
Дом Ярковых в Верхнем заводе скоро стал для Фисы родным. Еще в тот момент, когда они подъехали и Фиса увидела в палисадике высокие желтые, в красных гроздьях, рябины, а за домом нежно-зеленую крону лиственницы, чем-то родным, домашним пахнуло на нее: у Самоуковых на усадьбе тоже росли рябины и лиственницы…
Анфиса быстро привыкла к новому распорядку.
Она приучилась подыматься до гудка. Встанет, умоется, причешется при свете керосиновой лампы, примешает квашню, затопит печь, напоит и подоит корову Красулю, разольет по крынкам молоко… Смотрит – пора уже ставить в печку котел с картошкой или варить гороховый кисель, жарить на постном конопляном масле румяные пряженики. Поставит Анфиса на стол кипящий самовар, нальет в умывальник воды и собирается будить Романа. А тот уже давно не спит: глядит украдкой сквозь ресницы, как жена на пальчиках летает по дому – не стукнет, не брякнет…
– Ромаша! Гудок ревет, вставай!
Роман обхватит ее шею горячими руками, тянет к себе… «Романушко, что ты! Мамаша проснулась!» – и вот уже Фиса вывернулась из рук, хлопочет у стола, смеется, поглядывая на мужа исподлобья веселыми, лукавыми глазами.
Проводив Романа, она принимается за уборку.
Метет березовым веником пол, сплошь устланный пестрыми половиками, вытирает пыль, поливает цветы – фикус, герани, розаны. Вынет хлеб из печи, выставит горшок с похлебкой на шесток, чтобы не выпрела, наносит воды из колодца… А приберется – сядет к окну, вышивает по канве крестом черные листья и красные цветы.
Вышивает, а сама осторожно следит за каждым движением свекрови: не надо ли помочь, услужить.
Достанет старуха противень, а Фиса уже режет хлеб, знает, что надо сушить сухари.
– Соль-то у нас вся в солонке? – спросит свекровь.
– Сейчас натолку, мамаша! – и весело, охотно начинает молодушка толочь в ступе каменную соль.
Анфиса уважала свекровь и побаивалась ее. Старуха была неулыбчива, молчалива… Но зато никогда не привередничала, не придиралась к снохе. Бывало, в спешке то чашку разобьешь, то крынку опрокинешь. За это дома крепко доставалось от отца – «Дикошарая! Вертоголовая!» А свекровь не пообидит, не изругает никак, только скажет:
– Чего испугалась? Не съем!
Старушка часто страдала приступами ревматизма. Фиса помогала ей влезать на печь, натирала руки и ноги настойкой из березовых почек, водила в баню, парила.
Она от души жалела свою свекровь. Жизнь старушки была многотрудная. Муж стал калекой в молодых годах. Роман помнит, как мать, работавшая на ткацкой фабрике, прижимала ладони к кипящему самовару, чтобы «прижечь» кровавые мозоли. Нанималась она садить и полоть в огородах, мыть полы, стирать белье. Муж смотрел-смотрел на ее маяту – не мог вынести – удавился в малухе. А вскоре умер от оспы старший сын. Через год – от скарлатины дочь. И осталась она с Романом.
Сдержанная старуха не любила командовать, не совалась с указками, разве иногда скупо обронит совет. Как-то, глядя на широкие загорелые ступни снохи, свекровь проговорила:
– Ты, Анфиса, пошто ботинки-то не носишь?
– Да ну их! Жарко в них ноге… тесно…
– Обулась бы… Привыкала бы по-городски ходить… а то смотрю давечи, Ерошиха глядит на твои ноги с насмешкой.
– Ой, мамаша, – испугалась Анфиса, – что бы тебе раньше сказать? Не знала я.
И Фиса перестала ходить босиком.
Каждый вечер, с нетерпением поджидая Романа, Фиса ходила от окна к окну, выбегала за ворота. Когда муж приходил, она помогала ему раздеться, мыться, усаживала за стол.
– Да будет тебе летать-то, летяга, посиди лучше со мной, мне еда слаще покажется.
– Хорошо, я сейчас! – но опять вскакивала с места, чтобы подать ему то или другое.
После обеда жена мыла посуду, а муж курил, сидя у окна. Она уговаривала:
– Пойди ты, Ромаша, полежи, отдохни, а я пойду Красулю управлю.
Потом они сумерничали: Роман – лежа, а Фиса – сидя на краешке кровати.
Иногда Роман просил:
– Фисунька, спой «Оленя»!
И Фиса несмело, вполголоса начинала:
Во поле-полюшке ходит олень,
Белый огонь – золотые рога,
Мимо него проезжал молодец,
Роман, свет Борисыч, младешенек…
Взмахнул на оленюшка плеточкою:
– Я тебя, олешик, стрелой застрелю!
– Нет, не стреляй, удалой молодец!
На пору на время тебе пригожусь:
Будешь жениться, на свадьбу приду,
Золотыми рогами весь дом освечу,
Песню спою – всех гостей взвеселю!
Роман подпел густым баритоном. Начинал тихо, потом все громче и громче. Последние слова во весь голос. А Фиса в это время как бы опять переживала недавние дни. Ей казалось, что вот только что, только что отзвенел тонкий надорванный голос матери: «Дитятко, воротися, милое, воротися!» В груди закипали сладкие слезы, руки невольно сжимались. Анфиса начинала свою любимую песню о дивьей красоте:
Как пошла моя дивья красота
Да из моей она из горенки.
Пошла да покатилася,
С красной девицей распростилася.
Голос Анфисы прерывался и дрожал. Нега, ласка, грусть – все сплеталось в этой песне…
Доходила моя дивья красота
До порога до дубового,
Оттуль назад да воротилася,
С красной девицей распростилася:
– Ты прости, прощай, красна девица!
Прощай, умница моя да разумница…
Эту песню пели девушки, одевая Фису к венцу, а она дарила им цветы, дивью красоту.
– Перестань-ка, – унимала свекровь, – услышат люди, засмеют, скажут: «Ярковы, мол, венчались и все, а все еще дивью красоту поют!» Лучше бывальщинку бы какую-нибудь рассказала, Фиса, про старо время.
Побывальщин Фиса знала множество, но это были все мрачные, таинственные истории. Она рассказывала их, понизив голос, точно боялась, что кто-то страшный подслушает и предстанет перед нею.
– Вот в Туре женщина была, такая обиходница, чистотка. А к ней нищий пришел. Она крылечко моет, голиком с песком продирает… «Ну куды тебя с грязью тащит? Некогда мне, не до милостыни!» Он взял да свиньей ее и сделал… обратил ее. Она и давай бегать по дворам. Муж ищет, а соседка ему говорит: «У тебя ведь бабу-то свиньей сделали!» – «Кто сделал?» – «Нищий старичок, она ему милостыню не подала». – «Как же мне быть теперя?» – «Не горюй, – говорит соседка, – вот я найду человека, ее отчитают, только ты денег дай!» Ну, он дал ей денег… Недели две ли, боле ли бегала его баба свиньей. Потом пришла в человеческом обличье…
Роман захохотал:
– Наверно, эти две недели у своего любовника прогостила! Эх дичь!
– Не смейся, Романушко, – остановила Фиса, – то я и рассказывать не буду. Скажешь – и вещицы тоже неправда?
– А, конечно!
– Нет, уж вещицы – это правда истинная! У нас в Ключевском была одна, летала, как сорока, только крупнее и без хвоста…
– Это бывает, – сказала свекровь. Роман недовольно крякнул.
– А то еще огненные змеи летают.
– Деньги таскают, – сказала свекровь. – Это я знаю. Петух раз в три года яичко сносит, станешь это яичко парить за пазухой – выпаришь огненного змея. Он станет деньги таскать тебе. Только если его через три года не убьешь, он тебя задавит. Все говорили, Ромаша, что Брагину он задавил. Помнишь, Брагину-то?
– Брагину я помню, только не помню, чтобы после нее деньги остались: видно, ленивый был у нее змей– то, – сказал он с усмешкой.
– У нас в Ключевском не такой змей летал, – продолжала Фиса. – У нас баба одна, вдова, все думала о муже, он и давай к ней летать! В форточку залетит змеем, а на пол станет человеком, спать с ней ложится… Сохла да сохла, так он ее и задавил. Тятя сам видел этого змея. Пришел и сказывает: «Видел ведь я змея-то! Долгий, искры сыплются».
– Неужто веришь, Фиса? – с досадой спросил Роман. – Ведь этого быть не может!
– Тятя врать не станет. Вот приедет, спроси его, уверься… Мамаша, скажи ему: ведь бывает так? Верно?
– Слыхала, – сдержанно ответила старушка.
Романа начинал не на шутку раздражать этот разговор.
– Ну, хорошо, – повышенным голосом начал он, – у других бывает, почему у нас не бывает? Тятя не своей смертью помер, а поблазнило ли хоть раз? Не было этого, и быть не могло… Знаешь что, Фиса, пойдем-ка сходим в малуху!
Фиса так и обмерла:
– Ночью?
Она до смерти боялась малухи. Даже в ясный день вид ее казался Фисе зловещим. Пробегая в сумерках по двору, чтобы открыть Роману ворота, она никогда не глядела в сторону малухи.
Роман поднялся с кровати.
– Собирайся, пойдем!
– Не пойду я…
– Эх ты! – укоризненно сказал Роман и добавил с улыбкой:
– Ладно, нею один пойду, – пусть меня покойники задавят.
– Роман! – строго остановила мать. Но он, посмеиваясь, вышел, хлопнув дверью.
Фиса догнала его в сенях.
Романа тронула ее решимость. Баба дрожит – зуб на зуб не попадает, – а не хочет оставить мужа одного. «В беде не бросит!» – подумал он, крепко обнимая ее за плечи… но все-таки повел с собой в малуху.
Дверь со скрипом отворилась. Пахнуло печальным запахом нежилой избы. Когда Роман прикрыл дверь, они очутились в темноте. Только маленькое окошечко слабо брезжило впереди.
– Тятя! – позвал Роман и почувствовал, как сильно вздрогнула жена. – Эй, тятя! Отзовись, покажись!.. Нет, милка, не бойся, не придет мой тятя и голоса не подаст. – Он нашел губами ее лоб. Лоб был в поту. – Ну, пошли домой. Да смотри, вперед не верь бабьим запукам, не бойся.
Так день за днем Роман Ярков все больше узнавал свою жену.
Романа не раз подмывало рассказать ей, чем он живет и дышит, но он не смел… не знал еще, можно ли доверить общее дело молодой жене. Ее высказывания, ее вкусы заставляли его настораживаться. «Книжки читает все про графов да про князей, про балы да про любовь, а про простой народ читать, видишь ли, ей скучно! Нет, не скажу, как бы худа не было! Как можно доверить такое дело? Она с тещей поделится, до тестя дойдет…»
В первые же дни пребывания в Верхнем поселке Анфиса познакомилась с соседями. Рядом с Ярковыми жили Ерохины – отец, мать и сын. Смирный, богобоязненный старик заходил иногда – посудить с Фисиной свекровушкой о душе, о справедливости… Старуху Ерохину, пронырливую, громкоголосую, с морщинистым лицом старой сплетницы, не привечали у Ярковых, но забегала она «по соседскому делу» частенько. А сын Степка и порога не переступал! «Мирова их не берет с Романом, – говорила свекровь Анфисе. – Роман холостой был, в разных ватагах они гуляли». Степка был наглым, драчливым парнем. Узкоглазый, узкоплечий, жилистый, с выдавшимися лопатками, с большим кадыком, с вытянутой вперед шеей, он, казалось, жадно тянется к чему-то, что-то вынюхивает, чтобы захватить себе… а иногда казалось, что он ищет, к чему бы придраться. Степка любил пофрантить, по воскресеньям носил галстук и суконную пару. На прогулку не выходил без толстой железной трости.
За домом Ерохиных стояла низенькая старенькая избушка Ческидихи. Пожилая, но еще крепкая вдова Ческидова дружила с Фисиной свекровью. Женатый сын ее и замужняя дочь жили в Перевале. Младшенький Паша сидел в тюрьме «за политику». Ческидиха жила тихо, бедно, работала на фабрике туалетного мыла.
Часто заходили к Ярковым ближние и дальние соседи, много бывало и незнакомых Анфисе рабочих. Вначале это ей нравилось: она видела, что Роман, несмотря на свои молодые годы, пользуется уважением. Анфиса не вслушивалась в мудреные разговоры о каком-то третьеиюньском перевороте, о каких-то столыпинских законах, о какой-то «нашей фракции» – все эти мужские дела ее не интересовали. Напоив гостей чаем, она уходила в горницу с книжкой или с вышивкой.
Однажды к Ярковым неожиданно заявился Паша Ческидов, только что выпущенный из тюрьмы. Роман обрадовался, обнял и расцеловал гостя. Анфиса постаралась, приняла Пашу «как следует» – забегала, захлопотала… Много раз слышала она от Ческидихи, что Паша «смирёный, он невинно страждет!». И вдруг он спокойным голосом начал поносить царя и буржуев… Фиса не выдержала:
– Павел Савельич, покороче бы язык-то надо держать!
Паша с недоумением взглянул на нее.
– Да ведь тут все свои…
– Свои, да не ваши! – отрезала Анфиса.
Она бы не сказала так, если бы знала, как ее слова рассердят мужа. Роман вскочил с места, налился весь кровью…
Отбросив ногою стул, сказал сдавленно:
– Айда, Паша, в малуху!
Они долго сидели в подсарайной избе, потом Роман проводил Пашу и зашел к Ческидовым.
С той поры Анфиса, поджидая мужа с работы, часто видела, как он сворачивает к дому Ческидовых, – видно, старая дружба не ржавела!
Как-то Павел пришел с тремя незнакомыми парнями. Роман не пригласил их в избу, увел в малуху. Горько это было Анфисе, но она смолчала, виду не подала.
Пришел как-то невысокий, щуплый человек, попросил передать Роману, что был Давыд. Роман, узнав об этом, не стал обедать, взял большую плетеную корзину и ушел. Вернулся он поздно, с пустой корзиной.
– Сходил ни за чем, принес ничего, – пошутила Фиса, ожидая, что он объяснит ей, в чем дело.
Роман на шутку не ответил.
Убирая на место корзину, Фиса нашла в ней металлическую пластинку, и вдруг страшная мысль пришла ей в голову…
– Я тебе про бабушку Маланью не рассказывала? – спросила она мужа, когда они улеглись в постель. – Нет? Это не моя бабушка, тятина… Ее в Ключевском звали государевой снохой – у нее муж двадцать пять лет в солдатах служил, там и помер. Ну ладно, вырастила она двух сынов: один хороший, а другой связался с худыми людями. Вот соберутся, куда-то уйдут, деньги у него появились, пить стал, гулять. Бабушка Маланья терпела-терпела – и давай молиться богу: «Господи батюшко! Если сын мой хорошим делом занимается, пошли ему удачи… а если на худое дело пошел – покарай!» Бог-то услышал и покарал! Попались! Они фальшивые деньги делали.
– Что это тебе на ум пришло?
– Не знаю… – робко ответила Анфиса. – Вот ты все от меня таишься, я не знаю, что и подумать…
– Не бойся! Не фальшивые деньги делаем.
– А какие? – испуганно спросила Анфиса.
– Да никаких не делаем… Мы про жизнь судим, книжки читаем.
– А с корзинкой куда ходил?
– Подрастешь – узнаешь, – неохотно ответил Роман.
VII
Недели через две после свадьбы к Ярковым приехал Ефрем Никитич: молодых захотелось ему навестить, и было у него неотложное дело.
Вечером, встречая мужа у ворот, Фиса так и сияла:
– Тятя приехал! Он платину нашел!
– А ты чему рада?
– А как же? Уж он нас не оставит.
Роман поглядел на нее непонятным ей, недовольным взглядом.
– Может, он даст, да я-то не возьму.
– Да отчего же, Романушко?
– Буржуем ни в жизнь не буду.
Ефрем Никитич не заметил, что дочь приуныла, а зять нахмурился. Молодцевато подкручивая усы, поглаживая курчавую бородку, он рассказывал, как нашел платину:
– Кругом один, денег-то ни шиша не было. Сам дудку пробил, сам землю воротком подымал. Упластал– ся так, что, думаю, вот-вот дух вон! А ничего, выдюжил. Но только один сполоск и сделал… вражина-урядник помешал… изломал мою снасть… Ну, ничего, вот весна– матушка придет, я теперь знаю, где мое счастье лежит! Возьму! Ваши дети, может, в двухэтажных хороминах будут польку плясать по-городскому!.. Только вот… – он не договорил, погрузился в мрачное раздумье. – Своди-ка меня, милый сын, к Семену Семенычу. Фершалиха написала, где он квартирует.
– Ну что же, папаша, пойдем сходим.
Котельников встретил их приветливо, хотя они и подняли его с постели.
– А! Гости! Милости прошу, только угощать мне вас нечем, живу по-спартански…
– Мы не за угощеньем, Семен Семенович, – степенно ответил Ефрем Никитич, – вот тебе матушка твоя гостинчиков послала, кушай на доброе здоровье… а мы посоветовать с тобой пришли.
– Платинешку-то ведь я нашел!
Семен Семенович так обрадовался, что и про гостинцы забыл.
– Преотлично! Поздравляю! Значит, правильно я угадал!
– Правильно-то правильно, только есть одна заковыка. Люди говорят, что, дескать, по верху на наших землях, то наше… а что в нутре – то господское. Правда ли это?
Котельников, накинув на плечи пальто, стал расхаживать по своей большой, пустой, ничем не украшенной комнате.
– Вопрос о недрах – вопрос серьезный, но небезнадежный, – начал Котельников. – Закон девяносто третьего года нам что говорит? Что девятнадцатого мая сего года вы получили право собственности на наделы…
– Бумаги-то ведь все еще в губернском присутствии.
– Минуточку!.. До девятнадцатого мая заводы имели право разведывать и разрабатывать ископаемые в ваших угодьях… имели право потребовать обмен… А теперь– поздно!.. Разведки на ваших землях ведь не было?
– Ни единого шурфа не пробили.
– Значит, все!
– Я чего боюсь, – вздохнул Самоуков, – того и боюсь, что как узнают про платинешку, так и отберут мою землицу.
– Я тебе, Ефрем Никитич, сейчас ничего не скажу решительного. Вот проштудирую новые законоположения…
– Чего сделаешь?
– Почитаю. Вооружусь! Потом я тебе скажу, стоит говорить, что у тебя платина нашлась, или не стоит. А пока молчи!..
Погасив свет, Фиса обняла мужа, прижалась головой к его плечу, ожидая ласки. Но Роман лежал неподвижно, заложив руки за голову. Он был растерян, огорчен. «Ясно, тесть вылезет в буржуи!» Все в нем возмущалось против этого, но что делать, он не знал.
– Ты на кого осердился? – шепнула жена.
– Да нет, – ответил от тоже шепотом, – я не осердился… Об жизни думаю… Загадали вы с тестем мне загадку!
– Коли счастье привалило, дурак только откажется. Неужто хочешь, чтобы всю жизнь на тебе ездили?
– Не хочу, – отозвался Роман, – но и сам не согласен на народе ездить.
– А кто тебя заставляет? Можно и богатым быть, и народу добро делать!
– Нет, нельзя!
Всем нутром понимал Роман, что прав он, а не Анфиса, но доказать ей не мог. Мысли его не могли оформиться в слова.
– Как же ты, Романушко, мечтаешь? – спросила Анфиса.
– Как мечтаю? Сбросить царя, буржуев, дать власть трудовому народу.
– Да в уме ли ты, Роман?
Фиса заплакала.
– Это все Пашка, каторжник этот тебя сбивает… Повадился реможник[2]2
Ремки – лохмотья. Реможник – оборванец.
[Закрыть] этакой…
Но она разом смолкла. Роман откинул одеяло да так и взвился с постели.
– «Реможник»! Это твое слово… – говорил он свистящим шепотом, расхаживая по горнице. – Этого я тебе не забуду!
Анфиса испугалась и стала просить прощения.
Но вскоре она забыла и об этом разговоре, и о мыслях Романа…
Новая забота заслонила все.
Как-то под вечер к окну подошла женщина, спросила Романа Борисовича.
В белом шарфике, темно-рыжая, синеглазая, она показалась Анфисе необыкновенной красавицей.
– Нету его… он еще с работы не приходил… А вам на что его? – не удержалась Фиса от ревнивого вопроса.
Женщина не ответила.
– Передайте, пожалуйста, что заходила Петровна. – И, поклонившись, отошла от окна.
– Куда же вы? Зайдите! Дождитесь! – кричала ей вслед Фиса, сама не понимая, что с ней делается. Сердце билось так, что она придерживала его рукой. Хотелось одного: чтобы Роман и эта красавица встретились при ней, у нее на глазах.
Женщина покачала головой и быстро пошла прочь. Высунувшись из окна, Фиса следила за нею взглядом.
– Что это к тебе барышни запохаживали? – стараясь говорить шутливо, спросила она Романа. – Кто хоть она такая?
Муж ответил, опустив глаза:
– Не знаю никакой Петровны.
Фиса поняла, что он солгал.
VIII
В трех верстах от южной окраины города, на берегу речушки Полдневой, стояла дача купчихи Бариновой. На лето эта дача сдавалась, а зимой стояла пустая.
Однажды осенью, когда Баринова сводила счета со своим квартирантом Чекаревым, к ней пришла незнакомая девушка и заявила, что хотела бы снять дачу на зиму, так как врачи советуют ей пожить на чистом воздухе, в уединении, в тишине. Девушка и в самом деле казалась больной.
На расспросы Бариновой посетительница отвечала, что зовут ее Софьей Ивановной, она – дочь врача Березина… Отец недавно умер.
– Зачем же вы из Мохова уехали, Софья свет Ивановна?
– Свадьба моя расстроилась, – горько усмехнулась девушка.
Баринова оживилась. До страсти любила она рассказы о несчастной любви… Но девушка рассказывать ей свою историю не захотела.
– Как же вы на даче жить станете? Боязно одной– то! Сторож и тот не живет, а только находом ходит.
– Не будет мне страшно.
– А кушать что будете?
– Раз в неделю схожу в город… – И девушка пожала плечами, как бы говоря: «Не ваша забота!»
Баринова подумала-подумала…
– Так что же, – сказала она, – чем так стоять даче– то… Как думаешь, Сергей Иванович?
Чекарев сдержанно сказал:
– Я бы пустил на вашем месте.
– «Пустил бы»!.. Да ведь хлопоты! Вот ее на дачу проводить, вот прописать ее, как же не хлопоты?
– Чем могу, я вам готов помочь, – сказал Чекарев. Баринова того и ждала…
– Вот спасибо тебе, Сергей Иваныч… А сколько с нее взять? – спросила она, как будто Софьи и в комнате не было. – Пятнадцать рублей в месяц будешь мне платить, Софья Ивановна?
– Пятнадцать не буду. Десять.
– Ну, ин ладно. А как ты на меня натакалась? Как про дачу-то узнала?
– Расспрашивала, у кого есть дачи, мне и сказали, – неохотно ответила Софья.
Через два дня Софья Ивановна переехала на дачу. Ее провожали Чекаревы.
Действительно, в двух комнатах и в кухне было пусто, но кой-какая мебель все же нашлась. Стоял широкий старый диван, кухонный стол, две табуретки, небольшой бак для воды. В чулане Чекарев обнаружил три сломанных стула, которые тут же починил. Мария расстелила кошму на диване, покрыла ее простыней и развесила коленкоровые занавески на окна.
Потом Сергей Иванович продолбил прорубь на речке, натаскал в бак воды. Вскоре привезли воз дров. Стали протапливать обе печки – и русскую, и круглую. К вечеру приехал Роман. Сергей Иванович помог ему выгрузить из плетеного короба и внести в домик деревянные ящики, корзины, кой-какую домашнюю утварь. На дне короба под сеном лежали кипы бумаги. Ее сложили в угол и накрыли одеялом. Мужчины стали монтировать небольшой печатный станок.
Софья начала расставлять и раскладывать по полкам стенного шкафа жестяные банки с типографской краской, с клеем, медные линейки, верстатку, валики, накатывающие краску, кисти, щетки, куски типографской клеевой массы.
– Кассу поставьте в этот угол, за диван, – подсказала она, – тут будет и под руками, и не на виду. – И Софья худыми руками тоже схватилась за ящик, где в гнездах лежал шрифт. – А станок – под стол.
– Да отдохните вы, – просила Мария, – все равно Давыд раньше завтрашнего дня не придет.
Роман стал торопить с отъездом: он обещал хозяину лошади – возчику угля – возвратиться к девяти часам.
Оставшись одна, Софья дунула в ламповое стекло, погасила свет, легла на диван, зябко укутавшись одеялом. Ее лихорадило. Кровь стучала в виски. В комнате пахло угаром, как всегда бывает, когда затопят печь в давно не топленном помещении. За окнами медленно, важно шумел сосновый бор. Странно было сознавать, что ты находишься в безопасности, в темной, теплой тишине, после волнений бегства, после голодного и холодного скитания. Если бы не случайная встреча со знакомым рабочим-подпольщиком в Мохове, что было бы? Перед Софьей всплыло доброе круглое лицо той девушки, которая дала ей свой вид на жительство. «Берите, берите! Ну, что вы! Со мной ничегошеньки не случится, скажу, что потеряла…»
«Потом свяжусь с центром: пусть на самый трудный участок направят! А пока отдохну на технике!»
Она зажмурилась, пытаясь уснуть, но сон не приходил.
«Гордей!.. Может, в ссылке, вот так же слушает, как шумит тайга… А может, тоже на нелегальном положении? Встретиться бы…» – И, не сдерживая теплые, обильные слезы, она дала волю мечтам.
Утром, когда на шестке весело зашумел чайник, вдруг стукнула калитка. Мимо окон прошел, широко шагая, невысокий, слегка сутулый молодой брюнет. Софья поднялась. Он снял шапку, обмахнул голиком снег с сапог и назвал себя.
– Давыд.
– Я вас жду, – сказала Софья. – Раздевайтесь, садитесь чай пить. Хотите?
– Очень хочу. Промерз. Но прежде… – он заглянул в дальнюю комнату. – Есть окно на той стене? Хорошо! Я выставлю раму.
Он выставил внутреннюю раму, раскрыл окно, вылез наружу, повесил на дверь замок и влез обратно.
– Кто бы ни пришел – дом на замке. Теперь только окна плотнее завесить. Хороша дача. Как раз для техники.
Они напились чаю и прошли в комнату, освещенную матовым ровным светом, проходящим сквозь легкие белые занавески. Илья выдвинул станок из-под стола. Софья спросила:
– Что будем делать? Газету?
– Нет, текст не готов. Эти дни мы с вами будем программу печатать.
– Каким форматом?
– Вот, – показал Илья маленькую книжечку.
– Тираж?
– Десять тысяч.
– Ого, – сказала Софья, – вы давно в технике, Давыд?
– На гектографе работал много, а набирать научился за эти два месяца, что работаю в типографии.
– Два месяца! – и Софья слегка улыбнулась тонкими бесцветными губами. – А я восемь лет была наборщицей в Петербурге да три года в технике работала до самого провала.
– Сколько вам лет? – спросил Илья, задумчиво глядя на Софью.
– Лет? Двадцать пять… Это меня тюрьма так износила… Ну, давайте работать.
И Софья разом точно забыла о присутствии Ильи. Рука ее так и замелькала между кассой и наборной линейкой.
Широкими, торопливыми шагами шел Илья по дороге к городу. Он спешил на завод Яхонтова, чтобы передать слесарю Васильеву программу партии и условиться о времени занятия кружка. После встречи с Васильевым – заседание комитета у Чекаревых… Потом ночная смена в типографии. Зайти в харчевню перекусить времени не оставалось. Илья купил у мальчишки-лотошника копеечную сайку.
Механический завод Яхонтова раскинулся между Северной привокзальной улицей и Вознесенской горой. Непривычная тишина поразила Илью. Не слышно знакомого шума трансмиссий, грохота клепальных молотков, кузнечных молотов, железа… Он подошел ближе и услышал гомон возбужденных голосов.
Сквозь литые узорчатые чугунные ворота видно было толпу на заводском дворе. Люди сгрудились…
И вдруг, точно поднятый ими, вынырнул, вырос над толпой молодой рабочий. Размахивая руками, как пловец, он выкрикивал рвущимся от негодования и боли голосом:








