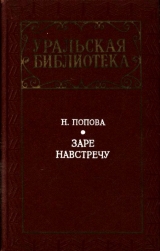
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 25 страниц)
– A-а, этот! – обиженно сказал Вадим. – С ним говорят серьезно, а он…
– Мой Николас умница! Сила! А изворотлив как! Как лукав! Куда там Маккиавелли! Далеко ему до Николаса!.. Вадька, не злись ты! Если хочешь преуспеть в жизни, Николасовой линии держись.
Вадим потерял терпение.
– Послушай, Валерьян, – заговорил юноша, расхаживая по тесной комнате, – оставь этот тон. Зачем издеваться? Ты совсем меня не знаешь, приписываешь мне чужие чьи-то побуждения… желания… Я, Валерьян, не так легко схожу с намеченного пути.
Рысьев, потушив насмешливый блеск глаз, казалось, сочувственно слушал Вадима. «Чем-то он меня ошарашить хочет!»
– Я – член революционной организации! – отчеканил Вадим, остановившись перед Рысьевым и наслаждаясь его изумлением.
– Вадька, не ври!
– Не лгу, – с достоинством ответил Вадим. – Может быть, я не должен говорить об этом тебе, ты отошел от нашего дела… Но я, Валерьян, верю в твою порядочность, знаю тебя… Как видишь, роли у нас переменились, – добавил он с некоторым самодовольством, – теперь я – бунтарь, а ты благонамеренный.
– Кто же тебя вовлек в это дело?
– Не спрашивай. Ты понимаешь, я могу говорить о себе, но не о товарищах.
– Ух, как бла-а-родно! Да ты, оказывается, и конспиратор хоть куда! И что же ты делаешь в организации? Не секрет?
– Нет, отчего же? Тебе я могу сказать, не вдаваясь в подробности: провожу беседы с рабочими, письма зашифровываю.
Рысьев встрепенулся:
– Доверие тебе оказано большое! Письма… Какие письма, Вадим? Ну, удивил ты меня!
– Содержание я не могу тебе передать, не имею права. Но я назову адресат, и ты поймешь важность… Письма идут в Заграничную организационную комиссию.
Эти слова, как молния, осветили Рысьеву все: «Письма примиренцам в ЗОК! Попал Вадька к мекам в лапки!.. Значит, они нам все-таки палки в колеса… ясно!»
– Сознайся, Вадим, это Полищук тебя оседлал.
По растерянности Вадима видно было, что стрела попала в цель.
– Как ты?.. Почему Полищук? Совсем не Полищук!
– Да уж не отпирайся, знаю я. Доверие так доверие… а не доверяешь – пошел к черту!
– Валерьян, – с достоинством сказал Вадим, придя в себя после испуга, – я тебе доверяю, но не имею права говорить о партийных делах… пока ты вне организации. Иди к нам! Будем работать вместе… Это еще больше укрепит нашу дружбу.
– Нет уж, спасибо на угощении! – хмуро ответил Рысьев. После долгого молчания он сказал, поднявшись с креслица: – Если свою Фроську ждешь, не жди! Уехала, дура, в Пермь, женихом сестра поманила, наклевывается там женишок.
– Ты намекаешь, чтобы я ушел?
– Намекаю.
Вадим не обиделся.
– Я ведь к тебе, Валя, по делу зашел. Августа просила, чтобы ты ее навестил. Когда сможешь?
Вспышка дикой радости обожгла Рысьева.
– Какого же черта ты молчал? Пойдем. Сейчас же пойдем.
Монастырь, казалось, спал под снегом.
Вадим повел Рысьева по тропинке между сугробами к отдаленному, тихому корпусу.
Августа жила в угловой келье. Одно окно выходило на широкий монастырский двор, второе – на кладбище.
«Все время – моменто мори, – подумал Рысьев, и сердце у него сжалось. – Сидит, лелеет свою грусть печальная невеста!»
Он почтительно склонил голову перед Августой и, не имея силы взглянуть на нее, стал осматриваться по сторонам.
В келье стояли узенькая, застланная белым покрывалом кровать, стол под клеенкой, шкафик с глухими стенками, сундук. Пол покрывали тканые шерстяные половики в бордовую и синюю полосу. Все было чисто, строго. В углу перед «Молением о чаше» слабо мигала лампадка синего стекла.
Августа пригласила садиться. Вадим передал сестре поклоны от тетки, от Люси, спросил, не надо ли чего ей принести… Вытащил из-за пазухи книгу, – Августа сунула ее в шкафик. Судя по обложке, это был сборник стихов Блока.
Посидев несколько минут, Вадим поднялся:
– На днях зайду к тебе, Гутя. Бальмонта принести или Ибсена?
– Принеси книг побольше.
Вадим ушел.
– Вы звали меня? – тихо спросил Рысьев.
Ни словом, ни взглядом он не смел обнаружить чувство. Он стал осторожен, как охотник… точно по трясине пробирался: «Не оступиться! Не вспугнуть!»
Рысьев задушил, загнал внутрь все, что могло оттолкнуть, насторожить Августу. Глядел в ее изжелта– бледное бесстрастное лицо, стараясь изо всех сил выразить во взгляде почтительную дружбу. Некоторое время Августа молчала… но вот она подняла на него взгляд, почти лишенный выражения.
– С годами мы делаемся мягче, человечнее…
– Да, Гутя?
– Я сурова, слишком сурово обошлась с вами, Валерьян, в последний раз. Это меня мучает… И вот я решила…
– …Подачку сунуть нищему, – закончил ее мысль Валерьян, холодея от оскорбления. Поборов это чувство, он сказал с почтительной нежностью:
– Разве я не понимаю вас, Гутя? Давайте поговорим откровенно! Хоть раз! Я знаю, что вас мучает… В ваших глазах я не живой, страдающий человек, а тяжелое напоминание… Словом, вы не можете простить ни себе, ни мне то, что были известные отношения, обидные для… Лени…
Она наклонила голову.
– А меня это разве не мучает? – с неподдельным страданием заговорил Рысьев, буквально изнемогая от ревности, от жажды ласки. – Гутя, Гутя! Я сам благоговею перед его памятью.
И слезы ярости покатились по его щекам.
Августа протянула ему руку.
– Валерьян! Простите! Я не знала вас…
Он поспешно взял эту руку, удержал в своих горячих ладонях, но пожать не посмел.
– Гутя! Будем друзьями! Будем говорить о нем… чистом… светлом… пусть в сердцах у нас, как алтарь ему…
Радуясь, что нашел тон, в котором можно говорить с Августой, он нанизывал слово за словом, обволакивал ее нежностью… и побоялся одного: а вдруг не сдержит порыв?
Тогда все будет кончено.
VIII
Из уважения к Охлопкову Горгоньский не нарушил покой его дома обыском и арестом, – он вызвал Вадима Солодковского в канцелярию.
Сидя у высокой двери в кабинет, Вадим придумывал остроумные резкие ответы на те вопросы, какие может задать ему Горгоньский. Но где-то, в глубине сознания, начинала шевелиться глухая тревога.
Юноша прошелся по канцелярии, ярко освещенной электричеством, взглянул на стенные часы, сверил их со своими карманными…
Дверь распахнулась, выбежал красный, сердитый писарь Горгоньского. Вадим подтянулся, ожидая, что сейчас позовут… но писарь даже не взглянул на него.
– Меня вызывали к четырем, а вот уже семь, – сказал Вадим с достоинством.
Писарь невидящими глазами посмотрел на него, сказал: «Обождите!» – и, разгладив сердитые морщины на лице, вошел в кабинет.
Вадим достал папироску, но не закурил, так как секретарь сурово остановил его взглядом.
Вдруг в кабинете послышался крик Горгоньского… угрозы… брань… В канцелярии никто и ухом не повел. Вадим же окончательно разнервничался. Истомленный ожиданием, он хотел одного: уйти отсюда поскорее. Вышел в холодный, темный коридор, постоял, но уйти не посмел и вернулся в канцелярию.
Снова открылась дверь. Из кабинета, в сопровождении жандарма, вышел молодой коренастый фабричный рабочий. Он грозно хмурился. Одна щека у него вспухла и побагровела.
– Войдите, – сказал писарь Вадиму.
С Горгоньским юноша изредка встречался в обществе, они, как говорится, были «шапочно знакомы»… и в его представлении ротмистр был ловким, льстивым дамским угодником, умелым рассказчиком рискованных анекдотов.
Теперь Вадим увидел другого Горгоньского. Этот Горгоньский стоял, как монумент, за тяжелым письменным столом и нахально, как показалось Вадиму, выпускал из ноздрей струи папиросного дыма.
Ротмистр бегло взглянул на юношу, руки не подал.
Велел… именно – не пригласил, а приказал сесть. Протянул бумажку, сказал:
– Прошу заполнить листок.
И твердыми, начальническими шагами стал прохаживаться по кабинету.
Не веря глазам, Вадим прочел написанный рукою писаря заголовок:
«Сведения о лице, привлеченном в качестве обвиняемого по делу соучастия в подпольной организации социалистов».
На одной отграфленной половине листа тем же почерком написаны были вопросы о фамилии, возрасте, вероисповедании («если выкрест, отметить особо»), об образовании, занятии или ремесле, об отношении к воинской повинности и так далее. Десятый пункт был сформулирован так: «Основания привлечения к настоящему дознанию и статьи Уголовного уложения, по которым предварительно обвиняется…» В строке для ответа писарь написал: «I часть, 102 статья Уголовного уложения».
Дальше шло еще девять вопросов, отвечать на которые, очевидно, должен был сам Горгоньский, ибо речь шла о времени и месте дознания, о допросах, о предметах, обнаруженных «по обыску», о принятых «мерах пресечения», о содержании под стражей, о заключении…
Юноша прочел… и растерянно уставился на тонкую ножку настольной бронзовой лампы.
– Что же вы не пишете? – холодно осведомился Горгоньский.
– Но, Константин Павлович…
– «Господин ротмистр», – оборвал Горгоньский. – Пишите же!
Когда Вадим добросовестно заполнил все графы «листка», какие должен был заполнить, и ротмистр бегло просмотрел написанное, начался допрос.
Он начался несколько необычно. Горгоньский достал из папки зашифрованное письмо и показал, не давая в руки (то, что на официальном языке называлось: предъявил):
– Это вы писали?
– Нет, не я, – сказал юноша, но тут же сообразил, что в руках ротмистра листок, только что заполненный тем же почерком, и что запираться бесполезно. – То есть я писал, но не я составлял.
– А кто?
С внезапной вспышкой возмущения Вадим сказал прыгающими губами:
– Можете меня мучить… пытать… Товарищей не предам!
Он ждал крика, угроз… но Горгоньский только поглядел на него пытливо, как будто прикидывая что-то в уме, примеряясь к чему-то.
– А содержанием письма поделитесь с нами?
После энергичного «нет!» он больше ни о чем не стал спрашивать. Написал несколько фраз в «листке», пояснил почти добродушно:
– Принятая мера пресечения – содержание под стражей. Заключен в Перевальское арестное отделение номер один… Так. Хорошо… Вам придется обождать здесь, а ночью вместе с вашими соучастниками – милости прошу на новоселье!
Вадима увели в отдаленное помещение, где уже сидело несколько арестованных.
Позднее, вспоминая эту ночь, он видел перед глазами бледное, расстроенное лицо Полищука и незнакомую ему пару, сидящую у окна. Это были Чекаревы.
В своем смятении Вадим то и дело обращал к ним глаза, точно искал поддержки. Мария сидела, слегка откинувшись на руку мужа, в горделивой позе. Яркая краска на щеках, огонь синих глаз говорили о внутренней буре, но она сохраняла полное самообладание. Муж обнимал ее за плечи, прижимался щекой к ее волосам. От его крупной фигуры исходила добрая сила. С завистью смотрел Вадим на эту пару, – как уверенно глядели они в темь будущего!
…Когда улеглись взрывы отчаяния и Вадима охватила холодная, давящая тоска, он стал вслушиваться в разговор и споры и скоро заметил, что в камере как бы два центра: Чекарев и Полищук. У каждого были свои сторонники… Сам Вадим в споры не вступал и целые дни то кружил по камере, то валялся на неубранной койке. Он опустился, перестал следить за собой. Думал только об одном: погибла жизнь!
Вадим не знал, что на первом же допросе Горгоньский раскусил его, понял, что «не велика птица» попалась в его сети. Ротмистр мог бы удовлетворить просьбу Охлопкова – отдать Вадима на поруки, но у него был свой план…
На втором допросе Горгоньский, взяв еще более грубый, не терпящий возражения тон, сказал, что в расшифрованном письме (а оно действительно было расшифровано!) говорится о подготовке к террористическим актам и что это подтверждается показаниями других обвиняемых.
– Определенно пахнет пеньковым галстуком! Учтите! – Перед Вадимом встал призрак виселицы. Ужас, жажда жизни, сознание беспомощности – все эти чувства раздирали ему сердце.
– Нет! Нет! Клянусь! Честное слово!
– Честное слово крамольника здесь не котируется! – сердито усмехнулся ротмистр. – Вы уже запирались в том, что вашей рукой писано письмо. И опять запираетесь… Ну, что же, еще раз я вас изобличу! Вот смотрите, эта группа цифр что обозначает? Что? Не «подготовка» ли? А? Что?
– Да… но ведь не к террористическим актам!
– К светлому Христову воскресенью? – ироническим тоном, подчеркивая недоверие к Вадиму, спросил Горгоньский.
– Речь идет о подготовке к конференции… К общепартийной конференции, – повторил Вадим, не замечая, что сам идет в сети. – Если хотите, содержание письма как раз оправдывает меня… и других… Мы пишем, что конференцию следует отложить, что выборы перевальского делегата произведены неправильно… что нет здесь организации, а только отдельные члены партии… И мы высказываемся за легальную рабочую партию! Вот о чем письмо, а совсем не о терроре!
Горгоньский внимательно, но с тем же насмешливым, недоверчивым выражением выслушал юношу.
– Бросьте! – сказал он. – Вишь, какая невинность! Флер д’оранж какой! Цветочек! Кто состоит в организации?
Вадим молчал.
– Живо, – свирепо сказал Горгоньский. – Мне некогда!
– Я знаю только одного человека… он давал мне поручения… я… не назову его!
Задумчиво поглядел на Вадима Горгоньский. Проговорил как будто про себя:
– А вот Полищук не столь благороден… он назвал…
– Не может быть!
Но, произнося эти слова, Вадим уже начал сомневаться в Полищуке.
– Сам же он вовлек вас и сам же оболтал… Хорош гусь?
– Что же… – горько сказал Вадим, проводя пальцами, как граблями, по волосам. – Что же… – повторил он с горькой усмешкой, – значит… остается… только подтвердить его показания!
Он «подтвердил».
Через некоторое время Горгоньский кивком пальца подозвал писаря, который, не разгибаясь, строчил что– то в углу. Пробежал глазами написанное и передал Вадиму:
– Прочтите и подпишите.
– Что?
– Протокол допроса.
Вадима неприятно поразила форма протокола; здесь не было, как в «листке», вопросов и ответов: «Спрошенный обвиняемый Солодковский Вадим Михайлович добровольно признался, что…», а дальше был сжато изложен смысл его ответов. Выходило, что он сам рассказал о том, что был вовлечен в организацию Полищуком, выполнял такие-то задания, писал такое-то письмо за границу.
Словом, будто кто-то слегка нажал кнопку, и Вадим излил все, что знал, – без мучений, без колебаний, охотно!
– Ваших слов тут нет, господин Горгоньский, – сказал юноша, обмакнув перо и нерешительно глядя на ротмистра.
– А зачем мои слова? Разве я – обвиняемый?
Вадим подписал.
– Выйди, Ерохин! – приказал Горгоньский. – Пусть конвой приготовится!
А когда они остались одни, подошел к Вадиму, хлопнул его по плечу и весело сказал:
– Теперь вы, говоря высоким штилем, предатель! Податься вам некуда, и…
У Вадима в глазах позеленело…
– Я? Как? Да ведь Полищук…
– Ни черта Полищук не сказал! Это моя военная…
– Подлость! – выкрикнул Вадим и, охватив руками голову, стал раскачиваться из стороны в сторону.
– Военная хитрость! – как будто не слыша его выкрика, продолжал Горгоньский. – Вот вам выбор: или работа для нас – с подпиской, форменно! – или тюрьма, ссылка, презрение «товарищей».
– С собой покончу!
– Ничего, обойдется, – пренебрежительно уронил ротмистр и вызвал конвоиров.
По дороге в тюрьму Вадим с трудом сдерживал истерические рыдания. «Приеду, упаду на колени… признаюсь… Пусть, пусть презирают! Я достоин презрения… Идиот! Тряпка! Несчастный я человек!»
Он шел по тюремному коридору, не замечая, куда его ведут, и желая только оттянуть миг встречи с Полищуком, с Чекаревым… Когда открыли дверь камеры, он невольно попятился. Конвоир грубо втолкнул его.
Вадим оказался в одиночке!
В первый момент он обрадовался этому: их нет здесь! Они не взглянут на него с омерзением, не назовут предателем!..
В тусклом свете лампы юноша разглядел иззелена-серые стены с черными трещинами, окошечко под потолком. В камере пахло угаром. Отсыревшие стены слезились.
Он кинулся на соломенную, дурно пахнущую постель. От угара стучало в висках, шумело в ушах. Клопиные укусы жгли тело. Одно желание было у него: перестать чувствовать.
«Надо спокойно обдумать, как покончить с собой!»
Рыдания его перешли в истерический смех, когда мелькнула мысль: «Боялся виселицы, а сейчас сам ищу…» Заплаканными глазами поглядел на оконную решетку. Если подтащить стол, а на стол поставить табурет… Вадим, еще не вполне веря своему решению, поднял хромоногий стол, понес… Чей-то грубый окрик остановил его, – в волчок за ним наблюдали. Он снова лег и стал перебирать в памяти все известные ему способы самоубийства. Можно, разбив очки, стеклом вскрыть вену… но хватит ли силы воли? Все в нем нервически сжималось, когда он представлял себе это… Разбежаться и размозжить голову о стену?.. Нет! Надо найти смерть скорую и – главное – безболезненную!
Вадим решил умереть от голода. Да, это медленная смерть, но смерть без особых мучений, ничего не надо делать над собой, а только терпеть… Ему казалось, что он вытерпит муки голода… тем более что в данный момент он чувствовал отвращение к пище.
Решение это оставалось непоколебимым в течение двух дней, пока возбуждение не пошло на убыль. На третий день он с трудом отказался от еды. Запах противной баланды вызывал аппетит! На четвертый день начались настоящие муки. Незаметно для себя Вадим перешел от мыслей о своей никчемности и подлости к гастрономическим мечтаниям. Закрыв глаза, он представлял себе пасхальный стол, окорок, крашеные яйца, куличи… дразнил его воображение гусь с яблоками… буженина… жирные оладьи… пироги…
На пятый день он с жадностью съел и баланду, и кашу, и хлеб! И, хотя ему показалось, что он не наелся, – желудок к вечеру заболел. Мучаясь от боли и отрыжки, Вадим мысленно винил во всем дядю: «Как с пасынком, со мной обращался… сам толкал этим к протесту… вот и довел до тюрьмы… до болезни…»
Потом, когда боль прошла, он задумался над своим будущим. Революционная работа его больше не привлекала. «Нет, довольно! Глупости – по боку! Любой ценой выбраться отсюда – и никакой политики! Спасибо! Сыт по горло! Отныне одна „политика“ – устроиться, выбиться, выйти в люди!»
Утром совесть снова начала мучить его.
Он решил, что жить не стоит. Но надо выбрать смерть легкую и приятную.
«Выйду из тюрьмы, добуду морфию, выпрошу у тетки денег, пойду в ресторан… Эх, и напьюсь же я!.. Пьяный приму морфий… и все!»
Через десять дней Горгоньский вызвал Вадима к себе.
«Что же, – думал юноша, подымаясь по лестнице в сопровождении жандарма, – ведь я не в силах больше видеть эти стены с трещинами и дышать угаром! Только одного хочу: выйти на свободу и умереть. Для этого надо дать подписку? Извольте, дам… воображайте, что я – ваш, а вы мне только руки развяжете!»
И, размягченный, расслабленный жалостью к себе, он предстал перед Горгоньским.
Жизнерадостный Горгоньский ласково встретил его:
– Ну, упрямец нехороший, что скажете?
– Я дам подписку, – через силу ворочая языком, ответил Вадим и упал в кресло.
– Нервы-то! Нервы-то! Как у барышни! Нате, выпейте воды.
Стуча зубами по стакану, Вадим выпил.
Горгоньский распорядился принести коньяку, сунул Вадиму в рот папироску.
– Успокойтесь, примите нормальный вид – ничего трагического не произошло! Выпьем за юность!
IX
В полуденной весенней тишине погромыхивал завод. Из подворотен лаяли собаки. Во дворах квохтали куры, кричали петухи. Воробьи, бранчливо чирикая, то опускались стайкой на дорогу, на комья свежего навоза, то взмывали ввысь.
Софья шла по улицам Верхнего поселка, тщетно стараясь найти дом Ярковых, где она когда-то провела вечер. Ей помнилось, что дом стоял на углу, а на задах его возвышалось раскидистое дерево. Остальные приметы забылись.
Найти Яркова ей надо было обязательно. Связь с Перевалом опять прервалась. Напишешь письмо, и оно как в воду канет. Очевидно, адреса провалились. Провалилась и явка.
Софья шла, и невольно мысль ее обращалась к Гордею. Он много раз бывал здесь, ходил по этим улицам. А неожиданная встреча в Перевале была для них ярким праздником.
Почувствовав слезы на глазах, она приказала себе не думать о муже.
Стучать в окна, расспрашивать Софье не хотелось. Она знала въедливое любопытство поселковых «кумушек». Софья предпочла бы спросить мужчину, но в это время дня мужчины работали или отсыпались после ночной смены.
Но вот послышалось шарканье пилы. Софья вышла из переулка. Возле сруба работали пильщики. На высоких козлах, расставив ноги по обе стороны толстого бревна, стоял распоясанный мужик, а внизу под козлами румяный парень, весь обсыпанный свежими опилками. Сильными, мерными движениями они гоняли пилу вверх – вниз, вверх – вниз.
Софья направилась к ним, но в это время мужик воскликнул весело:
– Здравствуешь, Анфиса Ефремовна! Сладко ли мужика накормила?
Софья оглянулась и узнала Анфису. Та, видимо, носила обед мужу на завод и теперь возвращалась с пустым глиняным горшком в кузовке.
Анфиса подурнела, ее безобразили коричневые пятна и большой живот. Но стоило ей улыбнуться, и былая привлекательность возвратилась к ней.
– Здравствуешь, дядя Миней! – и, проходя мимо Софьи быстрым, тяжелым шагом, приветливо кивнула ей по деревенской привычке здороваться со всяким встречным.
Софья пошла за нею и, когда они отдалились от пильщиков, спросила:
– Фиса! Вы не узнаете меня?
– Я… помню… только я не знаю, как вас назвать-свеличать.
– Зовите Софьей… Муж ваш на работе, как я понимаю? Скоро ли придет?
– Ох, не скоро, – ответила Анфиса с сожалением, – они в шесть только шабашат, да он еще, может, куда пойдет по делам. Что бы вам раньше прийти! Я ему паужну носила, сказала бы.
Софья нахмурилась. Целый день пропадет без дела! Она испытующе взглянула на Анфису… Та поняла, заговорила тихо:
– Которых я знаю товарищей – все на работе, вот разве Давыд…
– Он здесь, на свободе? Что же он…
– Я не знаю в эту неделю он в какой смене. Вы пока пьете чай, отдыхаете, – сбегаю, узнаю.
– Скажите адрес, я сама схожу.
Но Анфиса так просила побыть у них, отдохнуть, так горячо доказывала, что лучше встретиться не у Давыда, а где он сам укажет, что Софья согласилась наконец.
Так, разговаривая, они шли, и скоро Софья увидала лиственницу в весеннем нежном оперении, узнала дом.
У ворот стояла сгорбленная седая старушка, мать Романа. Заслонившись ладонью от солнца, она всматривалась в Софью. Софья подошла.
– Матушка ты моя! – всплеснула старушка руками. – Привел-таки бог нам свидеться! А я смотрю, кто это идет с Фисунькой? Глаз у меня стал тупой… Проходи, дорогая гостьюшка.
Илья сказал, что лучше, удобнее встретиться в городском саду.
Сад этот, вернее парк, примыкающий к заброшенному дворцу, в середине прошлого века принадлежал золотопромышленнику, о котором сохранилась в народе недобрая память. Рассказывали о засеченных насмерть крепостных рабочих, об опозоренных или изувеченных девушках, о диких кутежах, о потайных раскольничьих молельнях… Теперь дворец с его лепными потолками, извилистыми переходами, тайниками пустовал. Последний его хозяин был выслан за уголовные преступления, которые нельзя было ни замять, ни «замазать» золотом. Он умер. Наследников не осталось. Парк стал городским садом. Ротонда, где когда-то кутили скороспелые магнаты, превратилась в летний ресторан; вместо затейливых павильонов, где немало пролилось девичьих слез, стояли аляповатые беседки и киоски.
В центре маленького озера высился островок, окруженный подстриженными акациями, как венком. Илья прошел по берегу до мостков, которые вели на остров, и остановился у перил.
Здесь его и нашла Софья.
Видя, как заботливо ведет ее Илья под руку по мосткам, легко было принять их за влюбленных. Они уселись на скамейку среди акаций. Софья одобрительно взглянула на Илью: хорошее место он нашел для встречи! Подобраться к ним можно только по мосткам, а мостки – вот они перед глазами, пересекают серой лентой залитое солнцем озерко!
– Гордей получил мои письма? – спросил Илья.
– Нет. Гордей арестован, – сказала Софья с суровой простотой, ничем не выражая своих чувств. – А вы – наши?
– Нет. Ни писем, ничего… – глубоким взглядом Илья высказал ей свое сочувствие, – ни извещения, ни резолюции!
– Как? Извещение не дошло до вас?
– Провалы! Что сделаешь… Вы привезли?
Софья достала из-под подкладки дамского ридикюля тщательно сложенные бумаги. С улыбкой, чуть раздвинувшей губы, но смягчившей резкие черты, сказала:
– Нате, читайте!
Жирным шрифтом напечатанный заголовок точно ослепил Илью.
«Извещение о Всероссийской конференции РСДРП».
У Ильи дух занялся. Обо всем на свете позабыл он. Наконец, победа. Он читал про себя:
«Товарищи!
Очередное дело наконец выполнено. Наша партия собрала свою конференцию, решила на ней все важнейшие вопросы, уже давно требующие разрешения, создала русский ЦК и вообще сделала самые энергичные шаги для восстановления разрушенного центрального аппарата партии…»
Окончив читать, Илья, охваченный каким-то не свойственным ему бурным нетерпением, потребовал:
– Резолюции!
Софья подала ему резолюции, он прочел. Сказал торжественно:
– Кончено с кризисом! Кончено… вот наша программа борьбы, – он указал на пачку резолюций. – Софья, а кто в русском бюро ЦК?
Она перечислила, назвав первыми имена Свердлова, Сталина и Орджоникидзе.
Светом наполнились карие глаза Ильи. Он задумался. На чистом, строгом лице его дрожали отблески солнечного озера.
С суровой лаской Софья сказала:
– Давыд! Очнитесь!
Он медленно перевел на нее взгляд. Она продолжала:
– Сейчас же надо познакомить организацию. Нужна от вас резолюция: присоединяется ли организация к решениям? Понятно? Это надо сейчас сделать!
– У нас был грандиозный провал…
– Знаю!
– Лукиян, Мария, Коля – все взяты! Слежка за «подозрительными» непрерывная… я бы сказал, изнурительная! Связи с местами есть… можно собрать представителей низовых организаций. Они у себя проработают, а представителей соберем… в лесу… Теперь это возможно.
– Хорошо, Давыд! Но это быстро надо… немедленно!
– Сколько вы мне дней дадите? – спросил Илья. – Учтите – размножить извещение, резолюции… собрать группы, проработать…
– Три дня на все.
Она сказала это твердо, безапелляционно.
– Будет сделано, – ответил Илья и, посоветовав Софье остановиться на квартире у «тети», а не у Романа, за которым неослабно следят, попрощался с нею.
Прошло три дня. Софья уехала. Перед отъездом они с Ильей разработали новый шифр, установили адреса. Софья обещала прислать материал к Первому мая.
Едва она успела уехать, прилетела в Перевал весть о ленских событиях. Размножили на гектографе листовки, раздали на предприятия. Всюду прошли подпольные собрания. В резолюциях рабочие выражали возмущение, протест.
Начали собирать трудовые гроши для семейств убитых.
В то самое время, когда Илья был занят по горло на партийных собраниях, от Софьи пришла обещанная ею первомайская прокламация.
Илья получил эту листовку, зайдя к адресату перед ночной сменой. У него не осталось времени, чтобы передать ее кому-либо для переписки. Отложить до завтра? Нет, нельзя! Не успеешь к Первому мая распространить листовки.
Дерзкая мысль, которая была бы под стать Яркову, а не предусмотрительному, осторожному Илье, вдруг пришла ему в голову. Он вначале отбросил ее, но, обдумав, решил: да! Надо тиснуть прокламацию в типографии! Наборщики и метранпаж – свои, испытанные люди. Корректор до утра просидит в конторке, уткнув нос в оттиски. Опасен только Иван Харлампович!
Илья пошарил по карманам, подсчитал мелочь: на бутылку водки набралось, а на закуску не хватало… Но это не смутило Илью. Товарищи, узнав, для чего надо «споить» Харламповича, добавили свои деньги. Один из наборщиков – болезненно-бледный, но всегда веселый и бойкий молодой человек – отнес вино и закуску Харламповичу:
– В честь тезоименитства моего наследника, прошу не побрезговать!
Харлампович не побрезговал. Он любил даровое угощение. Обойдя типографию и строго наказав «работать как следует и набрать к утру эту штуковину», он заперся в своем кабинетике и скоро заснул.
У Ильи не было времени раньше прочесть листовку – дорога была каждая минута, – он читал ее, набирая слово за словом, фразу за фразой… Но скоро прокламация целиком захватила его. Он подавлял нетерпеливое желание – прекратить набор и вчитаться, вдуматься в текст. И методически ставил в наборную линейку литеру за литерой.
Илью взволновала революционная страстность, которой дышала каждая строчка. Поразили воображение широкой кистью написанные картины наступления рабочего класса, облик революционера, в котором подчеркнуты были основное черты: спокойствие, сила, гордость, целеустремленность… Сам поэт в душе, Илья живо откликался на все это.
Рассматривая положение в России, автор листовки охарактеризовал последние два-три года (когда Первое мая не праздновалось) как период «контрреволюционной вакханалии и партийного развала, промышленной депрессии и мертвящего политического равнодушия».
Убедительно доказав, что в стране – и прежде всего среди пролетариата – начинается политическое оживление, листовка утверждала, что русские рабочие должны нынче «в той или иной форме» праздновать Первое мая.
Илья отложил наборную линейку и залпом прочел листовку до конца:
«…Смерть окровавленному царизму! Смерть дворянской поземельной собственности! Смерть хозяйской тирании на фабриках, на заводах и рудниках! Земля – крестьянам! 8 часов работы – рабочим! Демократическая республика – всем гражданам России!
Вот что должны еще провозгласить в сегодняшний день русские рабочие…»
«Такая прокламация каждого зажжет, подымет на борьбу!» – думал Илья.
Его поразила сила обличения, гневная, уничтожающая, поразил бурный поток мыслей. Мимоходом оброненное слово прилипало к душителям народа, как раскаленное клеймо: «черная Дума», «мертвая рука», «развратники Распутины»…
«Как здорово сказано: „Николай последний!“ В этом непобедимая уверенность, что революция совершится в ближайшие годы, что она не за горами!»
X
После трех лет тюрьмы Ефрема Никитича Самоукова выпустили «за отсутствием улик», но оставили под подозрением. Первое время дома он отлеживался, неохотно говорил, много ел, много спал. Но вот силы вернулись, он поднялся с постели, и заботы обступили его.
– Все хозяйство испорухалось! – тужил старик.
Надо было чинить крышу, качающееся крыльцо, покосившийся забор. Корову и лошадь ему родственники возвратили, но никто не догадался предложить сена и дров, – приходилось думать и об этом. Помогли дочери. Анфиса и Фекла оторвали от себя – дали отцу денег. Фекла привезла курочек-молодок, а Фиса купила и пригнала во двор барана и овцу:
– Вот тебе, тятя, парочка – баран да ярочка! Не тужи-ко ты, не тужи!
Но печальные думы продолжали томить старика:
«К зятю на печку рано мне! Не любо мне будет из чужих рук выглядывать! А в курене робить мне теперь непосильно… Куда толкнуться? Где хлеб насущный добывать?»








