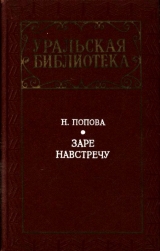
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Старшина, урядник, писарь и его помощники – все высунулись из окон волостного правления, услышав голос отца Петра. Старушка перестала всхлипывать и открыла глаза, точно начала возвращаться к жизни.
– Тише-то моего как жить? – проникновенным голосом ответил Самоуков. – Никому от меня обиды не было… сам изобижен кругом, а других не обижал… Выпью – только песенки пою… больше ничего!
– Знаю, милый, знаю.
И широкими шагами пошел отец Петр в волостное правление.
– Отпусти Самоукова домой, – повелительно сказал он старшине Кондратову. – Я поручусь за него.
– И рады бы, кабы льзя, а только нельзя этого, – ответил Кондратов, мрачно выбуривая на попа. – Не за то ведь его высылают, что песни поет, а за то, что политицки ненадежен.
– Это откуда видно?
– И не обязан я вам все говорить…
Отец Петр вскипел:
– Ты с кем говоришь? А? Забылся?
– Я не забылся, ты забылся, – грубо ответил старшина. – Я при долге службы, а ты на меня кричишь криком! Хоть ты поп, хоть кто, а не тронь царского слугу!
Как ни был рассержен отец Петр, он невольно рассмеялся сердитым смехом:
– «Царского слугу»! Эх ты, министр сопливый… шишка на ровном месте!
Кондратов, обведя всех взглядом своих оловянных глаз, спросил торжественно:
– Все слышали надсмешки? Будьте свидетелями: при долге службы…
В голове зашумело, засвистало на разные голоса… Отец Петр чувствовал, что еще немного – и он бросится на Кондратова. Все насторожились. Все чего-то ждали, следя за ним глазами. Казалось – перед ним капкан…
Одно неверное движение – и капкан этот захлопнется…
Отец Петр выбежал из сумрачного волостного правления на залитый солнцем двор. У крыльца ждали его стражник, урядник, Самоуковы.
– Ты прав, Ефрем Никитич, – каким-то пересохшим голосом сказал отец Петр, – но я ничего не мог сделать… Крепись, мученик, крепись!
Оградил его широким крестом и сказал, уходя:
– О жене не заботься.
Весь дрожа и задыхаясь, влез в коробок, выхватил у кучера вожжи, стал что есть сил нахлестывать лошадей.
XIV
Осенью двенадцатого года Илье опять пришлось ехать в Петербург, так как связь снова нарушилась, прервалась в ответственный, серьезный момент, во время предвыборной работы.
Большевики придавали большое значение кампании выборов в четвертую Думу. На Пражской конференции была выработана обстоятельная резолюция по этому вопросу.
Большевики хотели получить думскую трибуну, чтобы, обличая правительство, говорить на всю страну «о полных неурезанных требованиях пятого года».
Предвыборная борьба разгоралась…
По дороге Илья простудился, в Питер приехал больным. Несмотря на это, он нашел Орлова, получил от него указания, литературу, оставил ему адреса для связи и хотел уже выезжать обратно, как вдруг к вечеру впал в бессознательное состояние.
Началось воспаление легких.
В многодневном бреду Илье чудилось, что он едет в Перевал и что в вагоне его подвергают пытке: втыкают в бок длинную иглу. При каждом вздохе игла колола все сильнее. Илья метался, искал взглядом, кому бы передать документы. Потом ему чудилось, что литература и документы уже у Романа, но Роман не хочет оставить своего друга в руках палачей. Илья кричал: «Уходи! Беги!» Вдруг Илья оказался не в вагоне, а на железнодорожной насыпи. Он знал, что до Перевала надо бежать сотни верст и что бежать надо как можно быстрее… Он побежал. Игла так и заходила у него в боку. Дыхания не хватало… Со всех сторон вертелись огненные колеса, и из паровозных топок летели искры. Он бежал и думал только об одном: как бы не сгорели документы, адреса, явки…
Но вот Илья вырвался на простор, подуло прохладой.
– Как он вспотел! – сказал знакомый женский голос.
Илья открыл глаза. Был тусклый день. Вначале комната показалась ему совсем незнакомой, потом он узнал круглую печку, в которой когда-то Орлов сжигал письма, узнал коврик у кровати, желтый карниз, нависший над дверью.
«Пора на вокзал!» – он хотел подняться и не мог.
Софья наклонилась к нему.
– Ну, что, Давыд? Как вы?
И, видя его мучительное беспокойство, сказала:
– Ни о чем не беспокойтесь, шесть дней назад в Перевал уехал один товарищ. Скоро вести от него будут.
«Шесть!.. Значит, я неделю без памяти лежал… и в такое время!»
Появилась еще одна женщина – пожилая, степенная. Это – жена Волкова, рабочего-путиловца, в чьей квартире лежал Илья.
Она подошла к постели с рубашкой и кальсонами в руках:
– Давайте-ка переоденем его!
Нехотя он подчинился. Его переодели, умыли, напоили с ложечки горячим чаем. Он почувствовал себя бодрее.
– Когда можно будет ехать?
– Не скоро. С этим придется примириться.
– Дела как?
– Гордей придет вечером, расскажет, а пока – спите, отдыхайте…
Через три дня Илья уже мог садиться в постели, читал газеты, – силы прибывали… как вдруг снова скакнула температура, заболел бок, начался бред. «Ползучее воспаление легких!» – определил врач.
Никогда еще – разве только в тюрьме – не страдал так Илья от сознания бессилия. В светлые промежутки между приступами болезни он думал только об одном: о трудном, напряженном положении в Перевале. Сейчас, наверно, каждый работает за двоих, за троих… а он лежит здесь бесполезный!
Орлов и Софья спешили порадовать его вестями из Перевала:
– По нескольку сходок в день проводят!
– Роман на свободе?
– На воле! Действует!
– А Паша Ческидов?
– Пашу наметили уполномоченным. Его было придержал у себя Горгоньский, но рабочие добились – отпустил! Ликвидаторы пытались навязать вместо Паши другую кандидатуру – не вышло!
Глаза Ильи продолжали беспокойно выпытывать… Но он больше ни о ком не спросил. Софья сжалилась:
– Не мучай уж, Гордей! Сам он не спросит…
– А вот пусть спросит! Пусть не чинится перед нами… чудак! Ну, изволь: Ирина жива-здорова, на воле, работает.
Вот уже несколько дней Орловы перестали приходить к Илье. Хозяин стал возвращаться поздно. Илья понимал, что предвыборная борьба разгоралась и не остается у них свободной минуты.
Он только по рассказам хозяина следил за этой борьбой.
Однажды ночью Волкова вызвали на заседание путиловской заводской социал-демократической группы. Жена встревожилась. Проводив его, спать не легла, села штопать белье. Илья тоже не мог заснуть больше. Несколько раз женщина выходила в коридор и во двор, прислушивалась, выглядывала из ворот. Мужа все не было. Илья от души сочувствовал ей. Глухая тревога передавалась и ему.
Рассвело. Женщина машинально выполняла свою домашнюю работу. Сходила в мелочную лавчонку, разожгла керосинку, подмела пол, вскипятила чай. Она не говорила о своей тревоге и только тяжело вздыхала по временам. Заглянула соседка:
– Ой, где у тебя мужик-то? За ним кто это приходил-то?
– На ночную смену вызвали… не приходил еще, – спокойно и холодно отвечала хозяйка.
Волков явился около полудня не то смущенный, не то радостный.
Прихрамывая, покрякивая, прошелся по комнате. Сказал:
– Бастуем, значится!
– Так и знала, что накрякаешь чего-нибудь, – любовно, но строго сказала жена.
– Напои меня, Поля, чаем, да я опять побегу!
– Ох ты! Все хоть скажет «побегу»! Все еще резвый конь!
Торопливо прихлебывая чай, Волков рассказал Илье, какие дела начались.
Накануне уездная комиссия по выборам выкинула трюк: так «разъяснила» правила, что уполномоченные Путиловского и других крупных заводов оказались лишенными права выбирать выборщиков.
Буквально через час после того, как стало известно это «разъяснение», собралась исполнительная комиссия Петербургского партийного комитета. На заседание явился представитель Центрального Комитета.
Он заговорил о забастовке протеста. Все его поддержали.
– Резолюцию мы приняли такую, – рассказал Волков, – протест выражаем против нарушения наших избирательных прав! В резолюции мы заявили, что только тогда будет действительно возможна свобода выборов, когда царизм будет свергнут и когда республику завоюем.
– А ликвидаторы, – нетерпеливо спросил Илья, загораясь весь, – они не совали вам палки в колеса?
– Предлагали свою резолюцию насчет всеобщих выборов в Думу… вообще резолюцию они предлагали на основе своей платформы… Но мы победили! И на митингах наша резолюция прошла!
Через день встал Невский судостроительный завод. К бастующим стали присоединяться другие заводы и фабрики Петербурга.
Тысячи бастующих рабочих собирались в колонны, ходили с пением революционных песен. Многотысячные митинги шумели на улицах.
Грозные размеры протеста испугали губернскую комиссию, и она отменила «разъяснение» уездной. Коллективы заводов получили право выбирать по рабочей курии.
С замиранием сердца следил Илья за разворотом борьбы. Когда опубликован был результат выборов и он узнал от Гордея, что из девяти депутатов, избранных по рабочей курии, шестеро – его товарищи, большевики, Илья не мог сдержать радостной дрожи.
Это была настоящая, большая победа.
Перед отъездом в Перевал Илья встретился с членом Центрального Комитета, получил установку для дальнейшей работы.
XV
Перевальские большевики, укрепляя свои подпольные ячейки, усилили работу и в легальных организациях.
Ирина Албычева в воскресной школе обучала молодых рабочих. Она преподавала русский язык. Учителя истории и арифметики также принадлежали к подпольной организации большевиков. Только географ был «беспартийным либералом». Среди учащихся создали небольшую подпольную группу, которая распространяла нелегальную литературу на предприятиях.
Рысьев, пользуясь положением страхового агента, играл роль связного, распространял литературу и, кроме того, вел кружок чтецов-декламаторов в Народном доме Верхнего завода, разучивал с ними такие произведения, как «Буревестник», «Каменщик», «Алый цветок», отрывки из Горького, Щедрина, Чехова.
А Роман Ярков, выполняя задание комитета, руководил на Верхнем заводе борьбой за больничные кассы.
В июле девятьсот двенадцатого года царское правительство издало закон о страховании, о создании больничных касс на крупных предприятиях «для оказания помощи рабочим в случаях болезни и увечья». «Правда» разъяснила, что правительство, напуганное развитием революционного движения, издает этот закон не для того, чтобы облегчить по-настоящему положение рабочих, а лишь для того, чтобы лицемерно показать свою заботу.
Перевальский комитет, несмотря на неусыпную слежку, провел собрания, рабочие обсудили новый закон, рассмотрели устав больничной кассы.
Надо было убедить отсталых людей в том, что, хотя эти кассы являются только карикатурой на социальное страхование, все же они – новое завоевание рабочего класса, который должен теперь бороться за расширение размеров страхования.
Перевальский комитет помог провести страховую кампанию в Лысогорске, в Таганайске, в Мохове, посылая туда партийных работников, забрасывая литературу.
В правление больничной кассы Верхнего завода прошли от рабочих большевики – Роман Ярков и Иван Занадворов.
Илья, уволенный из типографии после смерти старика владельца его благонамеренным сыном, устроился библиотекарем общества потребителей и стал по поручению комитета бороться за создание профсоюза торговых служащих.
После выхода закона тысяча девятьсот шестого года профсоюзы влачили жалкое существование. Чиновники особых присутствий, которым дано было право регистрировать и «разрешать» союзы, придирчиво рассматривать устав, вычеркивали все, что могло расширить деятельность союза. На общих собраниях, на заседаниях правления вдруг появлялась полиция, начинался обыск в помещении, наиболее деятельных членов союза брали под стражу.
Человек, не обладающий гражданским мужеством, не годился в руководители союза…
Когда комитет поручил Илье организовать профсоюз, он задумался об учредителях. После длительных поисков остановились на двух: солидном бухгалтере крупного торгового дома и на приказчике Гафизовых. Эти два человека так доверяли Илье, что только ставили свои подписи на составленных им бумагах.
Вначале все шло хоть хлопотно, но гладко.
Губернское присутствие утвердило и зарегистрировало устав. Учредители широко оповестили торговых служащих. Начались запись в члены, сбор вступительных взносов.
Илья подыскал недорогое помещение для Учредительного собрания. Подал, как полагалось, заявление полицмейстеру.
Словом, все шло гладко до Учредительного собрания, на котором произошел неприятный инцидент.
Надо сказать, что на собрании должен был присутствовать «полицейский чин», который, в случае «противозаконных разговоров» мог сделать предупреждение и в случае повторного предупреждения закрыть собрание.
Он сидел, слушал и ни во что не вмешивался, пока не назвали кандидатом в правление Илью.
– Я протестую! – заявил вдруг блюститель. – Он ведь поднадзорный!
Взял слово Илья.
– Гласный надзор давно снят, – сказал он, в упор глядя на блюстителя порядка. – Вы предупредили о негласном… благодарю! Но ваше начальство не поблагодарит вас…
Блюститель замолчал, как воды в рот набрал, и выборы пошли своим чередом.
Илью избрали секретарем правления.
Широкие возможности раскрылись перед ним. Он бывал на местах, направлял работу комиссий. В конфликтах и столкновениях членов союза с администрацией принимал самое деятельное участие. Он должен был обладать обширными знаниями законов, иметь авторитет. Очень многое зависело от выдержки и такта секретаря.
Члены правления скоро убедились в том, что выбор они сделали правильно. Работа сразу пошла стройно.
Первое время путался под ногами блюститель, то и дело заходил в правление, старался сунуть нос в дела. Илья скоро отвадил его. Как-то блюститель явился на заседание правления, но Илья немедленно попросил его удалиться:
– Вы вправе посещать только публичные собрания, а у нас заседание. Прошу вас выйти!
Первое время на общих собраниях и на заседаниях комиссий большинство молчало, а тот, кто осмеливался выступать, говорил о хозяевах и о своем положении весьма «политично», туманными намеками.
Понемногу люди осмелели, заговорили:
– По семнадцать часов в сутки работаем… Где закон шестого года?.. В праздник сходил бы, подышал бы вольным воздухом, но как уйдешь? У нас хозяин в девять часов вечера дверь запирает, к этому времени надо быть дома… Тюрьма!
– Вас хоть снаружи-то не запирают! А у нас после ужина загонят нас, молодцов, в комнату и снаружи запрут. Он боится, не сговорились бы зарезать его. Иной раз не спишь, думаешь: а вдруг пожар? Забудет, не отопрет… прыгай в окошко с третьего этажа!
– Занятии? – говорил третий на вопрос Ильи. – Рад бы душой, Илья Михайлович, да хозяин говорит: «Что, будешь ерундой голову забивать? Сиди дома». В праздник увидит в руках книжку, вырвет, хлопнет тебя по лбу: «Иди-ко помоги кучеру коляску мыть, сбрую чистить… он один-то заплюхался там, а ты без дела же сидишь».
– Вам вот коляску мыть муторно, – тихо вставил подручный свечной лавки, – а вот я за ломовую лошадь сам работаю. Получаешь пятнадцать рублей в месяц, надо всем угодить, прилично одеться… я на тележке по десять пудов керосину вожу…
Илья убеждал их, что нельзя позволять хозяевам садиться себе на шею, надо протестовать, не подчиняться вздорным приказаниям, не допускать унизительного обращения. И мало-помалу классовое самосознание пробуждалось.
Илья ждал случая – показать силу профессиональной организации не на единичном мелком конфликте, а на конфликте целой группы людей. И такой случай вскоре представился.
Несколько приказчиков торгового дома Гафизовых заявили Илье о мошеннической проделке хозяев.
Гафизовы, выдавая своим служащим новые расчетные книжки, записали в графу «размер жалованья» только половину обусловленной платы. Вторую половину вписали в графу «за сверхурочные часы». Таким образом, они ухитрились обойти даже куцый царский закон. Жалованье оставалось прежним. За сверхурочные часы приказчики не получили надбавки.
– Те же штаны назад пуговкой, – мрачно шутили они.
Илья поставил вопрос на правлении. На другой же день он отправился в контору «братьев Гафизовых» и потребовал оплатить сверхурочные работы. Гафизовы отказали.
Тогда младшего Гафизова пригласили на заседание правления. Он пришел.
Это был делец нового типа, собранный, умный, внешне корректный человек. Он не походил на своего отца-купчину, который берет нахрапом, горлом, угрозой…
– А если мы не удовлетворим требования? – вежливо спросил Гафизов-младший. – Что вы намерены предпринять?
– Возможна забастовка протеста, – ответил Илья.
Гафизов подумал-подумал… смущенно улыбаясь, сказал:
– Я вижу, надо подчиниться… новое время, новые песни. Конфликт считайте улаженным. Но… одно условие… Прошу не касаться нашего торгового дома в печати…
– Такого обещания не дадим, – отрезал Илья.
Победа над Гафизовым сразу подняла престиж профсоюза.
Илье даже в ум не приходило, что из-за этого случая у него начнутся неприятности с братом и с матерью.
Брат Михаил служил бухгалтером у Гафизовых пять лет. Его надежды на брак с дочкой доверенного не сбылись, но положение в торговом. доме было прочное, крепкое, хозяева ценили его. Мысль о мошенничестве с расчетными книжками принадлежала ему. Поэтому он особенно болезненно принял вмешательство профсоюза. И когда молодой хозяин мимоходом сказал: «А у вашего братца сильный характер!» – Михаил подумал, что его подозревают в сговоре с Ильей, думают, что это он дал сведения в профсоюз. Молодой хозяин не изменил отношения к нему; но Михаила это не успокоило, он знал, что тот никогда не выдаст истинных чувств, а выждет время и уволит, любезно пожелав всего наилучшего.
В панике прибежал Михаил к матери и так напугал ее, что она опрометью кинулась к Илье.
– Илья, Илья! Зачем ты ввязался в это дело! Мишенькину карьеру загубил. Подумай, Илья, как получилось– это Мишенька предложил с книжками… Теперь хозяева могут подумать, что это он нарочно, чтобы их скомпрометировать!
– Поделом ему, – хмуро сказал Илья. – Мама, ты сама всю жизнь работаешь, трепещешь перед своими заказчицами… Пойми, Михаил помогает угнетать бесправных людей!
– А зачем их баловать, Иленька? Они сыты, одеты…
Илья понял, что говорить, доказывать бесполезно, и замолчал.
– Прошу тебя, Иля, заверь братьев Гафизовых, что брат ни при чем! Я умоляю… и что ты сожалеешь…
– Не проси, мама.
Мать заплакала.
– Ирочка, скажи ты ему, что так жить нельзя! Он опять в тюрьму попадет! Разве можно вооружать против себя таких влиятельных люден? Иля, ты должен обещать мне… Я как мать требую…
Илья всегда был почтительным сыном, но тут он не выдержал:
– Кончим этот разговор.
После молчания мать спросила разбитым голосом:
– Как же вы будете встречаться с Мишей после этого? Он так зол… так обижен…
Не поворачивался у нее язык отказать сыну от дома, но чуткий Илья угадал.
– Не бойся, мама, – тихо сказал он, не глядя на мать, – я не встречусь с ним… не буду приходить к тебе.
Мать еще горше заплакала.
– Дети, что мне делать с вами? Ты не слушаешь меня… опыта… рассудка… Чем убедить тебя?.. Будь, как все!.. Разве это трудно? Ира, скажи ему…
Ирина сидела, не подымая глаз. Она понимала, как больно, как обидно Илье, и с трудом сдерживалась, чтобы не ответить старушке резкостью.
«Нет у тебя ни брата, ни матери, – мысленно говорила она Илье. – Я буду тебе матерью… сестрой… верным твоим товарищем. Клянусь… И будем вместе!.. Я– нет, я и спрашивать тебя не буду!»
XVI
У Албычевых в этот вечер собрались Зборовские, Охлопковы с Вадимом Солодковским, Григорий Кузьмич и недавно выпущенный из тюрьмы Полищук. Мужчины картежничали, дамы рукодельничали и занимались пересудами. Тринадцатилетняя Катя от скуки кокетничала с Вадимом.
Ирина, не заходя в гостиную, прошла к себе. «Ночью объяснюсь с папой, – решила она, – утром уйду к Илье совсем!» Ее мучило нетерпение, била лихорадка. Комната, где она столько перестрадала и передумала, казалась чужой, ненавистной. Ирина принялась укладывать вещи, но, сняв со стены портрет матери, задумалась, забылась над ним…
Так и застал ее Вадим Солодковский, войдя без стука в комнату.
Он заметил досадливый жест, вопросительный взгляд… Ирина поспешно закрыла шкаф. Вадим сел.
– Ревизию нарядам производите?
Ее нестерпимо раздражал этот нагловатый тон и фальшиво-ласковый взгляд. Ирина не ответила.
Она стояла перед нежеланным гостем, сложив руки, и даже не пыталась скрыть досаду. Было ясно, что, если ее спросить: «Я вам помешал?» – она без обиняков ответит: «Да!»
Вадим не спросил.
– Когда-то мы с вами были друзьями, Ира, – сказал он своим бархатным голосом. – И как-то так получилось… разошлись… Я часто спрашиваю себя: отчего?
«Оттого что ты – трус, эгоист!» – мысленно ответила девушка и пренебрежительно пожала плечами.
– Мечтали служить революции, – продолжал Вадим, – Герценом зачитывались. Да… юность… мечты!.. Вы жалеете, что они не сбылись?
Ирина молча глядела поверх его головы в темное, перечеркнутое крестом рамы окно.
– Но что я говорю? Ведь я не знаю, может, вы выполняете наше тогдашнее решение.
«Неужели Полищук не сказал ему? Быть не может!»– девушка испытующе поглядела, но ничего не прочла в выпуклых глазах Вадима.
– Вы боитесь, не доверяете? Напрасно!.. Да и шила в мешке не утаишь: вас часто видят вместе с поднадзорным Светлаковым…
Слово «поднадзорный» вылетело у него невзначай. Ирина отметила эту обмолвку: человек передовых взглядов не скажет так о революционере.
– Это мой жених, – просто сказала она.
Впервые взглянул на нее Вадим как на женщину. И вдруг он понял, сколько силы, страсти в этой тоненькой девушке… Глаза у него загорелись.
«Горгоньский ошибается, – тут не игра в революцию, а любовь… страсть к этому дохлому субъекту… Вероятно, вместе с ним и работает!»
– Ира, можно мне бывать у вас? – мягко спросил он. – Верните мне дружбу!
Она медленно покачала головой.
– Не обижайтесь, – через силу сказала она. – Я не могу принять вашу дружбу… и ответить на нее.
– Но почему? Почему?
– Простите, Вадим, но вы мне… неприятны… с того вечера. Помните? Когда вы дали слово Георгию Ивановичу…
«Вот напустить на тебя Горгоньского, любое обещание дашь, – подумал Вадим, – мигом форс слетит!» – и он закрыл рукой лицо.
Ирина сказала:
– Пойдемте к гостям, Вадим… И, пожалуйста, не сердитесь! В таких вопросах нельзя не быть откровенной.
Идя вслед за нею по коридору, он с удивлением обнаружил в себе противоречивые чувства: желание физической близости с Ириной и желание отомстить ей, унизить ее.
В гостиной Ирина подсела к Люсе Зборовской: из всех дам Люся была наименее неприятна.
Люся в этот период своей жизни сияла откровенным счастьем. А ведь ей предрекали горькую участь нелюбимой, покинутой жены, – все знали, что Зборовский женился на деньгах.
Но пока предсказания не сбывались.
Люся была нежна, кротка, искала, к кому бы притулиться, на кого бы опереться. Мужа обожала. А он, благодарный за то положение, которое помогло ему завоевать приданое, обращался с Люсей дружески, уважительно.
Зборовский шел в гору. К его мнению прислушивался сам Охлопков. Многими техническими нововведениями Верхний завод был обязан ему.
– Ира! Какие у тебя руки горячие! – ужаснулась Люся. – Что с тобой?
– Нездоровится…
В этот последний в отцовском доме вечер восприимчивость Ирины, ее нежная впечатлительности как-то особенно обострились.
Она точно получила способность читать в душах окружающих.
Она понимала, что скрытная мачеха страдает от того, что стала неудержимо блекнуть. Антонина Ивановна избегает улыбаться, чтобы не выступили морщинки на щеках, избегает поворачивать голову, боясь появления складок на шее. Точно застыла в высокомерной позе, с высокомерным выражением на лице. Не позволяет себе следить глазами за Полищуком, но все ее внимание обращено к нему. Вот выступил румянец на поблекшем лице, – она услышала слова, сказанные Полищуком Кате: «Года через три, как роза, расцветет наша Кэти!»
Ирина долго не могла отвести взгляда от терпеливого, доброго лица дяди Григория. Она видела следы страдания, которых никто не замечал. «Как он любил тетю… Леню… и всех утратил!.. Чем он живет?»
Люся доверчиво стала рассказывать о доброте мужа, а Ирина вспомнила, как Зборовский издевался над Ванькой-стражником и как срезал его Илья. Илья!.. Вся комната вдруг точно дохнула его присутствием. Вон в ту дверь он вошел с террасы – бледный, суровый, в смазных сапогах. Стоя вон там, у рояля, рассказывал трагическую историю Ваньки-стражника. А когда Ирина (это была минута вдохновения, да, вдохновения!) при всех сказала ему словами Некрасова: «Уведи меня!..» – он шагнул ей навстречу…
После ужина гости попрощались. Ирина вместе с отцом вышла в переднюю, дождалась ухода последнего гостя. Горничная убирала со стола, гремела посудой в столовой. Мачеха, утратив гордую осанку, пошла, задумчивая, по комнатам, пощелкивая выключателями. В комнатах становилось темно.
Отец сказал:
– Беги, Ируська, спи! Ты пересидела сегодня, у тебя вид лихорадочный.
И с непривычной лаской потрепал ее по щеке.
– Мне надо поговорить с тобой, папа.
– Сейчас? Ночью? Завтра, дочка, поговорим.
– Папа! Это неотложно.
Албычев даже в лице переменился. Пытливо оглядел не только лицо – всю фигуру дочери. Молча вошел в кабинет и остановился у большого кресла.
– В чем дело? Надеюсь, ты не…
Албычев не договорил.
– Папа, я выхожу замуж!
– Снова эти разговоры? Вот приспичило, – брюзгливо сказал он. – Не позволю.
– Папа! Я не спрашиваю позволения. Я совершеннолетняя… Подожди, не горячись! Я уважала твою волю… долго… И вот решила твердо.
– Я думал – ты умнее.
Он сказал это с печалью.
Ирина поняла, что отец не будет, как раньше, запрещать ей.
– Жаль, жаль, Ируська, – сказал он простым, добрым голосом я по-стариковски всхлипнул. – Кроме несчастья, ничего из этого брака не выйдет. Но что с тобой станешь делать?
Он тяжело вздохнул, взъерошил седые волосы.
– Ну, что же… хоть и не с легким сердцем, а… пусть приходит, скажи ему, поговорим о приданом, свадьбу назначим.
После минутной тишины, от которой даже в ушах зазвенело, так она была томительна, Ирина сказала мягко, точно извиняясь:
– Свадьбы, папа, не будет…
Не сразу уразумел Албычев, о чем она говорит… а когда понял, не сразу смог вымолвить слово.
Что были все прежние вспышки и ссоры! Он раньше кричал, горячился, но никогда не оскорблял дочь. Сейчас с глумливым хохотом и отчаянным выражением лица он выкрикивал одну и ту же фразу на разные лады:
– И содержанкой не назовешь! Ему не на что содержать! Ты просто… – и он выкрикивал бранное слово, которое никогда от него не слыхала Ирина.
– Не дам покрыть себя позором! Тоня! Тоня!.. В тюрьму! В тюрьму ее!
Он так сильно побагровел, что дочь испуганно кинулась к нему. С неожиданной силой Албычев грубо толкнул ее в грудь и упал в кресло.
– Проклинаю! Забудь! Нет у тебя отца!
Ирина постояла еще, но, услышав неторопливые шаги мачехи, бурно разрыдалась и убежала.
«Ну и все! Ну и ладно… – думала она, беспорядочно пихая в чемодан платья, белье и увязывая книги в стопки. – Вот и кончилось…»
Она слышала беготню и шепот прислуги, усталый голос мачехи, плач отца– Уложив вещи, она села на стул и стала ждать, когда все стихнет. Старалась не думать об отце, но он все стоял перед глазами. Тогда, чтобы не лишиться сил, не расчувствоваться, она призвала обидные воспоминания.
Вспомнилось, как мать терпеливо поджидала ночами отца, оправдывала его перед Ирой: «Задержался у больных»… как он приходил – капризный, утомленный: «Боже мой! Что за пытка! Опять обо мне беспокоились, ждали…»
Вспомнилось, как объявил о браке с Антониной: небрежно, даже как-то шутливо…
В день рождения покойной матери, в первый год брачной жизни отца, Ирина вбежала к нему в кабинет, чтобы позвать с собой в церковь на панихиду. Навсегда запомнилось, как мачеха с растрепанной прической, с красными пятнами в вырезе капота вышла из кабинета, а отец, растерянный и точно пьяный, буркнул:
– Никогда не входи без стука! Безобразие!
Тогда Ирина не понимала многого, но чувство сказало ей, что она одна оплакивает мать. Отец стал совсем чужим.
Мало-помалу в доме стихло. Ирина приоткрыла дверь: в коридоре было темно, в кабинете тоже. Все заснули, очевидно. Девушка оделась, подняла с полу тяжелый чемодан и тихо, на цыпочках, пошла.
Вдруг что-то скрипнуло. Ирина оглянулась. Дверь в комнату Кати приоткрылась, и девочка, стоя в полосе света, глядела ей вслед:
– Ира, ты совсем уходишь? Да, Ира?
Ирина вернулась и наклонилась к ней, но не поцеловала. Она увидела в глазах девочки не грусть, не сожаление, а жгучий, недетский интерес.
– Тише, Катя, – серьезно сказала она, – ты ведь не захочешь мне помешать?
Девочка горячо закивала в ответ.
– Закрой за мной дверь и – ложись спать…
Так было даже лучше, – не пришлось будить горничную.
Ирина осторожно прикрыла за собой дверь, подождала, пока Катя задвинет задвижку и уйдет, и только после этого спустилась по ступенькам крыльца.
Ночной воздух освежил, оживил ее.
Полная тишина стояла на улице, освещенной редкими керосиновыми фонарями. Блестели подернутые ледком мартовские лужицы. Идти было скользко. Чемодан оттягивал руку. Приходилось то и дело ставить его на тротуар.
Кое-как добралась Ирина до извозчичьей биржи. Ночные извозчики, подняв воротники тулупов, дремали. Казалось, и лошади спят стоя. С нее заломили неслыханную – совсем не по таксе – цену, но Ирина не торговалась.
У купеческого дома она отпустила извозчика и вошла в ворота, которые – она знала – не запирались ни днем ни ночью. Окно Ильи не светилось. «А вдруг его дома нет, – со страхом подумала Ирина, – куда я тогда с чемоданом?»
Она толкнулась в дверь подвала. Дверь была заперта изнутри.
Девушка подошла к окну, постучалась. Кто-то отдернул занавеску, приблизил к стеклу лицо. В свете дворового фонаря Ирина узнала Илью, и все в ней заликовало.
Илья тоже узнал ее, сделал рукой знак «сейчас!» и спустил занавеску. Зажегся свет в комнате. Илья оделся, открыл дверь и осторожно провел девушку по темному коридору, пропахшему кислой капустой.
Когда они вошли в сводчатую комнатку, он взял из ее рук чемодан.
– Что случилось, Ира? – спросил он. – Это литература в чемодане?
– Это приданое! – смеясь сквозь слезы, ответила Ирина.
XVII
В первом полугодии тысяча девятьсот четырнадцатого года рабочее движение пошло ввысь и вширь. На весь мир прогремела грандиозная стачка бакинских рабочих, по всем промышленным районам империи покатились забастовки. Бастовали и уральские рабочие.
Хотя промышленность на Урале оживилась, хотя обновлялась техника на заводах, рабочему жилось не легче…
Первого мая, когда партия призвала «присоединиться к общему потоку пролетарской борьбы», на Урале забастовало свыше двадцати тысяч.
В Перевале к началу года партийная организация объединяла свыше двухсот пятидесяти человек. Это были рабочие Верхнего металлургического, механического завода Яхонтова, ткацкой фабрики и мельницы Марковых, спичечной фабрики, железнодорожных мастерских, типографии, лесопильного завода, каретной мастерской.








