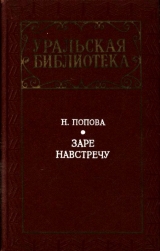
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 25 страниц)
– Трус ты, Петр!
– А вы слепец. Не видите – надвигаются страшные события.
Однажды ночью, после заседания Совета, Полищук, находившийся в числе депутатов, позвонил по телефону Охлопкову и Зборовскому: решено ввести на Верхнем заводе рабочий контроль. Это будет сделано буквально завтра же. Отказаться от контроля нельзя: окружной съезд предложил Советам готовиться к захвату предприятий, владельцы которых не подчинятся контролю.
– Достукались! – мрачно сказал Охлопков и стал натягивать рубаху и штаны. Он условился встретиться с зятем в заводоуправлении, пересмотреть и, если надо, уничтожить часть переписки с петроградским правлением. Неизвестно было, во что выльется контроль и каковы будут функции «контролеров». Может, и в переписку сунут нос.
Сторож не сразу впустил их, не понял спросонок, что стучится начальство.
– А я уж думал, и Нефедыч наш забунтовал, пускать не хочет, – мрачно пошутил Охлопков и, не слушая уверения – «да я… да, господи!..» – приказал: – Иди досыпай и никому ни слова! Понял?
Переписки накопилось много.
Зборовский с трудом открутил чугунный винт, поддерживающий печную дверцу. За лето винт заржавел.
Принялись просматривать бумаги.
Черный список рабочих, присланный союзом заводчиков, полетел в огонь… Письма о локауте туда же… К утру в сейфе и шкафах осталось только то, что «не боялось» чужих глаз.
Настало утро. Зборовский откинул шторы, позвонил. Нефедыч принес им умыться, вскипятил самовар. Вскоре собрались все служащие, и старинное здание наполнилось звуками голосов, шагов, скрипом дверей, стуком костящей на счетах.
– Предупреждаю, Петр: если эта морда появится, я за себя не ручаюсь!
Зборовский, зная, что речь идет о Романе Яркове, сказал внушительно:
– «Морда» появится, это несомненно… Надо быть готовым… только не к мордобитию! А то доставите им высокое наслаждение – бросить вас в тюрьму.
– Ого!
Впервые вспылил Зборовский, говоря с тестем, – ночная тревога, ожидание истомили его.
– Ничего не «ого», – сердито сказал он, – не будьте бабой, владейте своими нервами, черт вас возьми!
И добавил обычным тоном:
– Ушли бы вы лучше.
– Не уйду! – с сердитым вызовом ответил тесть.
В коридоре послышались властные, неторопливые шаги. Шло несколько человек. Без стука распахнулась дверь.
Первым вошел незнакомый пожилой, широкий в кости, широколобый, широкоскулый человек. Он сразу полез за пазуху за мандатом и положил его молча перед Зборовским. Это был депутат областного Совета Васильев. Ему поручили «выполнить решения о рабочем контроле на Верхнем заводе».
Следом за Васильевым вошли солдат, тоже депутат Совета, Ярков и машинист электростанции. Все они также предъявили свои мандаты.
Зборовский внимательно прочел документы, помедлил и сказал холодно:
– Чем могу служить?
– Вот соберем весь контрольный комитет, надо будет познакомиться нам с делами, – сказал Роман.
– С делами ты, Ярков, давно знаком не хуже меня.
– Да нет, я думаю, ты лучше моего разбираешься!
Второй раз сдали у Зборовского нервы. Это «ты» из уст простого рабочего он переварить не мог. Надменно взглянув на Романа, сказал:
– Не «тыкай»! Мы с тобой на брудершафт не пили.
– А я думал, пили – только я запамятовал, – громко усмехнулся Роман. – Ты первый «тыкать» стал…
Депутат Васильев прервал их:
– Давайте кажите дела, кличьте своих конторщиков, казначея… Канителиться нам некогда. – Он вопросительно взглянул на Охлопкова: – А это что за гражданин?
Ответить Зборовский не успел.
– Управляющий горным округом, господин Охлопков, – заговорил Роман с едкой насмешкой в голосе и во взгляде, – бывший гроза я ужас!
По дрожанию подбородка, но сузившимся зрачкам Зборовский понял, что тесть сейчас устроит скандал. Повелительно взглянул на него.
– Вы хотели идти домой, Георгий Иванович!
Ни с кем не прощаясь, Охлопков вышел…
Разгромив свой кабинет, он свалился на диван и заснул тяжелым сном, – хрипел, вздрагивал, завывал сквозь сжатые зубы.
Перед вечером проснулся, но продолжал лежать, тупо оглядывая перевернутую мебель, чернильные потеки на стене, осколки на ковре. В окно видно было косматое багровое небо, – это походило больше на пожар, чем на закат.
Он лежал, ни о чем не думая и только чувствуя раздражение от того, что в коридоре слышались тихие шаги и вздохи.
Наконец сказал хрипло:
– Ну, войди!
Жена как-то неловко, точно крадучись, вошла. Она не смела заметить страшный беспорядок, не смела и спросить, что случилось.
– Обедать, Гоша?
– «Обе-е-дать!» Дура… ужинать пора.
– Ужинать, – повторила она покорно. – Встанешь или сюда принести?
– Нет… Ка-а-кая ослица! Уродится же!.. Что я – расслабленный, паралитик?
Это значило, что он выйдет в столовую. Жена сказала, уходя:
– Все готово, велю суп подавать.
Охлопков выпил стакан водки, но это не приободрило его. Опухший, молчаливый, он сидел за неубранным столом.
Немного оживился, услыхав голоса дочери и зятя, позвал зятя в столовую.
– Ну, рассказывай!
Зборовский выпил рюмочку, закусил, поморщился:
– Полномочия им даны большие. Поступит заказ – они будут проверять, как он выполняется, как идет отгрузка, как расходуются средства… Принялись ретиво. Взяли на учет запасы сырья, топлива… в склады лазили… Сунулись в делопроизводство… Ну, думаю, поплывут! Как бы не так! Разбираются… У этого Яркова незаурядный практический ум… Яркая личность!
– Петр, назло, что ли, ты мне!..
– Не назло… Мне кажется, вы его недооцениваете…
– Напрасно кажется… Я его так ценю, так ценю, – почти с пеной у рта заговорил Охлопков, – он мне во сне снится, каналья! В печенку въелся. Не успокоюсь, пока его не сживу! И ты мне поможешь!
Зборовский свысока взглянул на тестя.
– В заговорщики я не гожусь, Георгий Иванович! Поймите вы! Не в одном Яркове дело! Сживете с завода Яркова – десять найдется таких же…
– Не с завода, со света, – прохрипел тесть.
III
Три раза в неделю, после первой смены, Роман Ярков, не заходя домой, отправлялся с боевой дружиной на учение.
«Заводская милиция», «боевые отряды», «боевые дружины» начали возникать с первых чисел марта. Они охраняли заводы и общественные здания. Вооружались кто чем мог. Было оружие, отобранное у полицейских и жандармов, было «своеручное» – своедельное, изготовленное в ночную смену на заводе.
Из этих рабочих дружин выросли позднее отряды Красной гвардии.
После июльских событий по постановлению партийной областной организации началось военное обучение боевых дружин.
Отряды росли… Военному делу их обучали рабочие– фронтовики и те, кто в революцию пятого года состоял в боевых дружинах. Больным вопросом оставался лишь вопрос вооружения.
Несмотря на свою «пробойность», Роман, сколько ни бился, полностью вооружить свой отряд не мог.
…Двести человек, четко отбивая шаг, шли шеренгами по улицам, неся на плечах винтовки, а то деревянные модели винтовок. Винтовок было мало. При стрельбе в мишень они переходили из рук в руки. При изучении приемов обходились моделями. За колонной лошадь везла на телеге мишени, «чучела», лопаты – словом, всё необходимое для учения.
Уходили далеко за город, на урочище Кучковку. Здесь был достаточно широкий для строевого учения луг. Овраги, река, крутая каменистая гора создавали «условия пересеченной местности».
Шли с песнями, в ногу… Роман время от времени садился на телегу – его еще мучила одышка. Подмечая, у кого нетвердый, невыработанный шаг, он кричал громко, весело:
– Левой! Левой! Тверже! Топай! Красна гвардия идет!
Командир он был веселый, но строгий – спуска не давал.
Объявив перекур, он собирал членов дружины в кружок и превращался в пропагандиста.
– Ну, хорошо, Корнилов – контра, это я знаю… А вот чего он добивается? – спрашивали его.
– Он хочет революцию задавить, военную власть утвердить… Чтобы генералы страной управляли.
– Так он буржуев к ногтю?
– Нет, Миша, к ногтю он не прижмет! Одной свиньи мясо… Буржуи– и русские и заграничные – его деньгами снабжают.
– А Дутов, он кто такой, откудова взялся?
– Казачий атаман. Временное правительство его в Оренбург послало, уполномоченным по продовольствию… но это, видать, была только маска. Он отряды формирует из казаков, Корнилову помогает.
– Ах, стервы-казаки. Против трудового народа пошли.
– Казаки-то бывают разные… Кулацкие сынки идут к Дутову, вот кто! Вам ясно, товарищи, что, поскольку контрреволюция зашевелилась, нам надо дать ей по зубам. Нашей рабочей дружине, может, скоро придется против дутовцев идти… Не должны мы подкачать, товарищи! Знать должны военную науку…
Домой Роман являлся поздно и каждый раз узнавал, что за ним приходили с завода, а то из Совета был посыльный, то в партийный комитет требовали.
– Заплюхался, не успеваю, – досадовал он. – Чисто девушка-семиделушка!
Анфиса сочувственно кивала… Чем могла, она поддерживала мужа: выполняла поручения, старалась накормить его поплотнее и, главное, скрывала от него злую тоску о Манюшке. Отводила душу только со свекровью. Останутся вдвоем – наплачутся вволю.
– Сказать бы мне: «Куплю тебе кыску, достану!» – а я ее пообидела напоследок. Она захинькала тихонько и ко мне же головушкой припала…
Это воспоминание сводило Анфису с ума.
После смерти дочери, после своего ареста Анфиса сильно переменилась.
Строгие черты стали еще резче, лицо выражало бесстрашие… Она с ненавистью глядела на нарядных «господ», говорила сквозь зубы: «Только бы дожить, когда их под корень изведут!»
Потускнела ее слава обиходницы – она перестала заботиться об уюте. Было бы чисто, а теперь не до красоты в доме!
Прямо, резко выражала она свое отношение к людям. Соседи Ерохины совсем не заглядывали к Ярковым: мать Степки, завидев Анфису, уходила с завалинки. Степка, выслужившись на фронте в прапорщики, даже не кланялся соседке. Анфиса читала газеты, ходила на все собрания, куда было можно. С пылом рассказывала неграмотным женщинам, что за мразь такая Милюковы и Гучковы, почему товарищу Ленину пришлось уйти в подполье, как вошел в силу Керенский, кто его подсадил на коня… Роман не раз говорил, что ей надо вступить в партию. Анфису удерживало только одно: «Вступлю – панихиду на могилке отслужить будет нельзя!»
– Да ты разве все еще в бога веришь?
– Кто его знает, Ромаша… Но без панихидки-то как? Мне совесть не позволит… Бросили ее в яму – и все!
– Милка моя! Да бога-то ведь нету!
– Ну и пусть.
– Панихида-то ни к чему, только попу доход.
– Пусть ни к чему… А не могу я, чтобы Манюшка заброшенная лежала. Да и мамонька этого не позволит!
Как-то в августе Ярковы пришли на выборы волостной управы. Перед этим большевики развернули агитацию, но все же опасались, как бы в управу не прошли эсеры. В то время даже среди рабочих находились еще люди, который эсеры были ею душе. А уж о подрядниках, коновозчиках, подсобных рабочих, о мелкой буржуазии, которой немало было в поселке, и говорить нечего: готовы черта выдвинуть, только бы не большевика!
Большевистская организация наметила своих кандидатов, эсеровская – своих… На собрате эсеры пришли группой, окружили Семена Семеновича Котельникова.
Да, Котельников стал эсером… а утвердившаяся за ним слава народного «ходатая» сделала его лицом популярным. Сбивчивые, страстные речи, вид изголодавшегося неопрятного фанатика – все это действовало на непроницательных людей.
Котельников оказался на виду. Стал членом Совета.
Давно добирался до него Роман, давно ему хотелось сразиться с Котельниковым, сразиться не один на один, а на большом собрании.
Он подтолкнул локтем жену:
– Наподдаю ему сегодня! Започесывается!
А Котельников, как нарочно, сам сделал неловкий ход. Он попросил слово и, захлебываясь, с воодушевлением заявил:
– Товарищи! Мы выбираем волостную управу… учреждение, которое будет, я надеюсь, послушно воле нашего народного правительства. Я предлагаю, дорогие товарищи: примем присягу Временному правительству! Заявим о своей сыновней преданности!
От удивления все рты разинули. Потом разом загомонили. Послышались выкрики-:
– Долой Временное правительство!
– Не присягу, а метлой их!
– Тише, тише! – кричали эсеры.
К столу вышел Роман. Лицо его пылало.
– Товарищи! Большинство нашего собрания возмущено этим предложением. Правильно! И надо возмущаться!.. Но дивиться? Дивиться нечему: предложение о присяге внес Котельников… А кто такой Семен Котельников? Многие считают его другом трудового народа. Так ли это? Давайте колупнем поглубже, увидим… Вы ведь эсер, гражданин Котельников?
– Эсер, – откликнулся тот, привстав и тряся петушиным гребешком седеющих волос, – эсер и горжусь этим!
– Товарищи, – продолжал Роман, загораясь, – не мудрено, что эсер предлагает присягать своему эсеровскому правительству. Это правительство ему глянется, оно ему подходит– по Сеньке и шапка!
Каламбур заставил всех расхохотаться, но Роман поднял руку, и смех прекратился.
Он с возмущением перечислил преступные деяния правительства, рассказал о предательстве меньшевиков и эсеров. Перешел к местным фактам.
– На собрании железнодорожников гражданин Котельников призывал строить «беспартийный профсоюз», хотел, чтобы этот профсоюз оказался под влиянием буржуазии.
– Под нашим! – выкрикнул Котельников.
– Под вашим? А вы – лакеи буржуазии!
– Нет! Не лакеи!
– Разберемся! Когда Перевальский Совет в мае заявил о недоверии Временному правительству, кто улюлюкал, бешеную агитацию разводил, демонстрации устраивал… добился перевыборов? Кто? Меньшевики, эсеры! Что они добились? Затормозили на время революционную работу в угоду своим хозяевам-буржуям! Так, Семен Семеныч? Как же не лакеи? А не нравится лакеи – скажу попросту: холуи! – Эсеры шумели все сильнее, и Роман повысил голос – А что делали эсеры, тот же Котельников в гарнизоне? Охмуряли, отуманивали солдат! Хотели их опорой контрреволюция сделать… Не вышло!.. А на электростанции? Кто агитировал против Красной гвардии?
– И снова повторяю, – вынырнул из толпы Котельников, – не надо битв! Не надо крови, товарищи!
– Чьей крови не надо? – закричал что есть силы Роман. – Рабочую кровь льют, вы не жалеете? Что в июле было? Что? Вам кровь буржуев жалко! Вот что!
Эсеры вскочили с мест.
– Лишить его слова! – кричали они и, работая локтями, стали пробираться к Роману. Он стоял с поднятой головой, с румянцем гнева, с вызовом в глазах. Начался шум.
Рабочие поднялись, заслонили Романа.
Котельников надсадно завопил:
– Товарищи! Покинем собрание!
С шумом и руганью эсеры вышли.
– Хорошо прохладиться после такой бани, – говорил Роман Анфисе, шагая по темной улице. Августовская ночь уже спустилась. Падали звезды – чертили золотые линии по черному небу. Из палисадников пахло цветами, из огородов – травой. – Что, милка, приумолкла?
Обнял ее и сказал задушевно:
– Похудела-то как! Все ребрышки обозначились!.. Но ничего! Были бы кости, мясо нарастет. Выдюжим.
– Я про тятю вспомнила, когда Семен Семеныч выступал… про Ключи, – тихо сказала Анфиса, – он, Ромаша, верно, за народ всегда стоял. Я думаю и придумать не могу, почему он к буржуям спятился. Мне его почему-то жалко.
– Ну вот, «жалко»! – с сердцем сказал Роман. – Станет жалко, ты подумай: лили рабочую кровь – он не жалел… Сволочь он!
Анфиса не возразила. Несколько шагов они прошли молча. И вдруг из мрака возникла длинная тень – поднялась со скамеечки у ворот, шагнула к Роману. Тот сунул руку в карман, нащупал револьвер, остановился.
– Не сволочь я! – надорванным голосом сказал Котельников. – Нарочно ждал вас, товарищ Ярков.
– Ну? В чем дело?
– Хочу, чтобы вы поняли меня.
– Я понял.
– Да нет! Вы считаете – искренне считаете! – что я против народа. Не так это! Я не против народа, я против крайностей! За гражданский мир!
– Некогда мне трепаться с вами, агитировать вас, – жестко ответил Роман. – Сами могли бы разобраться, грамота у вас большая. А что касается собраний… на собраниях буду разоблачать и в дальнейшем, чтобы народу глаза открыть. Пошли, Фиса.
– Подождите!.. Я слышал, Фиса, твои слова и благодарен тебе… Завтра поеду в Ключи… Что передать отцу?
– Тяте поклон… маме… – сдержанно сказала Анфиса и, почуяв, что муж недоволен, добавила: – А мои слова… Мне не вас жалко, Семен Семенович, а жалко вчуже, что вы меж трех сосен плутаете.
Она взяла мужа за руку. Они пошли, размахивая сплетенными руками, как ходили в первое время после свадьбы.
Обогнув угол заводской стены, Ярковы, чтобы сократить дорогу, решили пересечь дровяную площадь. Она лежала в выемке. Здесь были склады нефти, керосина, стояли штабеля дров для пудлинговых печей, хранился торф, уголь. По ночам дежурил старик сторож. Красногвардейцы делали обход несколько раз в ночь. Курить было строго запрещено.
Проходя по борту выемки, Роман заметил, как во мраке площади, где смутно белели только длинные поленницы, ярко вспыхнул огонек.
Он подумал, что кто-нибудь из охраны не вытерпел, закурил… Но тут же в голову ему ударила мысль о поджоге. Не сказав ни слова, он спрыгнул вниз и с револьвером в руке побежал между штабелями торфа, скорее угадывая, чем видя темные и смутные очертания человеческой фигуры. Руки поджигателя, должно быть, дрожали – слышно было, как мелко постукивают спички в коробке. Что-то неясно белело у штабеля – свиток ли бумаги, береста ли.
– Стой! – закричал Роман. – Руки вверх!
Поджигатель бросил спички, прыгнул за штабель. Роман выстрелил. К нему уже бежали красногвардейцы, а дед-караульщик, одурев, лупил в чугунную доску.
Началась погоня по темным «коридорам» между штабелями… поиски под навесами, крики: «Вот он, вот!» – и снова поиски… Наконец увидели: ловко, как обезьяна, злодей карабкается по стене разреза. Роман еще раз выстрелил. Поджигатель вскрикнул от боли, но продолжал лезть. Так бы он и ушел, если бы не задержали его рабочие, которые шли в ночную смену.
Поджигателя поволокли к заводу. В свете заводского фонаря с него сорвали шарф, скрывающий лицо. Перед ними был Степка Ерохин.
– Кто тебя купил, гад? – тряс его за плечи Роман.
Степка кряхтел, молчал.
– Вот пырну штыком – заговоришь, – пригрозил Володя Даурцев. Глаза у него округлились, он готов был ударить… Роман удержал его.
– Смотря, анархию брось!
– Да, дядя Роман!..
– Ничего не «дядя»! Ты боец Красной гвардии… следи за собой!
– Расстрелять его, гада!
Роман вызвал милицию. Пошли на дровяную площадь, чтобы составить акт о попытке к поджогу. Но сколько Роман и Володька с товарищами не искали, нигде они не нашли ни брошенного коробка со спичками, ни свитка бересты. Ясно было, что пока ловили и вели Степку, кто-то уничтожил все следы.
На допросе Степка показал, что он и не думал поджигать, а только закурить хотел. В кармане у него нашли спички, папиросы. Никакую он коробку не бросал, бумаги или бересты не видал. Роман Ярков по злобе показывает на него… А убегал он – боялся, что Роман с товарищами, пьяные, изобьют его. Зачем на площади был? Да солдатку Дарешку поджидал, пусть ее спросят, так или не так. Спросили солдатку. Она подтвердила.
И Степка отделался несколькими днями ареста.
IV
После Февральской революции крестьяне Западного и Южного Урала стали захватывать земли помещиков и кулаков-хуторян. На Среднем Урале бедняки боролись главным образом за леса и покосные земли.
Ключевские крестьяне весной захватили лес, а в конце лета – лога, где прежде были их покосы, отнятые заводоуправлением.
Оттягав эти лога в тысяча девятьсот двенадцатом году, владельцы провели изыскания и начали строить прииск, набирать рабочих.
Окрестные жители, знакомые с рудничной и приисковой работой, шли на новый прииск неохотно. Все знали, каково живется приисковому рабочему, – слава богу, нагляделись и сами натерпелись!
Россыпи здесь залегают на глубине от трех до восьми сажен. Шахты сырые, сверху каплет. Вылезет мокрый забойщик в зимнюю пору – обледенеет, пока до казармы добежит.
Жить в казарме без привычки ее всякий согласится.
Казарма строена из тонких бревен, проконопачена плохо. С пола холодит, от стен дует, а потолка нет, и крыша чуть дерном покрыта.
Такую же казарку построили владельцы на новом прииске Часовом. Срубили дом для смотрителя и служащих. Отрыли пласты, начали вскрышные работы. До половины выстроили здание промывочной фабрики… да на том к остановились.
Началась война, мобилизация. Рабочих стало находить труднее. А тут умер старый владелец, наследники перессорились, начали выгонять из заводоуправления старых работников, ставить новых… и прииск Часовой заглох, запустел. Узнав, что ключевские крестьяне захватили лога, выехал к ним новый управитель завода. Крестьяне разговаривать с ним не стали.
– Не о чем судить! Наша земля! Дедовская! Теперь слобода и – катись отсюдова колесом, пока цел!
Управитель обратился к уездному комиссару Временного правительства.
Комиссар решил послать в Ключи Котельникова.
– Вас они уважают, верят вам. Убедите их, что нельзя самочинно захватывать землю… Надо отдать ее владельцам! Пусть ждут Учредительного собрания. На всякий случай я распорядился: во вашему вызову немедленно будет выслана воинская команда.
Котельников самонадеянно сказал:
– Не потребуется!
Увлекшись своей «политической деятельностью», Котельников давно не заглядывал в Ключи. По дороге с полустанка он с наслаждением принюхивается к лесным запахам, любовался предосенней пестротой перелесков.
Семен Семенович ехал в превосходном настроении. Он чувствовал свою значимость, свой вес, предвкушал радостную встречу с односельчанами, с родными. Он давно не видался с матерью. Старушка не заглядывала к сыну в город с той поры, как поняла его отношения с квартирной хозяйкой. Разбил он лучшую ее мечту о доброй невестке, о внучатах.
«Какая уж теперь сноха, какие внучата, – тихо пеняла старушка, – забрала тебя в руки старая модница!»
Подремав под звон бубенчиков, Котельников разговорился с возницей.
Узнал, что ключевские мужики сколотили артель, работают на прииске артельно. Главари у них – солдат Чирухин да Ефрем Самоуков. Сами получают немного, все почти сдают государству, Советам. Мечтают, что им разрешат драгу построить, промывочную фабрику достроить. Почти все туда переселились, торопятся больше успеть сделать до зимы.
– Что и делают! Эвон как пластают!
Увидев Большую сосну, Семен Семенович приказал вознице свернуть на лога. Ему захотелось прежде посмотреть на прииск, а уж потом собирать сходку.
Он ехал по лесной дороге, пестрой от солнечных бликов, и вспоминал, как в двенадцатом году скакал верхом по этой дороге… задыхался, рыдал оттого, что лога незаконно отошли к заводу. Теперь ему приятно было вспомнить о своем «бескорыстном служении народу».
Лес кончился. Блеснула Часовая. Завиднелась вдали знакомая дымчатая гряда гор… Но место, где когда-то травы росли по пояс и до самой страды стояла зеленая тишь и глушь, нельзя было узнать.
Широкой длинной рыжей полосой тянулся разрез, в котором копошились мужики и парни – копали пески, нагружали одноколесные тачки и палубки, стоящие на дорогах. Сильные, рослые ключевские девицы погоняли лошадей и возили вручную тачки.
Вода из Часовой по желобам текла на машерты – самодельные вашгерды старателей. Женщины ровняли песок, баламутили воду.
По всему логу трава была исхожена, вытоптана, выжжена кострами. Темнели отверстия пробных ям и заброшенных шурфов, глинистые края которых поросли высоким малиновым кипреем.
На пригорке стояла контора, а против нее, на другом скате, – казарма. Стены этих зданий не успели потемнеть. Кое-где по склону лепились шалаши – балаганы.
Котельников невольно залюбовался широкой картиной артельного труда. Народ работал весело, согласованно… Но вдруг Семен Семенович вспомнил, зачем его послали. Нехорошо стало у него на душе. Он подумал, что лучше, пожалуй, уехать, пока его не заметили, но было поздно. Его увидели, узнали. Побросали лопаты, тачки, пехла[5]5
Пехло – клюка, мешалка.
[Закрыть], устремился к нему народ.
– Семен Семенович! С приездом!
– Милости просим!
– Наша взяла, Семен Семенович!
– Отняли мы лога-то! – спешили порадовать мужики своего верного ходатая и печальника.
Они ждали: обрадуется, расплывется в улыбке, начнет трясти, пожимать руки, хлопать по плечам: «Так, так, друзья мои! Чудесно! Великолепно!» А он стоял с похоронным видом, молчал.
Самоуков спросил:
– Или не с доброй вестью, Семен Семенович?
– Не с доброй… – тихо ответил Котельников.
Толпа сдвинулась теснее.
– Должен вам напомнить, друзья мои, товарищи, что я крепко-накрепко связан с вами, – начал Котельников. – Болею вашей болью, живу вашими интересами.
– Знаем! – растроганно прогудел Самоуков и помотал кудрявой головой от избытка чувств.
– Спасибо тебе!.. Помним твое добро! – заговорили мужики.
– И в партию я пошел в вашу, в крестьянскую! – продолжал Котельников.
– Это в какую, в крестьянскую? – настороженно спросил Чирухин.
– В эсеровскую, друзья мои! Эта партия народная, крестьянская.
– Кулацкая! – вставил Чирухин и, сузив глаза, насмешливо и разочарованно присвистнул.
Все неуловимо переменилось. От молчаливо глядевшей на него толпы будто холодом потянуло. Неприветно, одиноко почувствовал себя Семен Семенович.
– Верно, что не с добром прикатил, – сказал Самоуков. – Эх, Семен Семенович!
– Я вижу, друзья мои, что вам наврали на эсеровскую партию. Мало ли ходит сплетен? Не солнышко, всех не обогреешь! А вы не верьте! Смутьяны на нас клевещут, большевики!
– Эй, полегче на поворотах!
Это сказал Чирухин. Сказал властно, громко, как отрубил.
– Да что его слушать? – с ленивым пренебрежением молвил рослый парень в выцветшей гимнастерке. – Пошли робить, мужики!
Артель сразу потеряла интерес к Котельникову, начала расходиться.
– Друзья! – завопил Семен Семенович, устремившись за ними. – Выслушайте меня! Я совет вам дам… предупредить хочу!.. Вам опасность угрожает.
Мужики остановились.
– Друзья! Вы сделали недостойный и вредный поступок… самочинно захватили землю… Постойте! Не перебивайте! Знаю, знаю ваши права, ваши мучения, все знаю, все помню… Но… подождать надо! При царе не бунтовали, а при своем народном правительстве бунтуете… Верните землю, разойдитесь по домам, ждите… Клянусь: из рук Учредительного собрания вы получите землю.
– Сами не возьмем – шиш получим, – прогудел Самоуков, выбуривая исподлобья на своего бывшего друга. – Чем сказки рассказывать, ты лучше нам скажи: чем тебя улестили, Семен Семенович, что ты за лжу против правды пошел?
– Странный ты человек, Самоуков, – нервно сказал Котельников, начиная сердиться. – Не хотите слушать моего совета. Что же. Раскаетесь!
– Не стращай, мы не пужливые.
– Я не пугаю, Самоуков. Но ведь, если вы не вернете землю добром, приедет воинская команда, разгонят вас… разошлют по разным местам… а кое-кого и в тюрьму посадят.
– Сиживал, не боюсь.
– Будет, товарищи, что с ним… – сказал Чирухин, – пошли, что ли, работать.
На этот раз все разошлись по местам: кто в разрез, кто к тачке, кто к вашгерду. Котельников остался один.
Хмуро, коротко отвечая на расспросы родителей, Котельников напился чаю и пошел к священнику Албычеву. Он знал, что из кыртамской ссылки отец Петр приехал больным, врачи признали у него чахотку. Но он не ожидал встретить такого изможденного – кожа да кости – человека. Его поразило, что ходячий скелет этот шутит, горячится, интересуется политическими событиями, будто забыл о близкой смерти.
Попадья исстрадалась, «вся избеспокоилась» о муже, о дочери, которая уехала уже в Перевал, так как учебный год начался.
– В городе тихо? Вы не обманываете, Семен Семенович? Девушке не опасно жить там?
– Что вы, матушка! В городе полный порядок.
– А мне уж всякие мысли в голову лезут…
– Повидал бы я Илью Михайловича, – сказал отец Петр, наливая в чай кагора, – честный мужик… и видит далеко. Когда мы с ним в Питер ездили…
– Что вы, отец Петр! – ужаснулся Котельников. – Он, да Чекарев, да еще Роман Ярков – Самоукова зять… да еще «товарищ Рысьев» – Мироносицкий… они… нет, я даже говорить спокойно не моту!
Отец Петр насмешливо заострил глаза:
– Какую они вам дорожку пересекли?
– Не мне! Не мне, батюшка! Народу!.. Большевистская, я прямо скажу, зараза сбивает народ с толку. Мы идем к катастрофе! Теперь они свою рабочую гвардию сколачивают… а для чего? На фронт не идут, родину защищать не хотят, революцию не хотят защищать… Для чего им гвардия? Для разбоя в государственном масштабе, вот для чего! Вырезать им хочется всю буржуазию, всю интеллигенцию, все разрушить, исковеркать!
Заметив ужас в глазах попадьи, отец Петр ласково положил руку ей на плечо:
– Не трясись ты, мать, не трясись!.. Совсем ты у меня дергунчиком стала. Чего ты боишься?
– Вон что Семен Семенович рассказывает… У меня ведь дочь!
– Не умирай раньше смерти. Семен Семенович через край хватил. Я читал большевистскую программу, и совсем они анархию не признают!
– Отец Петр! Вас ли я слышу?!
– У меня с большевиками расхождение только из-за религии, а учение у них справедливое.
– Учение?! Да это же приманка одна… Приманка для бедноты. И вы своим светлым умом… Вас ли я слышу, отец Петр?!
– Батюшко!.. – попадья взглядом договорила: «Не болтай так при чужом человеке!»
Она позвала кухарку, велела подогреть самовар, зажгла висячую лампу-молнию. При свете стало уютно. За стеклом шкафа привычно блестели ободки фарфоровых чашек. Между расходящимися книзу половинками штор в окно заглядывала рябина. Фикус с темно-зелеными, будто навощенными, листьями распростер свои ветки. Весело пестрели домотканые половики. Важно качался маятник…
Здоровенная молодая кухарка внесла самовар.
– Еще стаканчик, Семен Семенович! – предложила попадья.
Но Котельников даже не взглянул на нее. Он нетерпеливо ерзал на месте.
– Вот вы говорите о справедливости, отец Петр… А у вас под носом большевики мутят, сбивают с толку… Вы, как пастырь, должны были бы внушить крестьянам, что не имеют они права брать чужое!
– Постойте, – с недоумением взглянул на гостя священник, – давно ли вы из кожи лезли, доказывали, что земля эта – крестьянская? Они взяли свое.
– Но самовольно! Самовольно!.. Хорошо, пока оставим это… А где ваша земля, отец Петр?
– А у меня ее и не было.
– Вы отлично понимаете… Где церковная земля, я спрашиваю? В тех же руках, что и лога.
– А скажите, почтеннейший Семен Семенович, – начал с прежним своим задором отец Петр, – зачем земля… – он кашлянул, скороговоркой докончил: – служителям церкви? – и неудержимо закашлялся.
Жена поднесла ему стакан воды, он отмахнулся. Наконец приступ кончился. Отец Петр откинулся на спинку дивана, протер очки и дрожащими от слабости пальцами набил трубку. Струи и клубы дыма замутили чистый воздух комнаты. Отец Петр жадно затянулся.
– Попробуйте, Семен Семенович, беспристрастно взглянуть… со стороны… Это полезно… Знаете, за что меня в Кыртамке гноили?
– На епархиальном съезде вы что-то сказали?







