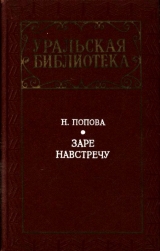
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 25 страниц)
На имя Перевальского комитета пришли из-за границы литература, конспекты ленинских лекций и письмо. Оказалось, резолюция из Перевала не получена – застряла где-нибудь в полиции. А отсутствие резолюции позволит примиренцам и ликвидаторам заявить, что делегат неправомочен, что в Перевале нет организации, что мандат – фальсификация…
Ехать в Петербург надо до зарезу! Передать Орлову письма, резолюции, получить инструкции. На почту сейчас надеяться никак нельзя. А время не ждет.
– Разумеется, поеду, – сказал Илья. – Хорошо бы предлог найти… для полиции… но можно и без предлога.
Щеки у него разгорелись, глаза тоже.
– Тебя лихорадит, – тихо сказала Ирина.
Он не ответил.
– Готовьте документы, письма. Явка есть в Питере?
– Есть… Ты в этом пальтишке поедешь?
– Я никогда не зябну.
– Нет, так дело не пойдет! – категорически заявил Чекарев. – Надень-ка мой полушубок… Великоват!.. Ты когда поедешь?
– Очевидно, завтра.
– К завтрему найду тебе видную шубу… буржуйскую!.. Денег достану.
– До завтра, – сказал Илья. – Пойдем, Ира!
Мария стала упрашивать:
– Да посидите вы! Успеем все сделать! Вы, Давыд, нам ничего еще о себе не рассказали!
– А нечего и рассказывать, – ответил Илья.
– Нечего?
И Мария с нежным лукавством перевела взгляд с Ильи на Ирину: «Ну, ладно! Скрытничайте! И без рассказа все на виду!»
Проводив Ирину, Илья столкнулся у подъезда с Матвеем Кузьмичом, который совершал ежедневную прогулку, сам себе предписав моцион.
– А, – сказал тот, здороваясь с Ильей, – вас-то мне и надо, молодой человек. Попался, голубчик!
Он говорил шутливо, но не мог скрыть раздражения.
Албычев так и впился глазами в Илью: заметил худобу, лихорадочный румянец на скулах… И вдруг осенила его мысль, что он может отказать Илье под благовидным предлогом. Албычев даже руки потер от удовольствия.
Шутливо подталкивая, он заставил Илью войти в переднюю, раздеться и, подхватив под руку, провел к себе в кабинет.
Ирина вошла следом и села в кресло у топящейся печки. Начинался ранний зимний вечер, и в комнате с коричневыми обоями и портьерами стало совсем темно. Албычев включил свет. Задернул тяжелые гардины. Водрузился за огромным темным письменным столом. Все молчали.
– Дочь мне сказала, что вы решили… сочетаться браком! – начал Албычев. – И я, признаюсь, был озадачен…
Илья молчал.
Он мог бы успокоить Албычева, сказать ему то, что недавно сказал Ирине… но он боялся оскорбить, задеть нежную восприимчивость девушки.
Не дождавшись ответа, Албычев продолжал:
– Должен вам сказать прямо: я, врач, не могу рисковать здоровьем и жизнью единственной дочери!
Илья удивленно поднял глаза.
– Что вы удивляетесь, милейший? Не можете же вы не знать, что вы тяжко больны…
– Чем же я, по-вашему, болен?
– У вас чахотка.
Ирина вскрикнула. Илья усмехнулся:
– Нет у меня чахотки.
– Есть.
– Вы, Матвей Кузьмич, не прослушивали меня, а диагноз ставите. Я здоров.
С суровой прямотой поглядев на Албычева, Илья сказал:
– Все это одни увертки, и давайте говорить начистоту!
– У меня глаз наметанный, – упрямо сказал Албычев, – уж вижу я!.. Я здесь лучшим специалистом считаюсь… Но, чтобы не быть голословным, давайте я вас прослушаю. Выйди, Ируська!
– Что за комедия, – с неудовольствием начал Илья, делая шаг к двери, но умоляющий, отчаянный взгляд девушки остановил его.
Ирина не пошла к себе, осталась в передней. Присела на подзеркальный столик, в отчаянии ломая пальцы. Слово «чахотка» звучало как смертный приговор. «Если окажется действительно чахотка – сейчас же уйду к нему! Пусть хоть отталкивает, хоть что, буду с ним! Буду с ним!»
– Дышите глубже, – услышала она голос отца, – еще глубже!.. Кашляните!.. Так, так!.. Потеете?.. При быстрой ходьбе задыхаетесь? А нуте-ка, здесь послушаем… Глубже дышите.
Ответов Ильи она не могла разобрать, он говорил тихо.
Через несколько минут отец разрешил ей войти.
– Так, молодые люди, – начал он, торжественно усевшись за стол, – вот вам мое решение и как отца, и как врача: брак надо отложить на неопределенное время…
– Он правда болен, папа?
Албычев посмотрел на трагическое лицо дочери, и жалость шевельнулась в нем.
– Как тебе сказать? – он задумчиво посмотрел на Илью. – Чахотки еще нет, но легкие слабые… предрасположение налицо… Вы что, не верите мне? – вдруг вскипел он. – Достаточно хар-р-ошей простуды – и все! Вам необходимо хорошо питаться, не утомляться, избегать простуды, беречь нервы… а летом обязательно на кумыс!.. Вот такие ваши дела. Не верите – идите к другому врачу… но я – лучший здесь специалист! Лучше меня диагност по этим болезням только профессор Владимирский… но до него рукой не дотянешься, он в Петербурге!
Ирина увидела, как блеснул взгляд Ильи при слове «Петербург», угадала его мысль: «Вот и предлог!» – девушка не знала, досадовать ей на Илью или восхищаться им…
Илья сказал:
– Что же, съезжу в Петербург. Здоровье надо беречь!
И он улыбнулся не свойственной ему насмешливой улыбкой, как будто заботиться о своем здоровье было и смешно, и недостойно его.
Албычев сказал:
– Я думаю, Илья Михайлович, вы как честный человек…
– Разумеется, брак будет отложен на долгое время, – сказал Илья.
V
Илья с Ириной вышли на платформу и уже направились к зеленому вагону третьего класса, как вдруг Ирину окликнули два голоса – мужской и женский.
– Ира!
– Ирочка! Куда поехала?
Она оглянулась.
К ней приближался священник Албычев – в меховой рясе, в треухе, с ручным саквояжем. За ним шла, укутанная поверх шубы шалью его жена, вела за руку маленькую Веру.
– Куда тебя бог понес?
– Это не я… – сказала Ирина. – Едет мой жених в Петербург, к профессору Владимирскому.
– Я тоже в Питер, – объявил отец Петр каким-то многозначительным задорным тоном. – Вместе поедем, Илья Михайлович? Вы тоже в третьем классе?
– Да.
Илья ничего не имел против совместной поездки со священником. Для конспирации это было даже хорошо.
Они сели в один вагон, заняли нижние места по обе стороны столика.
Матушка хлопотливо проверила, не дует ли от окна, затоплена ли круглая чугунная печка, обогревающая вагон, надежно ли укреплены верхние полки, – не обрушился бы на отца Петра «верхний» пассажир! Маленькая Верочка внимательно наблюдала за матерью и облегченно вздохнула, когда та сказала: «Ну, все в порядке!»
– Если будет крушение… – тихо начала девочка.
Мать испуганно прервала ее:
– Что ты! Что ты! Бог милует!
– Я так буду молиться, что ты, папа, не бойся, – с чувством сказала Вера, прижимаясь к плечу отца, – если и будет крушение, ты будешь «чудом спасен», как император.
Отец похлопал ее по румяным щекам, которые подпирали шаль и воротник шубы.
– А вы сами верите в чудеса? – спросил Илья.
– Верую! – строго ответил отец Петр и обратился к жене, давая ей последние указания. Проводил ее из вагона.
– Береги себя, – шепнула Ирина и, заметив удивление Ильи, добавила: – От простуды!
Отец Петр откинулся на спинку и спросил с вызовом в голосе:
– А вы, стало быть, в чудеса не верите?
И стал приводить случаи чудесных исцелений в Семеновском монастыре. Илья слушал внимательно.
– Верю, – заговорил Илья, – если паралич, слепота, немота – следствие нервной болезни, или, вернее, сама нервная болезнь выражается таким образом, больной может излечиться при помощи самовнушения.
– У моей жены глаза болели, и доктор не мог вылечить… она помолилась, помазала елеем, и все прошло!.. Это вы как объясните? – азартно кричал отец Петр.
– Как я уже сказал: самовнушение… а может быть, просто совпадение. Вот вы привели несколько случаев исцеления… Почему они исключительно редки? Почему чаще всего больной не выздоравливает?
– Вера оскудела.
– Вот! Без глубокой веры в результат молитвы исцеления быть не может. Значит, не от внешней силы оно зависит, а от силы самого больного – от внушения.
– Стой-той-той, – задумчиво заговорил отец Петр, – в это надо вникнуть… Ох вы, демон вы, искуситель!! На какие мысли меня наталкиваете!..
Отец Петр Албычев ехал в Петербург по кляузному делу.
– Три года живу в Лысогорске и три года воюю со Степкой Мироносицким!
И он, горячась и взрываясь, поведал Илье о своих неприятностях.
До переезда Албычева в Лысогорск Мироносицкий завел обычай: делить между членами причта содержимое церковной кружки, предназначенной для пожертвований на «вдов и сирот». Албычев сразу же отказался в этом участвовать… и не только отказался, а пригрозил, что, если хоть раз еще будет такой дележ, он, Албычев, сообщит духовному начальству. Недавно отец Петр узнал, что все эти три года беззаконное дело продолжалось. Он написал об этом архиерею и в консисторию. Ответа не последовало. Отец Петр подал еще несколько ядовитых и задорных «покорнейших прошений» в стиле протопопа Аввакума. «Весь портрет Степкин нарисовал… и как он тайну исповеди нарушает, и как луковкой исторгает притворные слезы, говоря проповеди… все его склочные дела описал… и как он помыкает псаломщиками да трапезниками… Все!» В конце он подчеркнул, что терпение его истощилось и что если нарушение канонических правил подсудно только духовным властям, то ограблением кружки могут заинтересоваться власти светские.
Это – пятое по счету – прошение не осталось без последствий и не кануло в Лету, как опасался отец Петр. Вскоре в Лысогорск приехал благочинный.
Благочинный стал его уговаривать:
– Отец Степан виноват, это верно… но зачем вам дело подымать? Владыка наложит на него епитимью… келейно… А духовное следствие вызовет толки… слухи пойдут. Подумайте, отец Петр, распуская такие слухи, как мы грязним свое сословие! Не надо, голубчик! Это озлобление в вас говорит.
– Нет! Правдолюбие!
– Все сутяги так говорят, – рассердился благочинный.
После беседы с отцом Петром благочинный уехал в Перевал, а Мироносицкий – в Семеновский мужской монастырь. Игуменом там был дядя Мироносицкого. Игумен этот был в особой чести, так как ему покровительствовал Григорий Распутин, часто наезжавший в этот монастырь.
Дня через три отец Степан вернулся и, как ни в чем не бывало, принялся за исполнение обязанностей. «Полизал… игумену и успокоился, – злился отец Петр. – Вот какой бальзам пользительный!»
Вскоре архиерей вызвал отца Петра в Перевал «для увещания».
– Вы мне прямо скажите, ваше преосвященство, – приосанившись, начал дерзкий поп, – должен или не должен служитель церкви обличать неправду?
– Чего вы добиваетесь?
– Гнилую траву из поля вон!
Архиерей как-то особенно поглядел на отца Петра. Левое веко его непроизвольно задергалось.
– Зачем вы приняли сан, если нет в вас кротости, тихости, любви христианской? Зачем?
– Разве я знал… – отец Петр вовремя удержал слова, которые так и рвались с языка.
– Что знали? Нуте? – с ехидной ласковостью расспрашивал архиерей.
– Не раскаиваюсь, что принял сан, – сказал отец Петр, – и готов пострадать за правду!
Отец Петр понимал, что повредил себе, говоря так с «владыкой». Вернувшись в Лысогорск, он, правда, храбрился, насмешничал, представлял в лицах свой разговор с «архипастырем», но на душе у него кошки скребли.
Он чувствовал, как растет в нем ненависть к Мироносицкому. Не мог не думать о нем постоянно. Он строил планы, как вывести всех на чистую воду. Пришедшего к нему гостя он торопился увести к себе в кабинет и доводил до одури, читая черновики своих многочисленных прошений.
Духовного следствия, на которое так надеялся отец Петр, все не было. Дело, очевидно, опять «кануло в Лету».
Потеряв терпение, он настрочил жалобу в святейший синод и стал ждать ответа. Но вместо бумаги из синода пришел указ из епархии: отца Петра Албычева перевести «для пользы службы» настоятелем церкви села Ключевского.
Его чуть удар не хватил от гнева, от возмущения. Он с раздражением отводил взгляд от матушки… Она же, скрывая от него слезы (о Лысогорске, о квартире, о том, что дочь будет учиться «за глазами»), с кротким сожалением глядела на него. Увидев, что начата большая стирка, что матушка хлопочет о рогожах, о веревках, ящиках, – словом, готовится к переезду, он сказал:
– Не торопись, мать! Я еще не решил!
– Да чего же еще решать, Петенька? Перевели, надо ехать.
– Погоди, я сказал! Вот съезжу в синод, тогда…
Он взял от врача справку, что нуждается в лечении аорты, получил отпуск по болезни… Тогда только матушка поверила, что он в самом деле поедет в Петербург.
– Отчего вы так возмущаетесь нарушением тайны исповеди? – заговорил после молчания Илья с суровой насмешкой. – Чему удивляться?
– Подлости его.
– Вы считаете себя законником, а законов не знаете… Со времени Петра Первого действует закон, синодом подкрепленный, – ваш брат обязан доносить «по начальству», если услышит на исповеди о «злодейственных» революционных намерениях!
Отец Петр, смущенный и сердитый, помолчал.
– А наплевать! Честный поп предавать не станет… Бог не так учил.
– «Бог», «бог»… отлично вы понимаете, что священник – слуга и раб светской власти.
Начался спор.
В последний вечер они спорили втроем, – к ним присоединился хорошо знакомый Илье адвокат Горбунов, когда-то близкий к революционным кругам человек.
Они остановились в тамбуре.
В вагоне смеркалось. Пустые печальные поля за окном потускнели, словно их припорошило пеплом. Слабо мигнули огоньки в сиротливой деревеньке, состоящей из двух десятков черных избенок с нависшими снежными шапками, под которыми угадывались соломенные крыши. Усатый кондуктор неодобрительно взглянул на сигару отца Петра, от которой сине стало в тамбуре, зажег свечу в фонаре над дверью.
– Пойдемте лучше в вагон, – сказал Илья. – Что я буду еще говорить? Все равно вы меня не понимаете.
– В дураки меня зачислили, молодой человек?
– Вы, Петр Кузьмич, человек умный, но страшно узкий.
– Это я? Я узок?
– Вы. И узок, и непоследователен. Нет у вас стройного мировоззрения. Вы христианин… а почему не подставляете щеку для битья?
– Да, я – христианин, – с достоинством сказал отец Петр, – но вы и думать бросьте насчет щеки! И нету тут неувязки… Сам-то Иисус Христос как понужнул торгашей? Ка-ак резнет ремнем!.. Правда, справедливость – ни перед чем не должны отступать!
– «Правда», «справедливость»… Хоть раз подумали вы о том, что в разные эпохи, в разных странах… у представителей разных классов различные представления о правде и справедливости? Почему именно ваше представление должно быть правильным?
– А почему – ваше?
– Мое… потому, что мое мировоззрение на твердом основании покоится!
– На каком это?
– На строго научной основе. Основа эта – законы истории, законы развития человеческого общества… И что бы вы и вам подобные ни делали, – прогрессивных сил вам не удержать.
Они помолчали.
– По-моему, вы зарвались и хватили через край, Светлаков, – насмешливо сказал адвокат, поправляя пенсне. – Настоящая христианская философия должна вам быть понятной, близкой. Недаром марксисты поговаривают о создании новой религии…
Илья остановил его резким жестом.
– «Поговаривают» те, кто отошел от марксизма, – ответил он. – Что такое богоискательство, богостроительство? Извращение научного социализма. Вот что это такое!
Отклонившись от первоначальной темы и точно поддразнивая Илью, Горбунов заговорил о «разладе в стане марксистов», о философских шатаниях, о «критике», ревизии марксизма.
– И что из этого следует? – сурово спрашивал Илья.
– Только то, что марксистская философия несостоятельна, – с издевкой отвечал Горбунов.
– Нет! – напористо говорил Илья. – Не философия наша несостоятельна, а несостоятельны те предатели. те ублюдки, которые проповедуют реакционную теорию и в то же время маскируются под марксистов!
– Но позвольте, когда такой светоч марксизма, как Богданов, обнаруживает идеалистическую основу…
– Какой он «светоч»! – оборвал Илья, поморщившись. – Охота вам толковать о его метафизической болтовне!
Спор разгорелся. И чем больше имен отошедших, изменивших или замаскировавшихся людей называл Горбунов, тем резче делался Илья.
– Что же вы считаете передовым… «правильным», марксистским словом? – спрашивал Горбунов. – Ну, скажите!
– Философский труд «Материализм и эмпириокритицизм».
– Ага! Я так и думал!.. Но вам не доказать, что этот труд правильнее, выше других книг… Чем он выше?
– Во-первых, тем выше неизмеримо, что автор разработал основные вопросы марксистской философии… Разработал их, говорю я, на новом материале… на новом материале естественных наук и классовой борьбы…
– «Классовой борьбы»! – презрительно фыркнул Горбунов. – Везде вы видите классовую борьбу… даже в несходстве философских систем! Черт знает что!
– Я не ожидал, что вы так невежественны! – с каким-то удивлением сказал после паузы Илья. – Неужели вам не ясно, что борьба идеализма и материализма– это борьба партий? Что философия последователей Маха и Авенариуса – это философия реакционная? Откройте глаза пошире: вы увидите, что разногласия философские идут об руку с разногласиями политическими!
И с неожиданным пылом Илья произнес гневную речь о позорных годах реакции, об отходе интеллигенции…
– Вы на личности переходите? – обиделся Горбунов.
– Лучше прекратим разговор, – сказал Илья, – ни к чему он не приведет. Мы ведь начали о религии, – обратился он к отцу Петру, – так давайте я вам раз и навсегда скажу, Петр Кузьмич, то, что я думаю о религии и о духовенстве!
– Занятно! – с вызовом сказал отец Петр.
– В этой гнилой атмосфере упадка, о которой я только что говорил, религиозные настроения усилились… Это, к сожалению, факт. Ударились в религию царь, царица, всякие там Пуришкевичи… кадеты, октябристы… интеллигенция… все тонет в этом дурмане… Религия – орудие реакции. Ее задача – одурманить трудящихся, отвлечь их от классовой борьбы. Как она Бредит рабочему делу, просветительной работе в массах! Религия вредна! Роль духовенства постыдна!
– Ого, «постыдна»! – с крикливыми нотками в голосе начал отец Петр. – Я – честный поп! По убеждению! С принципами!
– Тем вы вреднее!
– Вреднее?! Вы думаете хоть, о чем говорите? – рассердился поп.
– Думаю… Подумайте вы! Подумайте: следуете ли вы правилам вашего вероучения… способны ли, к слову, пострадать «за правду», «быть изгнанным правды ради», защитить обиженного, обличить «неправедного судью»? Ну?
– Конечно, я не святой… Но неправду обличаю… вот хоть Мироносицкого… Да что вы ко мне привязались? Вы и сами-то похвастаться принципиальностью не можете!
– Я?
– Вы. В бога не веруете, попов презираете, а венчаться придете.
Помолчав, Илья тихо и твердо сказал:
– Не приду.
Отец Петр с недоумением поглядел на собеседника.
– Вот куда споры заводят, – с сердитым смехом сказал он. – Заспорил, раззадорился, от невесты готов отказаться!
– Я не отказываюсь.
Отец Петр вспылил:
– Опять за то же! Понес ерунду, вожжа ему под хвост попала. Теперь я не отстану: говорите внятно то или другое? Вы отказываетесь, или вы венчаетесь?
– От Ирины не откажусь никогда. Венчаться не пойду.
– Без венца! – даже задохнулся отец Петр. – Да кто же вам отдаст ее на всеобщее посмеяние? Не бывать этому! «Жених»!.. У моей коровы такие-то женихи!.. Нет, Матвей вас мигом выставит из женихов.
– Только Ира может «выставить» меня, – ответил Илья, с суровой печалью глядя в окно.
VI
В Петербург приехали в воскресенье утром.
Илья прежде всего отправился в лечебницу Владимирского, узнал, что профессор принимает вечером по средам и пятницам. Можно было, не возбуждая подозрений, посвятить эти дни осмотру города, как это сделал бы всякий провинциал, впервые попавший в столицу.
Бродя по Петербургу, Илья узнавал знакомые места.
Стояла серая, сырая оттепель, – даже представление о петербургском климате не нарушилось!
Впечатление от репродукций, фотографических снимков, от прочтенных описаний давно уже превратилось как бы в личные воспоминания, в воспоминания, несколько потускневшие, утратившие живость красок и деталей. Так он узнал Медного всадника, Исаакия, Адмиралтейскую иглу, Неву, широкие проспекты.
Он сверялся с планом города, заглядывал в путеводитель, купленный в вокзальном киоске, и шел себе да шел. Ориентироваться здесь было так же легко, как в Перевале, Илья улыбнулся сравнению, но, подумав, признал, что сравнение это имеет основание: Перевал, построенный по приказу Петра Первого, спланирован наподобие Петербурга: те же широкие проспекты и пересекающие их улицы.
Чем пристальнее он вглядывался в Петербург, тем сильнее чувствовал этот город.
По этим улицам когда-то Пушкин ходил!..
Вдруг Илья вздрогнул, ему показалось: пламенные глаза Белинского, «голубые, с золотыми искрами», обожгли его… Он даже посмотрел вслед худощавому студенту, который так походил на Белинского…
В глаза бросилась афиша с крупными буквами: «Собинов»… В витрине книжного магазина увидел он портреты Чехова, Толстого, Блока, Бальмонта, Леонида Андреева…
Мертвенно-тихий Зимний дворец глянул на Илью с холодной угрозой, напомнил ему о Кровавом воскресенье… Серая громада Петропавловской крепости – о сырых казематах, о виселице, о палачах…
Но не о смерти и уничтожении думал Илья, глядя на крепость. Он думал о силе идеи, о гордой силе человека-борца! «Труды, написанные Лениным в тюрьме, вечно будут жить! Вечно!.. И разве не здесь создал „Что делать?“ Чернышевский?»
Поздним вечером в понедельник в квартире старого путиловца-рабочего Илья сидел в ожидании Гордея Орлова. Ждал он недолго. Скоро послышались на лестнице знакомые шаги.
Торопливо, сильно пожимая руку, Орлов спросил:
– Привез резолюцию?
У него даже пальцы подергивались от нетерпения, пока Илья осторожно распарывал подкладку пиджака, чтобы достать документы.
Гордей прочел резолюцию вполголоса, вдумываясь в каждую строчку.
Поглядел на оттиск печати и вспомнил ночь у Чекаревых… С улыбкой сказал задумчиво:
– Мастичная!
Илья не понял:
– Да! А что?
– Нет, я так… А с делегатом как у вас?
– Андрею бежать не удалось. Выбрали Назара… его все знают… Вот мандат. Назар в Париже. Вот протокол выборов.
– Оч-чень хорошо!
– А вот тебе письма.
Орлов уткнулся в письма. Илья заметил, что тяжелые веки Гордея красны: видно, давно недосыпает.
– Серго нашелся! – сказал Орлов, бросая прочитанные письма одно за другим в топящуюся печку– голландку.
– Он за границей?
– Там. Уехал отчитаться перед Лениным. Пишет, что кое-как добрался, значит, трудно, опасно было!.. А как только приехал – ринулся в бой.
– Значит, РОК сейчас без Серго работает? – спросил Илья.
– Нет, не значит! – отрезал Орлов. – Он из-за границы здешние дела доделывает! Указывает, кому куда ехать, что делать… Одного боится – не заскрипела бы наша работа из-за провалов… Все время тормошит, везде ли прошли выборы, правильно ли поставлены.
А впереди еще сколько острых моментов! Вот он мне пишет насчет нашего делегата, что, как, мол, только он перейдет границу, пусть телеграфирует из первого города, тогда дадим явку или сам приеду… «Приеду сам!» – повторил Орлов. – Как у него на все хватает времени и сил?
Скрипнула дверь. Прихрамывая, вошел хозяин квартиры, который с момента появления Орлова удалился в коридор, сказав: «Ну, а я вроде пикета постою там…»
– Товарищи! Мне в ночную смену пора… это я не к тому, что, мол, и вам пора… Вот ключ… а там, как сами знаете… Можно и ночевать здесь…
– Вместе выйдем, – сказал Орлов, – запирайте свою комнату… Ты в жилье нуждаешься, Давыд?
– Нет. Я на легальном положении, в гостинице… в одном номере с духовным лицом.
– Ого! Как это тебе помогло? Ну, ладно… Когда едешь?
– Послезавтра.
– Хорошо. Завтра получишь инструкции, приходи сюда к пяти часам.
Приблизившись к номеру, Илья услышал вибрирующий, неспокойный голос: «Не рыдай мене, мати, зряща во гробе…» Он открыл дверь. Отец Петр в одном белье расхаживал из угла в угол. На щеках горели пятна. В комнате слоями плавал сигарный дым.
– А, молодой человек! Ну как, были у врача?
Илья ответил и в свою очередь спросил, как дела отца Петра.
– Как сажа бела, – отозвался тот. – Ходил я к обер-прокурору святейшего синода, спросил, какой результат прошения… Сперва он завилял, как лукавый бес, но я его припер к стенке: «Где же мне в таком случае правду искать?» – Он воздел очи горе: «Правда, отец Петр, на небеси! В нашу судьбу темные силы вмешались. Ничем помочь нельзя. Смиритесь, поезжайте на новое место!» Ну, дела!.. Завтра пойду к думскому депутату, к священнику Троицкому… если и он не поможет, уж просто не знаю, куда и толкнуться… Разве царя побеспокоить?
Илья без улыбки смотрел на странную фигуру в подштанниках и рубахе, с распущенными по плечам длинными волосами, пронзительно глядящую на него сквозь очки. Ему было скучно слушать отца Петра, хотелось подумать о своем. Он сказал:
– К царю вас не допустят. А если бы и допустили, тогда поедете из дворца не в Ключи, а в места отдаленные!
– Не думал, что вы-то меня расхолаживать будете, – упрекнул отец Петр. – Сам говорит о борьбе, а…
– Да какая у вас борьба, – с досадой сказал Илья.
И, не слушая больше отца Петра, разделся и лег.
Поезд пришел в Перевал поздно вечером. Убедившись, что слежки нет, Илья пошел к Чекаревым, чтобы не ждать встречи целые сутки: днем их дома не бывало.
Он не хотел идти через двор, будить дворника, а ключа от садовой калитки у него давно не было. Решил перебраться через ограду. Он знал, помнил столб с выщербленными кирпичами. Изрядно помучившись, – то руки обрываются, то ноги скользят, – он наконец оседлал стену и переметнулся через нее.
Утопая в снегу, Илья добрался до пихтовой аллеи… и разом остановился: как-то чуждо, непривычно показалось ему здесь. Раньше стоило войти в аллею, и ласковый свет из окна точно согревал ночную темень. Сейчас огня в окнах не было.
Он зашагал к флигелю, дивясь, что идет по целому снегу: «Видно, не пользуются калиткой, Сергей перестал разметать дорожку».
Илья поднялся на террасу, постучал ногтем по стеклу. Никто не отозвался, никто не приник к окну, чтобы рассмотреть ночного гостя. Он постучал громче, прислушался… и только тут заметил, что на окне нет занавески. Замерзшее темное окно сказало ему, что дом опустел.
Выбравшись из сада, он постоял в переулке, соображая, куда же сейчас ему идти. Он чуял недоброе… К Ирине ночью ворваться нельзя. Он перебрал в памяти всех товарищей, но не знал, здесь ли они или в ссылке, в тюрьме. Приходилось ждать до утра. Илья пошел к матери.
Она встретила его так, словно он воскрес из мертвых:
– Приехал! Приехал, Иленька! Я вся изволновалась…
– Да отчего же, мама?
Старушка оглянулась боязливо по сторонам, хотя они были одни в ее маленькой квартирке.
– У Бариновой квартирантов арестовали, – прошептала она, – я ей примерку принесла, шубу – атласное сукно, на белке… соболий воротник… но фасон, фасон безвкусный, – что с нее спросишь?.. Она говорит…
И мать, как умела, передала слова Бариновой: «Я ему верила!.. Страмина он, подвидной! Опозорил он мой дом! Вот тебе и Сергей Иваныч! Так бы вот взяла да всю рожу ему вилкой истыкала бы… А ты за своим– то поглядывай, мать моя! Знать-то они одного поля ягоды с Сергеем-то… Недавно твой приходил с барышней, с Албычевой сюда… Смотри!»
Но так и не сказала Светлакова сыну, как униженно она просила Баринову не говорить никому о визите Ильи и о подозрениях, как рассыпалась в благодарностях, когда купчиха пообещала молчать об Илье.
– Иленька, радость моя! Мучение мое! Будь осторожен!
– Буду осторожен, мама, – сказал сын.
Илья почти не заснул в эту ночь. Мать тоже не спала. Несколько раз принималась она расспрашивать его о визите к профессору.
– Да ведь я сказал, мама: он признает малокровие.
Ни за что на свете не передал бы Илья матери слова профессора Владимирского о крайнем истощении.
– Иленька! Знаешь, кто еще арестован? – сказала мать, прерывая тонкий сон Ильи… – Вадим Солодковский!
– Ну, уж это они промахнулись, – в полусне усмехнулся Илья.
Через несколько дней Илья выяснил размеры провала: забрали всех членов комитета, технику, казначея. Организации на предприятиях уцелели.
Ущерб нанесен большой, и много понадобится труда, чтобы опять «пустить машину».
Об этом беседовал Илья с Ириной в своей сводчатой комнатке вечером, когда сумерки еще боролись с дневным светом.
Отойдя к окну, Илья медленно заговорил:
– Да, Ира, я должен, хоть мы и условились не говорить о личных делах… Ты должна знать…
Он не договорил, опустил взгляд, но тут же, точно рассердившись на свое малодушие, вперил в нее строгие глаза.
– Ты должна знать, Ира, что венчаться я никогда не буду.
– Венчаться?
На миг перед Ириной мелькнула вуаль, восковые цветы, букет – все поэтические атрибуты свадьбы… Но ни вздоха сожаления не позволила себе девушка, ни удивленного взгляда. Она поняла, что наступила решающая, поворотная минута… и с легким сердцем отказалась от своей мечты.
– Но невенчанная ты будешь в ложном положении.
Она прошептала:
– Гордиться буду таким положением!
…И вот Илья стоит в своей комнате один… он еще слышит последние слова невесты, ощущает ее присутствие… Самый воздух, кажется ему, согрет ее дыханием…
Но чувствуя ее присутствие, свою неразрывную связь с нею, он думает сейчас не о личной их судьбе. Эта судьба решена. Больше нет места сомнениям и колебаниям!
Илья думает о революционной борьбе.
Не стало областного комитета. Разгромлен и городской комитет.
Зимой трудно будет провести большое собрание и выборы. Надо кропотливо, осторожно собирать силы, восстанавливать связи. И почувствовал, что большое, сложное дело собирания сил ему по плечу.
VII
За несколько дней до провала комитета Вадим Солодковский пришел к Рысьеву. Хозяйки не было дома, и приятели могли говорить не стесняясь.
Рысьева удивило настроение Вадима, его независимый вид.
– Сияет, как медный грош, – сказал насмешливо Рысьев. – Ну, садись рассказывай!
Вадим загадочно улыбнулся:
– Да что… вот на службу привинтился… в горное управление.
– Ага! Мы теперь – люди независимые! Взрослые!
– Смейся!..
– Дяденька поддержит… повытянет нас за уши, и пойдем мы вышагивать по служебной лестнице, только держись!.. У нас уж и теперь в предвкушении рожа замаслилась, как блин. Заарканим богатую невесту и будем сыты, пьяны и нос в табаке! Признавайся, Вадька, – продолжал он, – это куда приятнее, чем судьба подпольного работника. Скажи спасибо мне. я отговорил тебя от революционной работы.
Юноша обиделся.
– Почему думаешь, что, если я поступил на службу, мои идеалы изменились? И, во-вторых, ты не отговаривал меня, а отказался ввести в подпольный кружок, – это вещи разные. Но знай: меня глубоко оскорбило твое недоверие.
– Чудак! Я тебе русским языком сказал: не имею отношений с подпольщиками! Ожегся один раз, больше, мамочка, не буду!
– Значит, не я, а ты изменил идеалам.
Рысьев молчал, грыз ногти, насмешливо поглядывал на Вадима.
– Идеалы! – наконец сказал он. – Хочешь, скажу, кто мой идеал, мой образец и все такое? Епископ Николай, вот кто! Не знаешь такого? Фофан ты! Мало читаешь. «Борьбу за престол» Ибсена читал?








