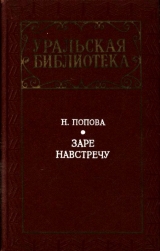
Текст книги "Заре навстречу (Роман)"
Автор книги: Нина Попова
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 25 страниц)
– Мать! А если мне мрамором заняться? Сидел бы, ширкал бы беззубой-то пилой?
– Не мели-ко, отец, чего не скислось! Мрамор-от не с неба падает, его выворотить надо да привезти… и себя и коня надсадишь… А куды мы без коня?
– Верно, мать! – опустив кудрявую голову, грустно отвечал Ефрем Никитич. – Ну, а если камешками заняться? Камешки искать? Ходи день-деньской по вольному воздуху! А? Глаз, сама знаешь, у меня востер!
– К этому делу, старик, с малолетства приучаются!
– И это верно говоришь! Ведь мне – что? Мне бы только первое время перебиться, силушки подкопить… Платинка-то, она лежит в земле, ждет меня, матушка!.. Обожди, мать, распыхаемся и мы с тобой, заживем… милых дочерей наградим за их любовь, за ласку…
Зиму кое-как старики прожили с помощью дочерей и родни.
Ефрем Никитич нанимался к Кондратовым – возил мясо в город, купцу-мяснику. Старушка пряла, вязала чулки и шарфы. Бабы платили хорошо: одна яичек принесет, другая кус мяса, третья крупы на кашу или овсеца сыпнет…
Девушки заказывали ей кисеты с вышивкой. Каждая хотела подарить своему милому дорогой кисет, а вышивать дома стеснялась.
Так дожили до весны. Весной Ефрем Никитич решил:
– А займусь-ко я, мать, бураками! Деревья в соку, кору сдирать легко, – наготовлю снимков и стану потихонечку-помаленечку работать. Все копейка в дом.
В лес с Ефремом Никитичем поехала и старушка, костер развести, варево сварить, за гнедым Бабаем приглядеть, чтобы не зашел в рамень или в шурф не оступился.
В лесу старик повеселел, запосвистывал. Выбрал гладкую березу, свалил, отрубил вершину, принатужился, поднял бревно, положил одним концом на пенек. Сердце у него не очень зашлось – значит, силы прибывали.
Дальше работа пошла легкая. Он сделал вокруг ствола надрез, просунул тонкую лопаточку-сачалку между дубом и древесиной, стад осторожно водить ею вокруг ствола, все дальше и дальше проникая под кору. Отделив, он бережно снял кусок коры, как муфту, стал мять в руках, чтобы дуб отпад от нее.
Он не мог налюбоваться десятивершковым снимком, вставь дно, сделай крышку – и бурак готов!
Проработав допоздна, Ефрем Никитич привез домой множество снимков и берестяных сдирков, чтобы снаружи покрыть ими бураки.
До косовицы успел Ефрем Никитич и бураков наделать и дом починить. Летом он немножечко пошерамыжил, намыл платины, сколько ему было под силу, продал ее лысогорскому богачу Ухову. Зиму они со старухой прожили сытно.
Потихоньку от упрямого Романа Самоуков не один раз подкидывал деньжонок Анфисе.
К весне тысяча девятьсот двенадцатого года деньги кончились, но Ефрем Никитич не тужил. Котельников уверял его, что правда восторжествует – земли будут признаны крестьянскими.
Летом Роман Ярков взял гулевые дни, чтобы помочь тестю на покосе. Анфиса с двухмесячной «Марьей Романовной» должна была домовничать в Ключевском, а старушку мужчины увезли с собой кашеварить.
Покосы ключевского общества расстилались в широком логу, вдоль речки Часовой, за Медвежкой, за сосновым бором, над которым высилась Большая сосна.
Медвежка – любимое место жителей Ключевского.
Весной ребятишки бегали туда за пестиками, за крупинками, потом – за мохнатыми пиканами, за полевым луком для начинки вкусных, но резко пахнущих пирогов.
На просеке рано поспевала земляника. Теперь первый «слой» ее уже сошел, – у пеньков кое-где лишь можно было увидеть ссохшуюся темно-бордовую ягоду. Зато в бору земляники хоть ведром черпай! Крупные, душистые, влажно блестели ягоды, точно рассыпанные щедрой рукой. Кустистый нежно-зеленый черничник скоро будет усеян сине-черными ягодами… Отойдет черника, – есть места, где богато будет брусники… Это все в бору. А в зарослях, по берегам Часовой, в потаенных местах, зреет смородина черная и кисленькая красная. На высоких кустах видимо-невидимо буроватых ягод черемухи.
Много на Медвежке грибов. Весной ходят сюда за масленниками. В жару, после дождей, напрело много сыроежек, груздей, обабков. Ближе к осени появятся рыжики, а еще позднее опенки высыплют на просеке.
У самого леса над склоном, приткнувшись к сосенке, стоял невысокий балаган Самоуковых – шалаш с тесовыми стенками и дерновой крышей. Почти у входа чернела плешь прошлогоднего кострища.
Любо было глянуть отсюда на дальние лесистые синие горы, на прохладный блеск Часовой, на зеленую ширь покосов, оживленную яркими пятнами платков, рубах, юбок… Зной. Безветрие… Звякают боталами стреноженные кони, кричат птицы, кричат ребятишки, скачущие по приволью, как козлята, слышится девичий смех…
Вечерами девушки своей компанией, парни своей купаются в речке, а потом собираются все вместе, играют песни на берегу.
Роман, как и подобало женатому мужчине, не шел на берег, хоть и поглядывал временами в ту сторону, подпевал вполголоса. Впрочем, Самоуковы недолго оставались одни. После ужина несколько мужиков собралось у них, чтобы расспросить Романа, что нового слышно в городе, о чем в газетах пишут. С той поры, как арестовали и увезли неизвестно куда старика учителя, не с кем стало словом перемолвиться. Крестьяне уважали Котельникова, но он приезжал не часто и всегда впопыхах.
Разговор шел о ленских событиях и деле Бейлиса, о приближающихся выборах в четвертую Думу, а главное – о стачечной борьбе рабочих. Роман, как умел, отвечал на вопросы, стараясь, чтобы слушатели поняли антинародную линию правительства.
Ефрем Никитич зятя не прерывал, а только время от времени покрякивал и задевал его локтем: «Поосторожнее бы, сынок!»
– А скажи ты мне, братец, кто такие про… про… – забыл, как их зовут, – протресисты ли, как ли. Их Семен Семеныч Котельников хвалит, – спросил Чирухин, высокий молодой мужчина.
– Прогрессисты? Это, которые себя друзьями рабочих зовут? В центральном комитете этой партии сидит, например, Поплавский. Он немало потрудился: черные списки писал, забастовки срывал! Там же другой вампир – фабрикант Четвериков… этот устроил кассу борьбы с забастовками… да ну их к ляду! – Роман нетерпеливо взмахнул рукой, будто отбросил всю эту шваль, и продолжал задушевным тоном: – Одна только фракция социал-демократов борется за народ! Вот послушайте, братцы, чего добивались эти борцы…
Он с жаром рассказал о втородумской фракции, о суде над депутатами, о работе фракции в третьей Думе.
– Вот скоро начнутся выборы в четвертую Думу… С умом надо выбирать, братцы!
– А мы че? Мы люди темные, нам кого скажут, того и выберем, – сказал пожилой, сгорбленный, весь заросший волосом мужик с недоверчивыми узкими глазами. – Ну, братцы, хватит, послушали побасенок, айда-те спать! Кичиги-то, глядите, где-ка!
Он встал и пошел медвежьей походкой по склону. За ним потянулись и другие. Остался с Романом один Чирухин.
Торжественно спустилась ночь. Затихли песни. Перестала скрипеть выпь за рекой. Потянуло холодком, погас костер. А они все еще разговаривали, освещенные красным светом углей…
Но вот и Чирухин ушел. Роман потянулся, напился квасу и, наклонив голову, вошел в балаган, где, лежа на шубном одеяле, тихо бредила во сне старушка. Ефрем Никитич еще не спал.
– Зря, сынок, ты поносные слова про сенат говоришь: сенат дело правит по-божески, по-справедливому.
– Чем тебе, папаша, сенат помог?
– А как не помог! Охлопкову-то кукиш натянул!
– Обожди и тебе натянет! Эх, папаша, папаша! Мало, видно, тебя в тюрьме томили… недодержали еще!
– А что – в тюрьме? – добродушно сказал Ефрем Никитич. – В тюрьму я из-за Катовых попал да из-за своего долгого языка. Не язычить бы мне с урядником, ко мне бы ничего и не прилипло. А начальство… оно свое дело исполнило: надо было виноватого найти…
Роман махнул рукой. Они замолчали, легли спать.
XI
Время близко к полудню. От земли – пар. Жарко блестит река. Только голубые горы да снежные облака кажутся прохладными… В пеклой жаре слышнее запахи вянущей травы, аниса, лабазника. Пахнет сосной, пахнет дымом, который лениво тянется от костров, почти не видимых при солнце. Стряпухи, вытирая фартуками потные лица, крошат кислую капусту и лук в деревянные чашки, режут на крупные куски пшеничные булки и калачи, варят кашу и сушеную рыбу-поземину или щи из солонины, а то из вяленой свинины.
Косцы нетерпеливо поглядывают на солнце и на стряпух. Ленивее запомахивали литовками девицы. Ни песен, ни разговоров, только свистящий шум литовок да крики ястреба-канюка…
– Что это, Романушко, будто кто едет сюда? – слабым от жары голосом спросила теща и указала пальцем на дальнюю дорогу.
Роман оторвался от бурака с квасом, стал всматриваться. Опершись на косу, посмотрел в ту сторону и Ефрем Никитич.
На двух подводах в широких коробках-плетенках ехало несколько человек. Мужики узнали осанистого нового старшину Николая Кондратова, сухонького, как сморчок, писаренка, земского начальника, стражника и урядника.
– Что-то в Зуевой содеялось, начальство туда покатило, – сказал Ефрем Никитич. Но подводы остановились, седоки вылезли и пошли к покосам, путаясь в густой траве.
Кондратов крикнул:
– Э-эй, православные!
Тяжело дыша, с встревоженными лицами сгрудились мужики перед начальством. Ворота у всех были расстегнуты, косы положены на плечо. Бабы, прижимая к себе ребятишек, стояли поодаль.
– Мужички, – металлическим голосом объявил белокурый земский, обводя всех начальническим взглядом, – вышло решение: не-медленно обменить эти покосы на другие покосные угодья, отведенные и отмежеванные заводоуправлением еще два года назад! Об этом вам было объявлено не однажды, но вы упорствовали, противились… Прекратить косьбу!
Прошла минута какой-то тревожной, кипящей тишины, и враз все загалдели, замахали руками:
– Незаконно! Сенат указал!
– С будущего года, если что…
– Смилуйтесь, отцы родные! Труды ведь! Пот, кровь!
– Жаловаться, жаловаться! До царя дойдем!
Некоторое время белокурый земский спокойно стоял среди кричащей толпы, не отвечая на просьбы и угрозы. Потом он скомандовал:
– Старшина… Или нет… Афанасий Иванович, прикажите стражнику отобрать косы… если русского языка не понимают. А ты, старшина, прикажи писарю всех их переписать… Вечером соберешь сход.
Стражник шагнул к мужикам. Грозно повел сивыми усами и схватился за литовку Самоукова. Тот не выпускал.
– Отдай! Начальство приказывает!
Распоясанный, с расстегнутым воротом, со взъерошенными кудрями, Ефрем Никитич вдруг тяжело и быстро задышал, стал пепельно-серым. Не своим голосом сказал:
– Не шаперься! Литовка вострая… не порезаться бы тебе!
– Грозить?! Да я вас! – блажным криком закричал урядник Афанасий Иванович, побагровел и затрясся.
– Никто не грозит, – вмешался Роман, заслоняя тестя, – но пусть стражник ваш не лезет туда, куда голова его не пролезает. Понятно?
– Дураки, – лениво сказал земский начальник. – Не хотите, наложим штраф за самовольное сенокошение. Писарь, перепиши их всех!
– Меня не пишите! Я согласен! – со слезами в голосе крикнул заросший волосом мужик, который ночью спорил с Романом. – Да будь оно проклято!.. Жизня вся…
Наступила тяжелая тишина.
Вдруг послышался в этой тишине быстрый топот копыт, и все увидели скачущего верхом Котельникова. Он подпрыгивал, взмахивая локтями. Лошадь была в мыле. Котельников спрыгнул, но не удержался на ногах, упал, поднялся и побежал к мужикам. Все увидели, какое у него отчаянное, потное и пыльное лицо.
– Друзья мои, – истошно закричал он, – неправда победила! Министр внутренних дел взял сторону завода! Все погибло!..
Он истерически зарыдал, сжал руками голову и побежал в лес.
XII
Выслушав на кухне плачущую старушку, отец Петр завернул в епитрахиль запасные «дары», надел рясу и поспешно пошел к двухэтажному дому Кондратовых.
Маленькая, сухонькая старушонка, в заплатанной кофте, в широких обутках на босу ногу бежала за ним дробными шажками.
– Сам-от с Тимофеем на сходку ушли… а на сватью мне-ка наплевать, – говорила она, трусливо и жалобно глядя в затылок священнику. – Я и думаю: спокоить надо Манино сердечушко! А ругаются – пусть ругаются!
– Они что, без исповеди хотели ее на тот свет отпустить? – строго спросил отец Петр. – Дотянули чуть не до последнего дня!
– Не знаю, батюшка, что к чему… Может, думали, что, мол, потом… в смертный час… глухую исповедь…
– Вот я им задам «глухую исповедь»! – горячился он. – Вот опоздаем мы с тобой, умрет без покаяния, ни за что отпевать не буду!
– Кровопивцы они! – пискнула старушонка.
Отец Петр вошел во двор, уставленный высокими амбарами, каменными кладовками. Из завозни, где поблескивало в полумраке лакированное крыло летнего экипажа, выскочил пес, забрехал гулким басом. Длинная цепь, передвигаясь по железному пруту, позволяла ему бегать чуть не по всей ограде, но не допускала до ворот и крыльца.
– Перестань, дурак! – ласково сказал отец Петр, но пес совсем осатанел и стал царапать когтями по воздуху. Тогда священник сердито крикнул – Уймите собаку!
Из-за угла выглядывал Сережка, младший сын Кондратова, но собаку не унимал.
Из конюшни вывернулся батрак, схватил полузадохшегося пса за ошейник. На крыльцо вперевалку выбежала безбровая широколицая Кондратиха и остановилась, с ужасом глядя на священника.
– Батюшка… Милости просим!.. Мужиков-то вот нету… Я не знаю… послать ли, что ли, за ними…
Она задыхалась от волнения.
– Чайку выпить… пожалуйте…
– Я не чаи пришел распивать, – строго произнес отец Петр, переступив порог устланной шерстяными полосатыми половиками прихожей.
Из прихожей три двери вели в комнаты. Кондратиха распахнула дверь столовой – комнаты, которая служила не для еды, а только для приема гостей.
Отец Петр в столовую не пошел, – заглянул в боковушку– в спальню молодых Кондратовых. Бывая а крестом и кропя святой водой весь дом, он знал эту глухую маленькую горенку, с сундуками, покрытыми тюменским мохнатым ковром, с двуспальной кроватью под ярко-сиреневым одеялом.
В спальне было пусто.
– А где болящая? – строго спросил отец Петр.
– Да вы пожалуйте, батюшка, в столовую.
– Где болящая, я спрашиваю?
Стонущий глухой голос ответил ему откуда-то:
– Здеся я…
Звуки шли из-за третьей двери, из спальни самих хозяев. Отец Петр удивленно взглянул на Кондратиху. Та заплакала.
– Перевела ее к себе… Тима, он – мужик… он лягет да заснет… а ей напиться или что… Сама хожу… как за дочерью… Бог видит!
«Нет, тут что-то не то, – подумал отец Петр, – похоже, боится с глаз спустить…»
За ширмой в темном углу, на узкой опрятной койке, лежала молодая сноха Кондратовых. Уход, по-видимому, был за нею хороший. Эта исхудалая женщина в последнем градусе чахотки была умыта, причесана, прибрана как полагается.
– Думала, совсем не придете, – тихо, с горьким упреком сказала больная. – Все вам некогда… Думала – без покаяния…
– Ко мне сейчас только пришли, сказали, что ты, Марья Кузьмовна, желаешь исповедаться. Я сейчас же и пошел.
Говоря это, отец Петр смотрел не на больную, а на ее свекровь. На растерянном лице у той выступили красные пятна.
– Фершел не велел ее тревожить, мы и…
Опять она не договорила… Посуда зазвенела в ее неспокойных, пухлых руках. Маня всхлипнула:
– Так это вы не допускали! Бог тебе судья, мамонька…
– Мужики-то нас с тобой… – пробормотала тихо Кондратиха, приглаживая волосы снохе. – Ты, Маня, лучше бы повременила… не сейчас умирать-то.
– Выйди отсюда, – приказал отец Петр Кондратихе, – и последи, чтобы ни одна душа не помешала таинству исповеди!
Кондратиха нехотя вышла из комнаты в прихожую и стала, ступя не ступя, спускаться по лестнице вниз. Отец Петр сам закрыл на крючок входную дверь и дверь спальни.
Он помог Мане подняться, сесть. Она повесила голову на грудь. Он накрыл эту опущенную голову узким полотнищем епитрахиля, прочел молитву, в которой говорилось, что сам бог стоит тут и слушает ее исповедь. Стал задавать обычные вопросы.
Из-под темного, прочеркнутого позументным крестом епитрахиля, пропахшего ладаном, слышались всхлипы и прерывистый шепот:
– Грешна… грешна…
– В чем еще ты грешна? – задал обычный вопрос священник и получил необычайный и как будто не относящийся к делу ответ:
– Блазнит…
– Объясни! – сказал он добрым, отеческим голосом.
Прерывистым шепотом умирающая рассказала ему, как она жила в этом самом доме «пострадкой»-батрачкой, как Кондратовы, когда было кругом «пьяным-пьяно», волокли стражника и урядника в конюшню, как те мычали, стонали… и стонут до сих пор каждую ночь…
– Это совесть твоя стонет, – сказал потрясенный священник дрожащим голосом. – Выходит, Самоуков безвинно пострадал?
– Я, грешница, дяденьке Ефрему не смею в глаза глянуть… Простит ли меня господь?
Он помедлил.
– Если ты искупишь свою вину, восстановишь справедливость, господь тебе простит. Искупить надо.
– Как?
– Объявить начальству.
Больная затрепетала. Она отбросила епитрахиль, схватила холодными, потными пальцами руку священника. По лицу, по шее высыпали вдруг пупырышки, как от холода. В глазах стоял ужас.
– Они… тогда… меня кончат, батюшко… много ли мне надо… как куренка…
Он погладил ее по голове.
– Не бойся! Волосу не дам упасть! Завтра приду к тебе с властями, запишем твое показание… И к родителям тебя перевезем.
Она мелко-мелко задрожала.
– Ой, нет! Тима-то… Тимошу-то тогда засудят ведь!
– Засудят. Он должен пострадать за свой грех.
– Батюшка, родимый, пожалей ты меня! Ослобони!
– Я жалею, – сказал растроганный отец Петр. – Но и ты пожалей свою душу. Кого ты жалела и укрывала? Убийцу! Из-за вас невинный человек какую муку принял? Как ты думаешь, может бог это простить? «Ладно, мол, Марья, так и быть, иди себе в рай»… Нет, он не простит.
Маня уронила голову. Плечи опустились. Она сидела покачиваясь, едва не падала.
– И свою душу погубишь и мужа, – строго сказал отец Петр, – он не пострадает, так не раскается. Будет гулять, да пить, да баб ласкать, а о душе не подумает.
– Ладно, – прошептала Маня, – зови…
И повалилась навзничь.
Отец Петр снова накрыл ее епитрахилем.
– «Разрешаю ти, чадо…» – прочел он отпущение в грехах и, сняв епитрахиль, увидел, что наступила агония.
Он перекрестил ее, позвал домашних и стал читать отходную.
Выйдя от Кондратовых, отец Петр пошел не домой, а к волости, откуда несся смутный гул голосов. Сам не знал, зачем идет туда. Может быть, надежда толкала его: «Скажу, что жена умерла, Тимофей домой поспешит… Тут я с ним и поговорю… Не камень же он…» Только сейчас, в минуту потрясения, можно пробудить в этой черствой душе человеческие чувства.
Если же нет, если Тимофей не сознается сам, никто никогда не узнает имен преступников. Сам отец Петр был бессилен: он не смел, не мог нарушить тайну исповеди. Сознание бессилия, мысль, что он не может восстановить справедливость, раздирали ему сердце.
Он вошел в раскрытые настежь ворота на волостной двор.
У крыльца за столом сидели земский и писарь. Перед ними неспокойной и шумной толпой стояли мужики. Старшина Кондратов, стоя на ступеньке, держал речь. Даже в этот душный вечер он не снял суконную поддевку и только ежеминутно вытирал лицо платком.
Отец Петр поискал глазами Тимофея. Тот сидел в отдалении под навесом, на передке пожарной машины. Вид у него был скучающий.
– Твоя жена скончалась, Тимофей Гаврилыч, – вполголоса сказал священник.
Ничего не отразилось на грубом лице Тимофея, только узкие глаза враждебно насторожились.
– Отмаялась, – сказал он равнодушно, – царство небесное! В таком случае мне надо домой пойти.
– Постой!
– Чего мне стоять, ваше преподобие? Посудачить надо, так пойдемте… нечего людям мешать.
Последние слова заглушили шум и крики.
– Э, да ты догадлив! – сказал отец Петр громко, раздраженный спокойной наглостью Тимофея. – Знает кошка, чье мясо съела! А если я не пойду с тобой, а вот сейчас, перед всем честным народом возьму да и скажу, в чем мне твоя покойница призналась.
Тимофей не дрогнул. Ни одна черта его не шевельнулась, но лицо налилось кровью, и шея враз стала короче и толще.
– Бабы – дуры, они такое наскажут… Но я одно знаю: чего на духу сказано – поп молчать должон.
Тимофей почтительно поклонился и хотел уйти. Отец Петр удержал его, положил руку на плечо.
– Опомнись! Раскайся! Как умирать будешь?
Медленным движением Тимофей отвел локоть, и плечо его точно ушло внутрь. Отец Петр снял руку.
– Просим вас заупокойную всенощную отслужить, – сказал Тимофей, уходя.
Отец Петр так и остался на месте, точно взгляд – насмешливый, грозящий – заморозил его.
– Н-ну и зверина лихая! Как тот пес! – прошептал он про себя…
– И кто это смеет говорить, что-де не подпишусь? – громко и раздельно продолжал старшина. – Бесстыжий варнак говорит, тюремщик! А вы, мужики, слушайте! Господин министр приказал, и мы без разговоров обязаны обменять земли. Мне, думаете, самому не жалко покоса? Но понимаю! Поспорили, поговорили, хватит! Так, старички, принимаем?
Богатенькие, всегда державшие сторону начальства, закричали:
– Принимаем! Принимаем!
Но большинство не соглашалось:
– Эку даль ездить!
– У меня дарственная!
– Не согласны! Не согласны!
– Ваше благородие, – сказал Ефрем Никитич, выступив вперед, – если законно, так и без нашей подписки законно. А если без подписки незаконно, – не подпишемся, что ты хочешь делай!
Он стоял, высокий, худой, в той же распоясанной холщовой рубахе, как был на покосе. Цыганское лицо побледнело, но не от страха, а от гнева.
– Э, да ты, я вижу, впрямь опасный человек! Посмотри, старшина, глаза, как у волка, горят… Это он сегодня грозил стражнику «вострой» косой?
– Он.
– Мы все грозили! – крикнул молодой мужик Чирухин, загораясь гневом. – Что вы к нему привязались, в самом деле?
– Помолчи, Чирухин, – сказал старшина, – постарше тебя есть люди тут!
– Покорись лучше, Самоуков, – сказал земский, – а то мы можем тебя и из пределов губернии выслать! Есть еще за ним замечания?
– Ишь, зубами, злой, кирчигает, – сказал старшина. – Научился в тюрьме-то людей пужать.
– За что он в тюрьме сидел? – заинтересовался земский.
– А за душегубство, – не моргнув, ответил старшина, – один двух ухайдакал, стражника и урядника. И зять у него в тюрьме сидел… за крамолу.
Не мог больше вынести отец Петр.
– Старшина! – задыхаясь от возмущения, крикнул он, и вся толпа повернула к нему головы. – Как ты смеешь, старшина! Разве он убивал?
По толпе шелест прошел… Старшина точно онемел и несколько раз провел по лбу скомканным клетчатым платком. Лоб у него побледнел, а покрытые загаром щеки пожелтели.
– Что вы имеете в виду, батюшка? – недружелюбно спросил земский. – Ведь факт, что он сидел!
– А невинные разве не сидят? – запальчиво спросил отец Петр. – Преступление не доказано! Я уверен, что Самоуков не убивал! Больше не могу… не имею права сказать…
Он с болью оглядел лица, обращенные к нему, и ему показалось, всем теперь ясно, что он имеет в виду. А не ясно сейчас, поймут завтра, когда узнают, что на сход он пришел от Кондратовых, где исповедовал Маню. С надеждой глядел на него Самоуков. Отец Петр о трудом отвел от него глаза. Слова обличения так и рвались с языка… Боясь, что не совладает с собой, отец Петр поспешно пошел к воротам. У ворот остановился, оглянулся и, грозя пальцем, крикнул:
– Накажет бог убийцу! Найдет!..
В крайнем раздражении возвратился домой отец Петр.
Попадья бросилась ему навстречу. Брови у нее стояли вертикально, подбородок дрожал.
– Нарочный приезжал от отца благочинного… владыка по епархии ездит, скоро здесь будет!
XIII
Архиерей Вениамин любил показать свою власть, любил попов покорных, любил блеск, пышность… В поездках по епархии его сопровождал клир (хор) в полном составе. С ним ехала вся его свита: звероподобный отец-протодьякон, сутулый льстец-ключарь, прозванный за мздоимство и мстительность Ванькой Каином, красавец послушник с льняными кудрями и синими подглазницами, сумрачный эконом, шпионящий за всеми, вплоть до самого «владыки», и толстый повар-весельчак.
Архиерейский поезд в селах и заводах встречали, как крестный ход, колокольным веселым трезвоном «вовся». Духовные лица вместе с домочадцами, трепеща, шли под благословение – целовали пухлую, обезображенную экземой руку Вениамина.
Обычно архиерей останавливался у настоятеля церкви вместе с ключарем, экономом, послушником и поваром. Хор и протодьякон размещались в домах остальных членов причта, у второго священника, у дьякона или у церковного старосты, если тот был из богатых мужиков.
Такие поездки были приятным развлечением и для архиерея, и для его свиты, но надолго выбивали из колеи духовенство епархии.
Перед приездом владыки срочно белили и мыли церковь, начищали до блеска потускневшие подсвечники и паникадила. В доме настоятеля спешно оборудовали «покой» для преосвященного. Комнату чистили, скребли, украшали. Сами хозяева спали эти ночи в бане или на сеновале. Малышей растаскивали по соседям, а старшим ребятишкам вдалбливали житие святого, чье имя носит ребенок, проверяли, помнит ли он молитвы, тропари, знает ли числа двунадесятых праздников и царских дней. Горе и срам тому отцу, чье чадо не ответит на вопрос преосвященного… горе и самому чаду, выпорют его так, что всю жизнь будет помнить архиерейский приезд!
Хозяева квартир, предназначенных для хора, озабочены другим: надо купить водки, наварить побольше хмельного пива, запасти для этой прожорливой саранчи съестное. О чистоте и украшении покоев здесь не думают, – все равно пьянчуги загадят все комнаты, хоть скребком чисти после них! Малых ребят уносят в соседи, чтобы от звериного рева не случился родимчик. Удаляют на эти дни из дома и молодых девиц.
Перед отбытием владыки в другое село староста вскрывает одну или две церковные кружки, – надо дать сотни две-три ключарю Ваньке Каину. Это называется «пожертвованием на хор». Взятку обычно вручает сам настоятель церкви.
– Которую кружку распочнем? – пугливым шепотом спросил староста отца Петра в день отъезда архиерея…
– Никоторую! – ответил тот резко, с сердцем.
– А как же?
– А вот так же… пусть облизнется да и утрется!
– Так и не дадите ключарю, батюшка?
– Отчего не дать? Дам… на пиво… Пусть соловьиные горлышки промочат. Но кружку распечатывать, староста, не смей! Не велю!
Отец Петр скрепя сердце выполнял весь ритуал приема. Его раздражала пугливая услужливость жены и то, что дочь с благоговением взирает на капризного старика епископа и на смазливого послушника.
Отцу Петру казалось, что архиерей чувствует недружелюбное отношение своего хозяина, отвечает ему тем же и всячески старается принизить его. То пустится в длинный разговор, не приглашая сесть… а без его разрешения не рассядешься!.. То, глядя на висящее в рамке над столом свидетельство о награждении набедренником и скуфьей, посетует, что долго не может выслужить отец Албычев себе камилавки… И неуловимо даст понять, что тут характер виноват… Могла бы быть и камилавка!
В день отъезда преосвященный пообедал, приказал закладывать и пригласил отца Петра в сад, чтобы поговорить с ним наедине.
Они прошлись раза два по недлинной рябиновой аллее. Архиерей сел, а отец Петр остановился перед ним, утешая себя тем, что уже считанные минуты остаются до отъезда, «потерплю еще…»
– Так вот, отец Петр, даю вам напоследок поручение… Это относится к предвыборной нашей деятельности… Прошу вас, до епархиального съезда представьте мне такие сведения: каковы ваши прихожане, что они представляют в смысле политической благонадежности!
– Ваше преосвященство, – сказал, приосанившись, отец Петр, – благоволите обратиться по сему вопросу к жандармам! Тайна исповеди священна, – коротко добавил отец Петр.
– «Тайна исповеди», – брюзгливым старческим голосом повторил владыка, – все-то он носится с тайной исповеди… Это у вас идея фикс! – Он пожевал губами, поморгал, почесал руку. – Вы должны знать, ваше преподобие отец Петр, что такие сведения даются не только о крестьянских десятидворках… и о вашем брате также! Вот! О влиянии священника на крестьян… о политических убеждениях… Я уже получил такие сведения!
– С чем и поздравляю, ваше преосвященство, – вставил дерзкий поп.
– Хор-р-ошие вещи я узнал об отце Албычеве! – продолжал архиерей, моргая и выбивая дробь посохом по земле. – Священник Албычев вмешивается в светские дела!.. Служитель церкви… которому по положению и по задачам надлежит стоять в стороне от мирской суеты…
– Позвольте осведомиться у вашего преосвященства, – с каким-то зловещим спокойствием заговорил отец Петр, заложив руки за спину и выставив вперед правую ногу, – пролезая в Думу, духовенство встает в сторону от мирских дел?.. Чем вы меня укорили? Тем, что я за справедливость борюсь?.. И дальше буду жить по велению совести!.. Одно мне больно, горько: не могу назвать убийцу по имени… не могу обелить невинного!
– Старшина умнее и тактичнее вас… Ему известно это имя…
– Еще бы!
– Но он молчит, так как считает Самоукова вредным членом общества, ну и не желает порочить умершего… его судит господь своим судом!
– Не понимаю вас… Какого умершего?
– Кузьму, кажется… отца своей невестки… убийцу, словом.
Некоторое время отец Петр молчал, разинув рот…
– Так он, прохвост, на покойника Кузьму свалил? – разразился он, получив способность говорить. – Кровопийца!.. Гадина!.. Обличу… Перед всем народом обличу!.. Кончилось мое терпение!
– И мое – также, – почти прошипел архиерей.
Через две недели жена отца Петра с горючими слезами провожала его на епархиальный съезд.
– Болит у меня сердце… болит! Боюсь я… батюшко! Богом молю: захочется тебе сгрубить или обличить кого, – подумай о дочери! Сдержись! Кабы мы одни с тобой были, а ведь у нас дочь… ее учить надо, на дорогу выводить!
Вера со слезами поцеловала отца и убежала в сад.
Невеселое вышло прощание.
Отец Петр взял саквояж и вышел за ворота. Пара коней ждала его. Коренником шел мерин, а в пристяжных – резвая дьяконская кобылка. Прежде чем садиться в широкий коробок, отец Петр огладил лошадок, проверил, не высоко ли на седле, как затянута супонь. Но вот он влез в коробок, плюхнулся на мягкое сиденье и сказал кучеру:
– С богом!
Они отъехали несколько десятков сажен, как вдруг послышался прерывистый женский плач и невнятное тихое причитание.
Из-за угла показалась странная группа.
Между стражником и сотским, сильно загребая левой, когда-то сломанной ногой, шел Самоуков. За ним бабы вели под руки жену. Она спотыкалась, как ослепшая, причитала надорванным, чуть слышным голосом.
– Стой! – приказал отец Петр. – Это что такое?
Все остановились. Сотский и стражник сняли фуражки. Стражник сказал:
– Приказано Самоукова отправить по этапу в Вятскую губернию. В волость его ведем.
– За что?!
– За правду меня, – горловым голосом сказал Ефрем Никитич.
– Самоуправство какое! – задохнувшись, произнес отец Петр и быстро выскочил из коробка, чтобы идти в волость. – Слушай, Ефрем Никитич, если я возьму тебя на поруки, не подведешь, обещаешь жить тихо-мирно?







